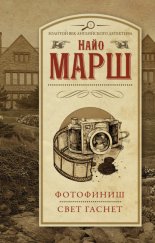Мне надо кое в чем тебе признаться… Мартен-Люган Аньес

После окончания занятий реабилитолог позвал меня в палату и перед уходом сообщил Ксавье свои планы.
— Через два дня мы тебя поднимем, Ксавье, — заявил он. — Тебе будет более чем полезно перейти в вертикальное положение.
Муж в ответ поморщился, он не был в этом уверен. Сделав свое предупреждение, реабилитолог вышел из палаты и оставил нас наедине.
— Хорошая новость? Как ты считаешь?
Никакого ответа. Ксавье долго собирался с силами, после чего все же заговорил:
— Ты встречала мужа женщины, которую я сбил?
Я едва не согнулась под свалившимся на меня тяжким грузом, и мне не удалось это скрыть.
— Ага, встречала… у тебя написано на лице… Ты не умеешь врать, Ава. Что с ней?
Мне было трудно уклониться от ответа, я молчала, но Ксавье довольно точно расшифровал мою реакцию.
— Плохо… да? Она в плохом состоянии?
— Послушай, Ксавье… мне известно, что ей плохо физически, что ее моральный дух на нуле, она не знает…
Я прикусила язык, поняв, что едва не совершила громадную ошибку. Чтобы защитить его, достаточно было выдать в общих чертах врачебное заключение, и ни слова сверх того.
— Чего она не знает?
Меня трясло. Ксавье ухватился за штангу над кроватью, постарался приподняться и приблизиться ко мне. В его глазах сверкала злость.
— Отвечай! — заорал он. — Скажи все, что тебе о ней известно!
— Ее зовут Констанс. Она скрипачка.
Он изменился в лице и еще сильнее вцепился в штангу, я испугалась, что у него лопнет вздувшаяся на предплечье вена.
— Ты говорила, что ее рука серьезно повреждена.
Я прикрыла глаза, чтобы мобилизовать всю свою храбрость, и тут же открыла их.
— Да, ладонь, локоть, ключица… и она не знает, сможет ли однажды взять в руки скрипку.
Он тяжело откинулся назад, застонал от боли и схватился за ребра. Я в панике бросилась к нему.
— Господи, Ксавье, ты что-то повредил себе… Я пойду за врачом.
— Нет! — завопил он. — Я заслуживаю мучений.
— Ты свихнулся?
Он вытянул шею и испепелил меня взглядом.
— А ты хотела, чтобы я отмечал день рождения?
Его агрессивная реакция заставила меня отшатнуться. Таким я его еще никогда не видела.
— Как ты смеешь говорить со мной о подарках, торте и охоте за сокровищами, когда я уничтожил жизнь этой женщины?
— А как насчет жизни твоих детей? — закричала я в свою очередь. — Она что, не имеет значения? Я понимаю, все это терзает тебя, но твои мысли больше занимает не известная тебе женщина, чем они! Твои дети! Разве я заблуждаюсь, Ксавье? Подумай немножко, не отвечай сразу. Потому что я не готова забыть твой ответ.
Он уткнулся в стенку, прячась от моих упреков.
— Оставь меня, Ава.
— Ты прав, я ухожу. Не жди меня сегодня днем, я не приду. Буду в галерее. Я нужна отцу, нужна Идрису, нужна моим авторам. А тебе, судя по всему, нет…
Мой голос сорвался, но я быстро взяла себя в руки, негодование подпитывало меня.
— Ты отказываешься от моей помощи… Ты не искупишь свою вину перед Констанс и Сашей, молча загибаясь на этой койке… Кстати, Саша — это ее муж.
Дальше мои нервы не выдержали, и я выскочила из палаты, хлопнув дверью.
Глава восьмая
Полчаса спустя я завернула за угол и застыла перед галереей. Я поняла, что лишила себя главнейшей составляющей своего существования. Работа в галерее жизненно важна для меня — эту мысль я подсознательно прятала от себя. И вот теперь она вынырнула на поверхность… Сегодня понедельник, все закрыто. Я огорчилась, что не могу поздороваться с соседями по моей улице, но нет худа без добра: так я избегала расспросов, для которых еще слишком слаба. Если здешние обитатели догадаются, что я совсем без сил, они кинутся помогать — для самых давних из них я все еще маленькая девочка, ведь на их глазах я росла и расшибала коленки на булыжнике мостовой. У двери я легко, на автомате, нашла в сумке ключ, который все это время лежал в ней. Когда я вставляла его в замочную скважину, моя рука задрожала от нахлынувших воспоминаний о вернисаже. О том, как радовался Идрис. И я. О реакции впечатленных его полотнами гостей. О растерянности отца, сообщившего мне о трагедии. Об испуге Кармен. О моем смятении. Все эти картины сменяли одна другую, сталкивались и переплетались. Я обязана отвлечься от них, ведь я пришла сюда не за очередной порцией потрясений. Тоске и переживаниям в галерее не место. Она должна оставаться святилищем. Войдя внутрь, я сразу почувствовала себя защищенной, недосягаемой, словно больницы, увечий Ксавье и его подавленности больше не было, а наша жизнь не рухнула. Я бросила на пол сумку и не спеша принялась заново осваивать свой мир, свою вселенную. Я обходила зал за залом, втягивала носом запахи краски, полотен, пробегала пальцами по скульптурам. Была приятно удивлена тем, что одна из работ Кармен продалась. Ни она, ни отец мне ничего об этом не сказали. А может, пытались, но я их не услышала. Одно из полотен Идриса тоже будет продано в ближайшие дни, а я и этого не знала. Я втайне обрадовалась, узнав, что моя картина покупателя не нашла. Она по-прежнему так же волновала меня, мощь эмоций, излучаемых ею, вызывала трепет. Вопреки тому, что я обещала Идрису, я бы огорчилась, узнав, что кто-то будет ею наслаждаться, тогда как я едва успела с ней пожить. Чем больше я прохаживалась по галерее, тем глубже погружалась в меланхолию, от которой меня знобило. Галерея была какой-то пыльной, заброшенной и совершенно не похожей на ту, какой она бывала раньше. И дело не в том, что был выходной: я нередко приходила в нее по понедельникам, но у меня никогда не возникало этого неприятного впечатления. До сегодняшнего дня. Я прислонилась к дальней стенке: отсюда было удобнее рассматривать все залы. Отец старался, как мог, но он отошел от дел четыре года назад, и у него было не столько энергии, сколько раньше, а глаз стал менее зорким. Повсюду лежала пыль, несколько лампочек перегорело, возле некоторых работ пропали этикетки, и их не восстановили, на столе я нашла стопку не вскрытых писем. Ни единого шороха — галерея, лишенная жизни, задыхалась. Хотя, возможно, это следствие того, что я ее временно забросила? Не обязательно. Я почти никогда не отсутствовала так долго. Во всяком случае, такого не случалось с безумного периода моих стажировок за границей. Обычно после трех недель летнего отпуска я без усилий втягивалась в водоворот нового сезона, и мне не требовалось долгой адаптации — я с места разгонялась до ста километров в час. При этом я не задавалась каверзными вопросами, и мне не приходило в голову, что кое-какие вещи нужно переделать или улучшить. Да я этого и не делала ни разу с тех пор, как возглавила галерею. А сегодня, когда я так надеялась, что с ней мне будет легче, что она поможет забыть о неприятностях, я удивленно хлопала ресницами, возобновляя знакомство с ней. Неужели я позволила галерее состариться, обветшать и ее угасание прошло мимо меня? Ответственна ли я за ее запущенность? Кто его знает, может, я все вижу в мрачном свете из-за своего душевного состояния… Хотелось бы, чтобы так, я бы с удовольствием на это понадеялась, но, боюсь, это был бы самообман. Я не могла позволить ситуации и дальше усугубляться.
Я закатала рукава и приступила к большой уборке. Главное преимущество хозяйственных дел — они освобождают мозги. И я этим воспользовалась. Убрав, я занялась мелкими починками, заменила лампочки, замаскировала, как могла, пятна на стенах — обязательно надо будет покрасить стены, — поправила криво висевшие картины, некоторые полотна перевесила на другие места. Чем активнее я обживалась в пространстве галереи, тем больше прекрасных произведений я замечала или, точнее, заново открывала для себя. Раньше я по привычке просто проходила мимо, а сегодня останавливалась возле каждого, как будто видела впервые. Ясное дело, тут же вспомнила и об их авторах, которых я надолго оставила без поддержки. Мне вдруг стало понятно, почему мои горячность и возбуждение, вызванные открытием Идриса, удивили мое окружение. Я так долго почивала на лаврах и жила за счет репутации галереи, что все, чем я занималась, как-то потускнело. Подсознание настойчиво подсказывало, что механизм заело, машина тормозит. Упадок начался до того, как я покинула галерею. Подрывная работа шла долгие годы. А я закапывалась головой в песок, изображая хранительницу храма и довольствуясь тем, что уже было построено и что я считала незыблемым. Полагала, что ничего и никогда не изменится. Что успех достигнут раз и навсегда… Но даже в историях большой любви ничто никогда не бывает гарантировано, и любовь нужно холить и лелеять, постоянно подпитывать ее. Осознание этого хорошо отражало и то, что переживали мы с Ксавье. Достаточно ли мы заботились друг о друге и о нашей любви до несчастного случая? Рутина, мелочи повседневности, взаимная уступчивость успокаивали нас, убаюкивали и усыпляли. Мы считали, что в нашей истории уже все состоялось, но авария опровергла наши заблуждения и поколебала убежденность в том, что у нас все хорошо. Так ли хорошо, как я полагала?
В любом случае я пришла к выводу, что уже давно не заботилась о галерее должным образом. В результате последняя конструкция, державшаяся на единственной ниточке, этой ночью тоже рухнула. Наша жизнь и так разваливалась на глазах, поэтому я не могла себе позволить потерять еще и галерею. Ведь репутация уничтожается гораздо быстрее, чем завоевывается.
Мои опасения подтвердились, когда я впервые после перерыва внимательно прочитала электронную почту и ту переписку, которую достаточно хаотично вел с недовольными авторами мой отец. Заодно выяснилось, что я лишилась доверия нескольких коллекционеров. Их эгоцентризм был мне хорошо известен: с их точки зрения, я не имела права на ошибку, не имела права забывать о них, не заниматься ими и уж тем более не пополнять их коллекции.
Пора было браться за телефон и не дожидаться, пока отец исправит положение вместо меня, ведь теперь не он стоит у руля. И даже если к мнению и советам Жоржа еще прислушивались мои подопечные или клиенты, которые привыкли полагаться на его давно устоявшееся реноме, все равно властью здесь была я, и ответственность за все несла я. Они остались со мной после ухода отца, а я их бросила. Первым я позвонила художнику, с которым работала годы, при этом мы с ним отлично ладили, и он был единственным, кто не накинулся на меня после аварии. Я начала с извинений, он холодно ответил, что ничего страшного. А вот к ожидавшему меня продолжению я не была готова:
— Ава, спасибо за все, что ты сделала для меня, но мы, пора признать, прошли наш совместный путь до конца… Если честно, не знал, как тебе об этом сказать…
— Ты о чем?
— Я заключил договор с другой галереей.
Я вскочила.
— Но это невозможно! Почему?
— Ты мне больше не соответствуешь… это началось уже давно. Ты не защищаешь мою живопись.
Свободной рукой я откинула волосы со лба, как если бы это помогло мне что-то придумать.
— Погоди, зайди в галерею, мы все обсудим… Я вплотную займусь тобой. У меня просто черная полоса, и только-то… Ты по-прежнему можешь на меня положиться.
— Слишком поздно.
Он заявил это безапелляционно, и даже если бы я упала перед ним на колени, ничего бы не изменилось. К тому же я слишком горда для этого.
— А кто? К кому ты ушел?
— Скоро узнаешь. Когда получишь приглашение на мой вернисаж. До скорого.
Он повесил трубку. Я еле сдержалась, чтобы не скинуть на пол все, что лежало на столе. Новость разлетится с быстротой молнии. Ничего экстраординарного, если от вас уходит художник, но в сложившихся обстоятельствах я ожидала неизбежных слухов о том, что мои услуги не на высоте. В конце концов, все были свидетелями того, как я сбежала с вернисажа Идриса. Даже если в тот вечер у меня были основания, чтобы удрать, я подала очень плохой сигнал. Требовалось нанести мощный упреждающий удар, если я собиралась задушить опасные разговоры в зародыше. И я обязана была стереть плохие воспоминания из памяти публики. И вдруг меня осенило: сама собой возникла четкая идея, как это сделать. Я организую выставку, приглашу всех своих художников, коллекционеров, других клиентов, пока процесс еще обратим. Конечно, у меня за спиной станут злословить, осудят мою поспешность, скажут, что я импровизирую, веду себя как дилетант. Но я докажу, что они ошибаются. Я несколько раз обошла галерею, размышляя о новой организации пространства, о необходимом косметическом ремонте. Попрошу мастеров как можно быстрее составить смету. Не хочу больше видеть облупившуюся краску на стенах, галерея и произведения в ней заслуживают самого лучшего, всего, в чем я им отказывала последние годы.
Я продолжила обзванивать коллекционеров и авторов, молясь в душе, чтобы результаты переговоров не были столь же катастрофичными, как в первом случае. Большинство приняли мои извинения и немного смягчились — и то хлеб, не стоит требовать слишком многого. Некоторым было наплевать на то, что я переживала, и они исходили из того, что состояние здоровья Ксавье не должно было помешать мне работать. Я заверила их, что никуда не ушла и опять возьму все в свои руки, что они могут на меня рассчитывать. Сомнения у моих собеседников остались, но они согласились временно поверить мне на слово. Мой последний шанс. Наверняка большинство ответит, как всегда, утвердительно на мое приглашение. Причем по двум одинаково вероятным причинам: кто-то захочет присутствовать при моем падении, а остальные — в надежде, что мне удастся справиться с временным провалом.
Галерея сумела подействовать на меня волшебным образом. Я утратила представление о времени — но не так, как в больнице, где я успела забыть о спасительном эффекте галереи, — и выбросила из головы почти все заботы, наплевав на то, что у меня по-прежнему отсутствуют поводы для эйфории, а дела постоянно прибывают. Но чем дольше я удерживала в руках штурвал, тем лучше себя чувствовала. Желание ввязаться в бой наполняло меня энтузиазмом и стремлением возвратиться к своей страсти. Было очень приятно хотя бы частично избавиться от подавленности, вернуть боевой дух. Да, выживание галереи под угрозой, однако энергия и оптимизм странным образом прибывали, мое сердце билось ради правого дела, четкая цель обеспечивала драйв. Как и предсказывал Идрис. И Саша тоже.
Когда после семи вечера я оторвалась от бумаг, то едва не разразилась смехом: Хлое, как обычно, придется меня ждать, старые привычки возвращались на всех парах. И это был отличный знак для моего морального тонуса. Ну да, есть вероятность, что жизнь действительно может продолжиться. Я немного поколебалась, не заехать ли хоть на несколько минут в больницу проведать Ксавье, но боялась растратить дивиденды, полученные за последние несколько часов: нужно было удержаться на этой позитивной ноте. Мне не хватало смелости столкнуться с его хмурым видом, не было сил смотреть на него, когда он отводит глаза, говорить с ним, не получая ответа, завязывать сражение, когда он отказывается прикладывать усилия, чтобы выиграть собственную битву. И неважно, что я прекрасно отдавала себе отчет в том, что стоящие перед нами вызовы несравнимы. Завтра, я подумаю об этом завтра. Бросить его в больничной палате? Я ненавидела себя. Но мне так нужна была передышка. Из-за чего конкретно мы поругались? Я нехотя погасила лампы в залах, опасаясь, как бы меня не атаковали мои новые демоны, стоит мне переступить порог галереи. Она защищала меня. Я хотела бы остаться здесь наедине с собой, еще немного насладиться затишьем посреди бушующего вокруг хаоса. Приходилось признать, что при мысли о том, что я увижу детей и должна буду ими заниматься, на меня наваливалась усталость. Как они отреагируют на новость о том, что я возобновила работу и мало пробыла с их отцом? Я отправила домой сообщение, предупредив об опоздании. Я отказывалась торопиться, мне нужно было хоть ненамного отложить погружение в болезненную реальность. Я запахнула пальто и окончательно рассталась с галереей, пообещав ей, что завтра приду опять. И ночью буду усердно шевелить извилинами в поисках алгоритма действий, потому что не собираюсь надолго бросать Ксавье одного. Я обязательно буду ездить к нему, но стану меньше сидеть в палате. Буду рядом с ним достаточно, но не целые дни. Жизнь без него была все невыносимее.
Мне нравилось, что на улице никого нет и я наедине с собой. Я успела сделать несколько шагов, и тут меня позвала музыка, вырывавшаяся из музыкальной мастерской. Оттуда часто доносилась игра на струнных, но обычно это проверяли, как настроены инструменты. Иногда звуки бывали скрипучими и совсем не гармоничными. Во всяком случае, никогда я не слышала целые фрагменты произведений, причем в идеальном исполнении, как сегодня вечером. Я как будто узнала сюиту для виолончели Баха. Это было сильнее меня, я застыла на месте, прислушалась. Утерпела и не подняла руку, призывая смолкнуть дальние шумы города, чтобы оставалось только это гипнотизирующее вибрато. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на музыке. Разрешила себе прожить эти последние мгновения, когда я могла забыть обо всем. Тяжелый, мощный звук шел откуда-то издалека, из недр земли, как почудилось мне. Все мое естество пульсировало в унисон с ним, сводя восприятие окружающего мира к чему-то глубинному, сущностному. По щеке потекла слеза. Я удивилась: откуда она взялась? Эта капля соленой воды жила собственной жизнью. Эмоция в чистом виде, не имеющая ничего общего с моими теперешними испытаниями, примитивная реакция тела на призыв музыки, моя обострившаяся впечатлительность.
— Ава, детка, — послышался шепот.
Я вздрогнула: в дверях стоял Жозеф, владелец мастерской музыкальных инструментов, и знаками подзывал меня. Он показался мне еще меньше ростом, чем всегда.
— Заходи, послушай здесь, а то простудишься.
— Нет, не хочу мешать.
— Заходи, тебе будет полезно.
По его взгляду я поняла, что отец поделился с ним нашим несчастьем. Разве я не предупредила Хлою о своем опоздании? Что мне мешает еще чуть-чуть продлить удовольствие? Все равно дети обидятся и будут дуться. Так что пятнадцатью минутами больше, пятнадцатью минутами меньше… наслаждение искусством того стоило. Я вошла вслед за Жозефом в его лавку, где не бывала уже много лет. Как ему удается работать посреди хаотичного нагромождения разномастных предметов, да еще и в полумраке, — загадка. Единственным источником света были лампочки на нескольких верстаках. К потолку были подвешены скрипки — они словно парили в воздухе. Несколько виолончелей и контрабасов стояли, прислоненные к стенке, и послушно ждали, когда ими займутся. Другие инструменты, разобранные на отдельные детали, тоже дожидались очереди, пока Жозеф вернет им молодость. Рубанки и долота расположились на страже вокруг тщательно обработанных корпусов. Умелость и страсть мастера проявлялись в каждой детали. Вся его жизнь заключалась в этой мастерской. Смесь запахов дерева, смолы, терпентина и канифоли атаковали обоняние. Умиротворяющую теплоту вносили мягкие переливы красного и палисандрового дерева. Как удивительно — у моего маленького и не имеющего возраста соседа я вдруг почувствовала себя необыкновенно легко, почти блаженно. Как если бы меня перенесли в параллельный мир, в туннель, ведущий в неведомую, но не пугающую, а утешающую страну. Жозеф потянул меня через коридор с низким потолком в комнату, в которой я никогда не была. Мы подходили ближе, и звуки расправляли крылья, набирали громкость и объем, а все ощущения наливались растущей силой. Даже такой дилетант, как я, мог оценить высочайшее мастерство исполнения. Хотелось приблизиться к источнику этой красоты, узнать, кто ее творец. Мы вошли, и Жозеф отступил в сторону, жестом пригласив меня сесть на диван, но я не могла сделать последние шаги. Мне едва удалось скрыть свое потрясение: на виолончели играл Саша. Его освещал мягкий рассеянный свет, а лицо частично оставалось в тени. Я изменила положение, чтобы лучше видеть его. Он ли это? Разве такое возможно? Почему он здесь? Что он делает у моего соседа? То есть он не только дирижер, но и виолончелист? Хотя ничего удивительного, что дирижер играет на одном или даже нескольких инструментах. Просто у меня и в мыслях не было спрашивать его об этом. Какая же они с женой необыкновенная пара… Музыка составляет всю их жизнь, и значительного куска этой жизни они, увы, лишились.
Он играл, прикрыв глаза, буря эмоций проносилась по его лицу: он страдал, любил, улетал куда-то вдаль. Такой загадочный в обычной жизни, в потоке музыки он раскрывался, увлекаемый во вселенную, ключом к которой владел он один. На лбу у него выступил пот. Как долго он играл? Возможно, несколько часов подряд. Я сидела в своем кабинете и ничего не слышала. У зала в глубине галереи общая с музыкальной лавкой стена, и я могла бы насладиться музыкой, но не узнала бы, кто ее исполняет. Саша закончил один фрагмент и перешел к следующему без малейшей паузы, несмотря на явную усталость. Он сбрасывал напряжение, избавлялся от груза на сердце, выплескивал эмоции. Я позавидовала его способности выразить кипящую в нем ярость. А потом он открыл глаза, и они остановились на мне. Зрачки были расширены, он пребывал в трансе, не замечая ничего вокруг. Я была заворожена. Погрузившись в свой мир, он споткнулся на одной ноте, иронично усмехнулся, подтрунивая над самим собой, его голова пару раз дернулась, и вот уже тело опять контролирует инструмент, а Саша уносится в свои небесные сферы. Вряд ли нашелся бы человек, которого не околдовало это зрелище.
— Представляешь, дитя мое, — прошептал мне на ухо Жозеф, — это дирижер с мировым именем. Он позвонил мне сегодня днем, непринужденно представился и спросил, пущу ли я его в свою мастерскую поиграть. Мне стало ясно, что я умер и попал прямиком в рай. Когда-то он входил в число лучших виолончелистов мира, а сегодня его выступления с оркестром восхищают даже самых требовательных критиков. На таком уровне это уже больше, чем талант… Я открыл мастерскую только для него, ему требовалось спокойствие и возможность сконцентрироваться. Не представляю, что он здесь делает. Я сейчас вижу сон и молю Господа, чтобы сон этот длился как можно дольше.
Детский восторженный голос взволнованного до глубины души старого мастера глубоко растрогал меня. Жозеф не мог прийти в себя от того, что с ним происходило, а я не могла прийти в себя от того, что узнала о Саше. Об этом человеке, с которым пересекалась в больнице несколько недель подряд. Я вспомнила, как он упомянул свою профессию… с какой скромностью…
Вдруг музыка смолкла. Саша долго сидел, не шевелясь, упершись лбом в гриф, со смычком в руке, с закрытыми глазами, как будто окончательно выдохся и не торопился опуститься на землю. Меня охватила паника, мне было нечего здесь делать. Но Жозеф схватил меня за руку и потащил за собой. Убежать я не могла и не знала, куда деваться.
— Маэстро, — обратился к нему старик.
— Да, Жозеф, — ласково и почтительно ответил музыкант, вставая. — Я же просил называть меня Сашей. Вы тут хозяин.
Жозеф с трудом скрывал волнение. Мне понравилось, что Саша проявляет такое уважение к этому пожилому господину, который продолжал купаться в своем волшебном сне.
— Я позволил себе пригласить свою подругу. Позвольте представить вам Аву, она владелица художественной галереи по соседству. Я хорошо знал ее деда и отца.
Я встретила пронизывающий взгляд черных Сашиных глаз.
— Да, когда я шел сюда, мне попалась галерея.
Он явно был удивлен, откуда ему было знать, что это моя галерея.
— Очень приятно, Ава, — искренне улыбнулся он.
Какой контраст с нашим первым знакомством!
— И мне, Саша.
Он обратился к Жозефу:
— Могу я вам ее доверить? — спросил он, показывая на свою виолончель. — У вас она будет в большей безопасности.
От восторга у Жозефа на щеках проступили красные пятна.
— Конечно… На сколько вы приехали к нам?
— Не представляю… Я здесь по личным делам.
— Сохраню ее сколько надо и позабочусь о ней, не беспокойтесь. Приходите играть, как только захотите.
— Благодарю вас, Жозеф.
— Не за что. Для меня это большая честь и подлинное наслаждение.
Они оба проявляли уважение друг к другу.
— Господа, я вас оставлю, меня ждут дети. Уже поздно.
— Конечно же, Ава, милая, — кивнул Жозеф.
Он подошел ко мне, взял за руки.
— Если тебе что-то понадобится, помни, что я рядом.
Я сердечно обняла его.
— Спасибо, Жозеф.
— Теперь мы будем видеть тебя чаще?
— Да… Я теперь буду работать в галерее…
— Это значит, что Ксавье стало лучше?
Что я могла ответить? Я ограничилась вялым и ничего не означающим пожатием плеч. После чего обратилась к искоса наблюдавшему за нами Саше.
— Спасибо за эти несколько минут вне времени и пространства…
— Рад был.
— До встречи, — выдохнула я.
Выйдя на улицу, я, сама того не желая, обернулась. Они перешли в мастерскую с инструментами и что-то обсуждали, рассматривая скрипки и виолончели и иногда ласково дотрагиваясь до них. По всей вероятности, Саша почувствовал, что за ним следят, обернулся и улыбнулся мне. Я ответила ему тем же и помахала рукой. Загадка, но напряжение куда-то ушло, и я вернулась домой более легким шагом. Почти как раньше.
На следующий день я отвела Титуана в школу и сразу же отправилась в галерею. Впервые после аварии я вела себя так, как если бы жизнь продолжалась. Это сбивало с толку. Возбуждало. Вызывало в душе колющие намеки на вину. Я, как могла, оттягивала посещение больницы из-за боязни враждебной реакции Ксавье и нежелания рисковать тем, что моя вновь обретенная уверенность в себе — как физическая, потому что я опять следила за своей внешностью, так и профессиональная — не устоит против мрачного настроя мужа. Тем не менее у меня не получалось не думать о нем. Мне было стыдно, что я веду себя как в обычной жизни… при том, что ему очень плохо. Я не забывала об аварии, о переломах и всем прочем, но нуждалась в чем-то позитивном, в свете, я хотела поделиться с ним этим светом, убедить его, что все возможно, что это стоит приложенных усилий и он должен бороться, чтобы выбраться из мрака и выздороветь.
За ночь новость о том, что я вернулась к работе в галерее, облетела квартал — Жозеф постарался, — и я еще даже не успела приступить к повседневным делам, а соседи один за другим начали наносить мне визиты и осыпать нас с Ксавье подарками: первое издание «Красного и черного» и старинную энциклопедию фауны принесла Анита, два букета полевых цветов — по одному в палату Ксавье и в галерею — цветочница Сибилла, а давние соседи-булочники пришли с моими и мужа любимыми сладостями. Я еще не успела предупредить папу, что я в галерее, а он уже был тут как тут — хотел воочию убедиться в правдивости слухов. Его удивление, а заодно и облегчение, равно как ободряющие слова, пролились бальзамом на мои раны. Я изложила свои соображения насчет необходимости придать новый импульс нашей галерее. Он внимательно выслушал мои планы, при этом я понимала, что говорю ему все это только из уважения, из вежливости, чтобы поставить в известность. Поскольку отныне он может только советовать, а последнее слово за мной. Внутренний голос, который я решительно заставила замолчать, все же успел шепнуть: теперь это моя галерея, а не его. Папа пробыл со мной не долго.
— Ты напоминаешь меня вскоре после отъезда твоей матери.
И он ушел, оставив меня наедине с этими словами, которые, не понимаю почему, взволновали меня гораздо сильнее, чем я ожидала.
Информация долетела и до Кармен. Я услышала, как она распевает на другом конце улицы. Бросив велосипед на тротуаре, она влетела в галерею. Застыла передо мной, театрально перекрестилась, приложилась губами к воображаемому церковному медальону на воображаемой цепочке и послала небу воздушный поцелуй.
— Да будет благословен тот, кто указал тебе путь к галерее!
Я весело рассмеялась, этот смех был словно маслом по сердцу, а она бросилась ко мне и обняла.
— Не сомневайся, Аванита, постепенно все наладится!
Возможно, она преувеличивала, когда связывала с галереей окончание наших бед, но я на нее за это не обижалась. Кармен была права, немного оптимизма не повредит. Я с изумлением констатировала, что у нее чистые руки и ногти без следов глины. Она точно появлялась здесь чаще, чем в своей мастерской, поддерживая папу, как могла. Эти чистые руки не сочетались с ее образом, они были ненормальными. Ухоженные руки Кармен удручали не меньше, чем упадок галереи. Но я пришла, и она сможет вернуться к творчеству. Она налила себе кофе, осуществила ритуальный хозяйский обход залов и, явно успокоившись, поставила меня в известность, что, по ее мнению, я обязана взять бразды правления в свои руки. Ее было трудно обмануть, и, хоть я крутилась и так и этак, уклоняясь от ответов, она выудила у меня информацию о Ксавье:
— Раз ты не проводишь все дни у него, я обязательно зайду к твоему большому зверю! Я тоже по нему скучаю! Можно?
Я сосредоточенно всматривалась в порхающую в луче солнца пылинку.
— Договорись с ним напрямую, позвони ему в палату, ее номер 423.
— Ава…
Поскольку я прикинулась, что не слышу, она подошла к моему письменному столу и трижды стукнула по столешнице.
— Ты чего? — я непонимающе вздернула бровь.
— Все в порядке? То есть я хочу спросить… У вас все в порядке, у тебя и у Ксавье?
— Нам сложно… но ничего удивительного.
— Скажи мне, как он себя чувствует? Как он отнесся к тому, что ты снова работаешь? Рад этому?
— Вот и спроси у него сама, а то я не знаю, что тебе ответить…
— Хорошо, проведу собственное расследование!
— Удачи, — с горькой иронией пожелала я.
Когда в галерее установилась тишина, я принялась размышлять над приглашением: оно должно быть более сухим, чем те, которые я рассылала раньше. В нем я укажу только самое главное. Еще я позвонила своему поставщику еды и напитков: я застала его врасплох, но наше успешное сотрудничество помогло ему найти волшебный способ выполнить заказ, и он пообещал все привезти вовремя. Постепенно все улаживалось. Я нуждалась в цели, которая даст новую надежду, и верила, что моя задумка сработает. Эта вера была мне необходима. Быть может, если мне станет лучше, я смогу более продуктивно поддержать Ксавье. Я назначала встречи в мастерских художников и скульпторов, чтобы познакомиться с последними работами, продемонстрировать мою мотивированность и заинтересованность в их продвижении и, главное, обретенный в последние дни кураж. Я обожала эти визиты, но почему-то с недавних пор обходилась без них. Я встречалась со своими клиентами-коллекционерами — постоянными и эпизодическими, — обещала показать им находки, просила составить списки пожеланий.
Я не удивилась, когда во второй половине дня заявился Идрис. Он мало говорил, был не таким пылким, как Кармен, но то, как он дал почувствовать свое волнение, тронуло меня до глубины души. Он принес новое полотно, на котором едва успела высохнуть краска. Он назвал его «Свет». Я была потрясена тонкостью мазков, не отмеченных тем буйством темперамента, которое отличало его живопись до сих пор.
— Выбери сама место для нее, — попросил он и ушел так же незаметно, как пришел.
После его ухода я нашла у себя на столе блокнот с зарисовками для Ксавье. Там были портреты детей, мои портреты, наброски ветеринарной клиники, нашего дома и наших животных. После случившегося Идрис стал членом нашей семьи, таким же как Кармен.
В пять часов я закрыла галерею, удовлетворенная первым рабочим днем и, главное, гораздо более, чем накануне, готовая явиться к мужу в больницу. Хлою и детей я в который раз предупредила, что могу прийти домой поздно. Выйдя на улицу, я нос к носу столкнулась с Сашей, направлявшимся к Жозефу. Я заулыбалась. Наши ежедневные встречи здесь стали восприниматься почти естественно, как если бы он был моим соседом. Меня больше ничего в них не напрягало. Каким образом этот человек, с которым я, по идее, никогда не должна была пересечься, смог занять такое большое место в моей жизни?
— Добрый вечер, Саша, как у вас дела?
Он долго молча изучал меня, потом тряхнул головой, будто желая прийти в себя.
— Вы уходите? — неожиданно спросил он.
— Да… Поеду к Ксавье, сегодня я еще не была в больнице.
— А я только что от Констанс.
Я должна была справиться у него о самочувствии жены, но на этот раз мне не захотелось, не знаю почему, если учесть, что меня не беспокоили возможные последствия новостей для морального равновесия Ксавье. Кривая ухмылка, мелькнувшая на его лице, удивила меня.
— Сегодня вечером мне придется обойтись без публики…
Я вежливо кивнула, потупившись.
— Увы, да…
— Жаль.
Меня потрясло отчетливо слышное в его голосе разочарование. Он нахмурился, озабоченное выражение лица быстро сменилось растерянным, и мне это не понравилось.
— Вчера вечером все было прекрасно, — прошептала я.
Зачем я это сказала? Просто чтобы успокоить его. Насчет чего, интересно? Я не имела представления, я даже не знала, что с ним сейчас творится. Как и со мной, впрочем.
— Но вчера же не было ничего особенного.
— Для вас — может быть, но не для меня.
Он поймал мой взгляд и не отпускал, его глаза были еще более темными и глубокими, чем обычно. Меня затрясло, захотелось побыстрее сбежать.
— Мне пора… Ксавье ждет…
Саша отшатнулся.
— Конечно.
Он торопливо толкнул дверь музыкальной мастерской, а я направилась в больницу, решительно отодвинув в сторону это непонятное и обескураживающее ощущение.
Глава девятая
Лицо Ксавье было грустным. Да и мое наверняка было невеселым. Я положила сумку и пальто на стул, поставила в вазу цветы, разложила гостинцы от друзей на прикроватной тумбочке. Пока я все это делала, он молча наблюдал за мной. Закончив, я села рядом с ним на кровать, твердо приготовившись забыть все резкие и обидные слова, которые мы бросили друг другу накануне. Я осторожно поцеловала мужа и взяла его ладонь в свои.
— Я не ждал тебя сегодня…
— Я злюсь, но не настолько. Извини, что не пришла раньше.
— Я постараюсь сдерживаться…
Он не должен стараться. Это должно получаться естественно, само собой.
Я крепче сжала его руку.
— Мы будем биться, Ксавье, и мы выберемся…
— Надеюсь, — лаконично ответил он.
Я проигнорировала его мрачный тон и приступила к монологу. Рассказала о своей работе, о вызывающем беспокойство состоянии галереи, а также о своей надежде исправить ситуацию. Ксавье слушал, не перебивая, но и не стремясь больше узнать. Не знаю, было ему интересно или нет. Я скрыла разочарование и тоску по нему, хотя это и потребовало от меня огромных усилий. Мой оптимизм таял на глазах.
— С детьми все в порядке, — сообщила я.
— Прекрасно.
Почему он не просит привести их? Можно подумать, что он не скучает по своей семье. Разве это возможно? Куда подевался любящий, веселый и заботливый отец? Неужели исчез в момент аварии? Неужели мужчина, которого я люблю, пал жертвой автокатастрофы? Это было бы несправедливо…
— Знаешь, они хотят тебя видеть…
— Посмотрим, когда я начну вставать.
— Первая попытка планируется завтра?
Он кивнул.
Сколько энтузиазма, надо же!
— Когда к тебе придет реабилитолог? Я закрою галерею, чтобы быть с тобой.
— Не приходи… Я бы не хотел, чтобы ты была здесь, если вдруг не получится. Боюсь, я тогда поведу себя не лучшим образом, а ты и так порядком от меня терпишь.
Его губы сложились в едва заметную язвительную ухмылку, а я укоризненно покачала головой. С одной стороны, его поползновение пошутить было хорошим знаком, даже если сама шутка получилась несмешной и неуместной. С другой стороны, я в очередной раз почувствовала, что он не подпускает меня к себе. В данном случае Ксавье отодвигал меня в сторону, не позволял принять участие в поворотном этапе выздоровления.
— Как скажешь.
— Зайдешь завтра после закрытия галереи?
— Конечно.
— Если повезет, я встречу тебя, стоя на костылях, а не валяясь в кровати.
Он как будто вдруг поверил в успех, был почти оптимистичен. Надо бы не упустить шанс поддержать такой настрой, но у меня не было сил спорить, уговаривать, клянчить.
— Мне бы хотелось, чтобы ты пришла, когда здесь будет хирург. Если понадобится немного подтолкнуть его, чтобы он отпустил меня, у тебя это получится лучше.
Следующие дни были трудными и невероятно похожими друг на друга. У меня даже сложилось впечатление, что я проживаю один и тот же нескончаемый день сурка. Утром я приходила поцеловать Ксавье, затем шла в галерею. Во второй половине дня я закрывала ее и сидела с ним до вечера, после чего приходила к детям ближе к концу ужина и укладывала их спать. Помимо удовлетворения и радости от занятия своим делом — которого мне мучительно не хватало, я наконец-то покончила с самообманом и призналась себе в этом, — работа в галерее поглощала все мои мысли и отвлекала от напряженного ожидания грядущей выписки Ксавье из больницы. В момент слабости и спокойствия я сделала глупость, упомянув детям о такой возможности. С тех пор они каждый вечер спрашивали меня, что говорит врач. Их мир вторично рухнет, если хирург откажется выписывать папу. В промежутках между всеми заботами я из кожи вон лезла, чтобы организовать день рождения, пусть и не такой пышный, как в прошлые годы. Титуан согласился не звать друзей при условии, что мы поужинаем все вместе — с дедушкой, крестной Кармен и Идрисом. Он был готов на любые уступки, лишь бы папа присутствовал на празднике. Пока все складывалось удачно, Ксавье удалось встать на ноги. Правда, левое колено мучительно болело, полностью утратив подвижность после длительной иммобилизации в горизонтальном положении. Происходило и нечто неожиданное, из ряда вон: Ксавье наконец-то начал цепляться за жизнь и активно участвовал в своей реабилитации. Другая, не менее важная перемена — он согласился на посещения. Пусть не детей, но все же к нему приходила Кармен, и даже мой отец, и Идрис. Я иногда жалела, что меня там нет: например, моя помощь пригодилась бы на встрече молчаливого Ксавье и робкого художника, чтобы поддерживать разговор! Каждый посетитель непременно предоставлял мне отчет. Все говорили, что у него измученный вид и нестабильное психологическое состояние. Я же, со своей стороны, следила за мужем каждый вечер в надежде найти хотя бы малейшую брешь в его панцире. Я выискивала ее даже в его безнадежно потухшем взгляде, в котором не мелькало ни искорки. Убеждала себя, что слишком нетерпелива. Мне хотелось поскорее подвести под всем черту, но это было невозможно.
Накапливающаяся усталость тоже не способствовала лучшей, более точной и разумной оценке ситуации. Когда Ксавье радовался своим успехам, в его оживлении сквозила фальшь. Все наводило на мысль, что в глубине души он сожалеет, что идет на поправку. Возможно, его по-прежнему удерживало, не позволяя двигаться вперед, беспокойство за Констанс? Он больше не заговаривал о ней, я тоже остерегалась затрагивать эту тему. Опасалась вызвать несоразмерную реакцию. Еще больше я боялась спровоцировать очередную ссору между нами. К тому же что я могла ему сообщить? Теперь я не встречала Сашу ни в больнице, ни в музыкальном магазине. Меня приводила в ужас сама мысль о смутном и трудно определимом чувстве, свалившемся на меня в нашу последнюю встречу, и я предпочитала делать крюк, чтобы обойти стороной соседский магазин, подходила к галерее с другой стороны улицы и тем же путем уходила из нее. Мне не удавалось сформулировать, какие именно эмоции вызывает у меня этот человек, и я отказалась разбираться в нюансах, а заодно почти выкинула из головы и его самого, и его жену.
За три дня до дня рождения Титуана нас наконец-то принял хирург. Я зашла за Ксавье в палату. Он попросил о консультации в кабинете врача, за пределами четырех стен, в которых был так долго заперт. Его просьба удивила меня — до сих пор он не выражал ни малейшего желания выйти за порог. Но я предпочла скрыть удивление…
В коридорах и лифте я следила за каждым его жестом, не замечая ничего вокруг. Ксавье же, напротив, открывал для себя новый мир. Или, точнее, тот мир, внутри которого просуществовал затворником более месяца. Ему выдали специальные костыли, подогнанные под его еще загипсованное запястье. Он быстро научился передвигаться со всеми своими приспособлениями, но часто кривился от боли. Постоянная боль стала его верной спутницей. Чем ближе мы подходили к кабинету врача, тем больше он замыкался. До него было не достучаться. В приемной Ксавье рухнул в кресло — на свой лад, естественно, с множеством предосторожностей и долго примеряясь. Бледный, весь в поту, он прикрыл глаза от изнурения. Мы молча ждали, я держала его за руку, но не знала, ощущает ли он мое прикосновение. Наконец подошла наша очередь. Хирург долго осматривал и ощупывал Ксавье, потом предложил ему сесть на стул возле письменного стола. Ксавье предпочел не садиться, потому что это отнимало у него слишком много сил, как, впрочем, и вставание. Я напряглась в ожидании приговора. Главное — не потерять над собой контроль и не закатить скандал. Врач еще раз внимательно просмотрел данные полного обследования, которое Ксавье прошел в последние дни.
— Ваш реабилитолог говорил, что вы хотите выписаться.
Не снится ли мне сон? Выписаться… окончательно вернуться домой, а не просто получить краткосрочный отпуск?
— Вы хорошо продвинулись за последнюю неделю, а домашние условия будут вас дополнительно стимулировать.
Я подняла к Ксавье залитое слезами лицо, но взяла себя в руки, не позволила себе броситься на шею человеку в белом халате, горячо благодаря его. Ксавье оставался невозмутимым, его погасший взгляд вперился в хирурга. В нем не промелькнуло ни намека на облегчение, я уж не говорю о воодушевлении.
— Ваше постепенное выздоровление было ожидаемым. Вы обошлись без осложнений. Мы еще проверим кое-что по мелочи, и через два дня вы нас покинете. Продолжите реабилитацию на дому и будете приходить на регулярные контрольные обследования.
— Спасибо, доктор! — Я была полна энтузиазма.
До сих пор я его ненавидела, а после этих слов была почти готова расцеловать. В отличие от Ксавье, который упорно молчал.
Я дождалась, пока мы войдем в лифт, и перестала скрывать восторг. Боясь причинить боль, я очень осторожно приникла к Ксавье и обхватила ладонями его лицо.
— Потрясающе! Еще немного, и ты будешь дома!
Я поцеловала его, он холодно ответил на мой поцелуй. Я была озадачена.
— Ты не доволен?
— Доволен, конечно, — хрипло выдавил он. — Мне просто трудно в это поверить.
— Дети с ума сойдут от счастья.
Но не ты…
— Ты действительно хочешь этого?
— Послушай, Ксавье! Как ты можешь задавать такой вопрос!
Он попытался высвободиться, как будто мои объятия мешали ему дышать.
— Когда я буду дома, у тебя появится куча забот…
— Тс-с-с, Ксавье, — прервала я, положив ладонь на его рот. — Я готова свернуть горы, лишь бы ты был с нами, я обязательно что-нибудь придумаю. Высплюсь после, у меня впереди вся жизнь, успею отоспаться, но больше всего я хочу спать рядом с тобой. Ни о чем не беспокойся, тебе надо как следует отдохнуть в ближайшие пару дней, чтобы выдержать ликование детей. И не только: представляешь, что устроят Месье и Мадемуазель? Приготовься к торжественной встрече!
Он уронил голову на грудь, выражение его лица было удрученным, руки, повисшие на костылях, дрожали.
— Что с тобой, любимый? Расскажи мне, прошу тебя, расскажи.
— Я… Я действительно буду дома? — в тихом голосе явственно проступала тоска, мука.