Бох и Шельма (сборник) Акунин Борис
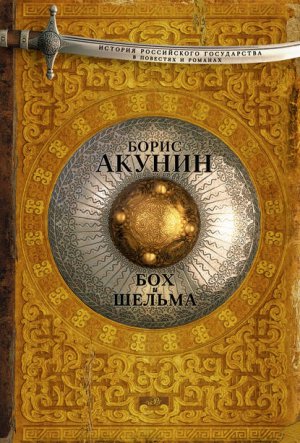
Комнатенка с узеньким окошком-щелью была маленькая и совсем пустая. Только из стены торчало несколько раструбов. Из них раздавались какие-то приглушенные звуки. Яшка приложил ухо к одному отверстию – явственно услышал голоса, болтавшие по-фряжски. К другому – тоже голоса и какой-то шум, будто двигают нечто тяжелое или грузят. В третьей дырке было тихо. Из четвертой доносился сонный сап.
Вон это что! Подслухи. Шельма слышал про такое изобретательство. Греками придумано. Вставляют в стену трубку, и по ней можно подслушивать, о чем в доме говорят, хоть в самом дальнем покое. Следит, стало быть, Синьёр Лонго за приказчиками и домочадцами, хочет всё знать. Основательный человек, заслуживает почтения.
Яшке-то подслушивать непонятную фряжскую речь было скучно. Он подошел к окошку, выглянул. Оно, кажется, тоже было хитрое, с расширением – снаружи не заметное. Виднелась улица и въезд во двор. Тоже понятно: смотреть, что ввозят-вывозят.
Вдруг Яшка увидел хозяина, который, оказывается, никуда не ушел, а стоял в воротах, переминался с ноги на ногу, чего-то или кого-то ждал. Он же вроде собирался в банку идти?
Тут же Шельма объяснил себе: не пошел сам, потому что важная особа, послал слугу и теперь ждет, с какой вестью тот вернется. А нетерпеливо топчется оттого, что волнуется – сладится ли сделка. Хороший знак.
Решил Шельма тоже подождать. Сверху, конечно, разговора не услышишь, а услышишь – не поймешь, однако по выражению лиц, по движениям рук можно будет догадаться, нашлись деньги или нет. Десять тысяч дукатов, которые по-фряжски именуются «дженовино», это два с лишним пуда чистого золота. Еле поднимешь, но все-таки унести можно. Однако золотом заплатят вряд ли. Если же серебром, получится несколько возов. Целый корабль нанимать придется. А в море бури, мели, пираты.
Очень Яшка из-за этого вдруг забеспокоился. Хорошо бедному, у него заботы пустяковые. Если же у человека огромное богатство, которого можно лишиться, потеряешь сон и покой.
Купец дернулся, замахал кому-то рукой: сюда, сюда! Ага, посланец возвращается.
Шельма поглядел на улицу – от ужаса стукнулся лбом о пристенок.
Из-за поворота, быстро перебирая длинными ногами, неслась высокая, узкая, стремительная фигура, вся красного цвета. Полусползший капюшон болтался на затылке, будто петушиный гребень, сверкала голая макушка.
Матерь-заступница, Габриэль!
Как?! Откуда?!
Потемнело в глазах. Яшка чуть не сомлел. Но подстегнул великий страх, сорвал с места.
Выскочил из комнатки, заметался, кинулся к выходу, оттуда на мраморную лестницу. Она была безлюдна, но снизу уже слышались шаги: кто-то там топал тяжелыми ножищами, кто-то семенил следом.
Спрятался Шельма за голую каменную женку, прижался к ее широким бедрам, сам сколь мог сузился. Выручай, бабонька! Не выдай сироту!
И вспомнилось то, на что по дурости сразу не насторожился.
Лонго этот почему-то совсем не удивился, что к нему в Кафу ни с того ни с сего явился приказчик любекского торгового дома. Где Любек и где Кафа? А еще спросил: «Что на сей раз угодно его милости?» На сей раз! А Шельма, взбудораженный близким богатством, и не скумекал. Значит, недавно уже был здесь кто-то от Боха!
– …Нет, он ничего не заподозрил, – запыхаясь, говорил по-немецки иуда Синьёр. – И в точности такой, как описал в письме твой господин.
Прошли совсем близко, Яшку от быстрой Габриэлевой походки аж ветром обдало.
Не заметили.
Едва шаги удалились за поворот, Шельма благодарно чмокнул каменную тетку в гладкий зад, мышкой шмыгнул вниз по лестнице.
Кошкой через двор.
Ласточкой по улице.
Бежал, лязгал зубами.
И очень просто! Башковитый купчина Бох легко угадал, в какую сторону побежит вор и к кому может обратиться. Послал Габриэля, который, от виноватости перед хозяином и от злобы на Шельму, добрался до Кафы быстрее Яшки. Поди, в дороге не ел, не спал, чудище двужильное. И какая-нибудь важная пайцза от Шарифа-мурзы, тоже обворованного, у него, конечно, имелась – лошадей менять.
Вот уж беда так беда…
Златая змея по-прежнему тяжелила пояс, но Яшке теперь было не до богатства. Спастись бы. Ноги унести, хоть за тридевять земель.
Однако в порт соваться нельзя. Бох через того же Синьёра, поди, всех корабельщиков упредил.
Значит, за море не уплывешь.
В Орду тоже не вернешься, там Шариф-мурза.
В Литву? Нет, у литовцев с Мамаем союз. Запросто мог Шариф и в литовские пределы гонца с Шельминым описанием послать. Выдадут.
За что Яшка себя любил – если он, случалось, и пугался до морозной дрожи, голова от страха никогда не задубевала.
Решение придумалось на бегу, быстро.
Не выдадут только из Москвы, которая с Ордой в войне. Ни мурза туда не сунется, ни Бох. Вот куда бежать, единственно. Далеко это, но другого ничего не остается.
…Влетел на постоялый двор, растолкал дрыхнувших после долгой дороги татар:
– Курман, всех в седло! Едем дальше!
Юзбаш с изумлением уставился на Яшкин фряжский вид, голую морду.
– Так надо, – сказал Шельма. – В дороге переоденусь в человеческую одежду. Теперь скачем на север. Живо, живо!
И взмахнул златольвиной пайцзой.
Настроения у Яшки менялись быстро. Ужас схлынул, осталось одно на себя любование.
Везучий он все-таки. Хранит судьба своего любимца.
Не стал бы шарить по синьёрлонговой горнице, не нашел бы тайную комнатку. Не выглянул бы в оконце – просмотрел бы Габриэля. И сгинул бы, как муха, увязшая в меду.
Но он не муха – комарик. Упорхнул. Поди теперь, поймай на вольном просторе.
Ехали за третью неделю уже третьей степью – Задонской. В последнем ордынском йаме, близ Азака, взяли запасных лошадей, потому двигались быстро, а Шельма еще и подгонял, часто оглядываясь назад. Всё мерещилось, что выскочит откуда-нибудь страхожуткая нечисть в кровавом наряде.
Сотнику было наврано, что после Кафы таинственный Мамаев посол едет в литовскую землю, к великому князю Ягайле, ордынскому союзнику.
Однако у слияния реки Улы с речкой Медянкой, где сходятся переделы трех держав – ордынской, литовской и рязанской, – Яшка со своей верной стражей расстался.
Прощался – чуть слезу не пустил. Привык за столько времени к Курману и его воинам. Хорошие люди татары – начальство уважают, слушаются без ропота, лишних вопросов не задают. Однако в московских землях, до которых отсюда было рукой подать, этакое сопровождение ничего кроме беды не принесло бы.
– Дальше поеду один, без огласки, совсем тайно, – сказал Шельма. – А ты, юзбаш, передай от меня Шариф-мурзе, моему старому другу-товарищу, вот этот сверток. Скажи, от Шельмы-мурзы с поклоном, на незлую память. Шариф тебя за то наградит.
В свертке лежала краденая пайцза, которая на Руси была не нужна. Найдут – решат, что татарский лазутчик. И еще был подарок, купленный в Кафе на базаре: изречение Пророка, писанное золотой арабской вязью, из Корана: «Кто простит и восстановит мир, поистине тому назначена награда у Аллаха».
Простить Шариф, конечно, не простит, но, может, хоть сильно злобиться перестанет. Зачем нужен Яшке в ненавистниках столь могущественный человек? Боха с Габриэлем куда как достаточно.
Переправился через полувысохшую Медянку, где вода лошади едва доходила до бабок, поехал дальше на север один.
Голая степь скоро кончилась, потянулись рощи да перелески. Края эти были спорные, переходившие то под руку Москвы, то к Литве, то к Рязани. В последнее время здешние князьки (они назывались верховскими) вроде бы держались Дмитрия Ивановича Московского.
Мысль у Шельмы, под стать просторам, гуляла вольно и широко. Умному человеку с самим собой скучно не бывает. Всегда есть с кем поговорить и поспорить, да без обид и насмешек.
Поглаживая себе бока и брюхо, обогреваемые свернувшейся алмазной змеей, Яшка прикидывал, как ее, голубушку, получше пристроить.
В Москве продавать нельзя, это ясно. У тамошних купцов и денег таких нет, а прознают слуги великого князя – отберут в казну. У москвичей это быстро, и не пикнешь.
Однако можно выколопнуть один камешек. Под Кремлем, на Подоле, есть купчина, который за алмаз, лал или смарагд даст хорошую цену, рублей полста или больше. И не спросит, откуда такая краса. На эти деньги купить обоз куньих, бобровых и собольих мехов да перегнать в орденскую Неметчину. Не через Новгород, конечно, где у Боха глаза и уши, а через тот же Псков.
В Риге выковырять и продать все остальные камешки, по отдельности. Вместо них вставить янтарю. Это он в Риге ничего не стоит, а у арапов ценится не дешевле лалов. На вырученные деньги нагрузить большой корабль северным товаром – рыбьей костью с Мурмана, ворванью, тем же мехом. И поплыть вкруг Европы, всюду приторговывая, к маврам в Испанию. Там янтарную змею продать султану. Этак можно не восемь тысяч, а все восемнадцать убарсучить.
От сладких мечтаний Шельма замедовел, размягчился. Оттого и утратил сторожкость.
В некоей роще, едучи, был вдруг подхвачен с двух сторон, выволочен из седла, брошен наземь.
Какие-то сивобородые мужики, с топорами, держали обомлевшего Шельму крепко. Приговаривали:
– Попался, татарин! К Сычу его!
Взяли за шиворот, связали руки, потащили.
Яшка бояться боялся, но лишнего пока не болтал. Тут со словами ошибиться было нельзя. Не к месту что-нибудь ляпнешь – пропал.
Приглядывался пока, что за люди. Разбойники? Вряд ли. Больно рожи скучные. А кто – непонятно.
Это еще неизвестно, к кому хуже в лапы угодить – к разбойникам или не поймешь к кому.
Сказ о добром молодце и красной девице
– Ишь, на лбу-то, Мить, глянь. Знак поганый.
– Глазами лупит. Иди, нерусь.
– Щука, на сапоги ему глянь. Кожа-то, а?
Прислушиваясь к косноязычным словесам своих захватчиков, глядя на их грубые рубахи и лапти, принюхиваясь к кислому земляному запаху, Яшка с удивлением понял: мужики и есть. Крестьяне, смерды. Которые, прости господи, землю сохой скребут.
Чтоб мужичье, деревенщина, напали на проезжего, это невидаль небывалая.
К смердам и городскому черному люду, кто горбом и потным кряхтением живет, Шельма относился с презрением. За что уважать тех, кто согласен, подобно волу, тащить тяжкое ярмо, кто без ропота сносит муравьиное существование, одевается в рванье, жрет солому пополам со жмыхом? Он, Яшка, лучше сдох бы, чем так жить.
Мужики – дурни, ничего не соображают и не умеют, им только грязную работу делать.
Эти вот: обшарили, обыскали, а цепь, спрятанную в поясе, не нащупали. И Бохову печатку в запазушном схроне не нашли. Даже в седельные сумы не заглянули. Хороши разбойники.
Отбрехаться от таких будет нетрудно. Однако сначала нужно разобраться, к какому-такому сычу ведут они «татарина».
Через малое время приволокли тихого и послушного Яшку на поляну. Там – большой шалаш из веток-листьев, перед шалашом костер, на костре котел. У котла, помешивая, стоял сильно пожилой дядька в полуседой бородище. За поясом, как у остальных, топор на длиной ручке, однако за спиной имелось и настоящее оружие: лук с колчаном.
Мужики разом, в несколько голосов, зашумели, что взяли татарина, Мамаева лазутчика. Бородача называли не Сычом, а «Федорычем». Стало быть, Сыч – прозвище.
Теперь Шельма начал кое-что понимать.
Знать, война с Ордой уже началась, и смерды – ополченцы – выставлены дозором. Сыч этот у них за начальника. У него рубаха без заплат, на ногах не лыко с онучами, а сапоги.
В отличие от гомонливых мужиков Сыч был молчалив, разглядывал Яшку тяжелым, спокойным взглядом. Глаза выцветшие, всё на свете повидавшие, цеплючие. А всё равно деревня.
Теперь стало ясно, как себя держать.
– Я не татарин, я русский, – объявил Шельма. – А ну, старшой, вели меня развязать. Я в Москву пробираюсь, к великому князю, с тайным донесением. Вы сами чьи? Оболенского князя люди? Или Одоевского? Ведите меня скорей к самому главному вашему воеводе.
Но Сыч-Федорыч важных слов не испугался, а подошел ближе и зачем-то раскрыл у Яшки на груди ворот. Пальцы жесткие, в мозолях.
– Ребята, спускай ему порты.
Взвизгнул Шельма, забился в крепких мужицких руках, но куда денешься?
Нижнюю, заголенную часть обдало холодком. Сыч наклонился, сам себе кивнул:
– Врешь. Ты татарин. Креста на груди нет. Сам обрезанный.
Обрезание Яшка сделал, когда в Сарае банщиком устраивался. Нельзя там было без обрезания, голые же все. Претерпел болезненность, зато потом вознаградился сторицей. Но не объяснишь же такое лесному сычу?
Однако не растерялся:
– Я у татар жил. Как же не обрезанному? У басурман ко мне веры бы не было.
– Тебе и тут веры нет, – молвил Сыч. – А что у него в сумах, ребята?
– Не поглядели мы, Федорыч…
Пошел рыться сам.
– Эка. Кошель полный… А это что? – Достал фряжский наряд, купленный в Кафе. – Одёжа немецкая. Так кто ты, лисий хвост: татарин или немец?
– Лазутчику нужно по-всякому облачаться. Бывает, что и немчином. Я русский! Великого князя Дмитрий-Ивановича слуга. Вот крест на себя кладу! Время на вас дураков трачу, а оно дорого. Мамай идет! Чьи вы люди, дядя? Отвечай!
Шельма знал одно: держаться надо уверенно и грозно, иначе прибьют по-тихому и закопают, прельстившись златом-серебром. Для них, сиволапых, Боховы дукаты и талеры – сокровище несметное. Тут и дураки сообразят свою выгоду.
Но Сыч, видно, был не из сообразительных. Кинул кошель обратно.
– Мы-то князя Глеба Ильича Тарусского, – медленно сказал он. – Желаем за Русь постоять. А тебе веры нет. Я душу по глазам вижу. И твои глаза, обрезанный, брешут. Однако прав ты. Не моего ума дело, чей ты лазутчик. Отведем тебя к князю. – И отвернулся, будто Яшка был ему более не надобен. – Ребята! Каша не доварена, но ешьте какая есть. Пора в город. Этого свяжите покрепче, и про ноги не забудьте. Не сбежал бы.
Крестьяне наскоро, вынув из-за онуч ложки, похлебали горячего хлебова. Мужичье никогда жратву не бросит. Пока чавкали-хлюпали, Яшка молчал. Во-первых, знал, что по ихнему простецкому обычаю во время еды говорить срам. А во-вторых, больно уж тертый оказался Сыч, даже удивительно. При таком словесные кружева плести – только время тратить.
Иное дело – в дороге.
Сыч пошел первый, за ним еще четверо, и в самом хвосте двое вели под уздцы лошадь, на которой связанным кулем поперек седла висел Шельма.
– Как вас звать, православные? – тихо, душевно просипел Яшка.
Сейчас главное было беседу завязать.
Один лапотник назвался Фокой, другой Щукой.
– Хороша ль была каша?
– Сырая, – буркнул Щука.
– Поди, голодные остались? – Шельма участливо вздохнул. – Достаньте у меня из левой сумы узелок, угоститесь.
Достали. Смерд никогда от дарового харча не откажется.
В узелке лежали толстоскорлупные волошские орехи, из крымского запаса. В дальней степной дороге – самая лучшая пища. Два-три слопал – сыт, и сила есть.
Мужики, конечно, такого дива отродясь не видали.
Сунули в рот – не укусишь.
– Не так, – сказал Шельма. – Расколоть надо. Дайте сделаю. Сами не управитесь. Развяжите руки. Ох, сладки орехи!
Мужика на еду всегда заманить можно. На что другое они недоверчивы, а на еду – всегда.
– Развяжи его, Щука, – молвил Фока. – Куды он денется? Попробуем сладости.
Потирая свободные запястья, Яшка уселся в седле боком. Раскол два ореха ладонями – тут сноровка нужна. Дал дурням.
Сейчас ударить каблуками коня в бок, руками вцепиться в гриву – и поминайте, пни тарусские, как звали.
Сыч обернулся. Вынул из-за спины лук. Потрогал пальцем оперение стрелы, глядя на Шельму нехорошим взглядом.
– Эй вы, бестолки! Заморочил вас татарин? Ну-ка свяжите его обратно. И кляпом пасть заткните. Больно речист.
Сунули Яшке в рот грязную тряпку, и лишился он языка, главного своего оружия.
Таруса оказалась дрянь городишкой. Если б не поросший кустарником земляной вал, огораживавший сотню домов с церквушкой, зваться бы Тарусе селом. На несильно крутом берегу, близ соснового бора, стоял малый градец, покачивался в ранневечернем тумане, отражался в предзакатной воде широкого речного разлива, так что Тарусс получалось две: одна сизая, другая малиновая. И обе маленькие – тьфу, не на что смотреть. Шельма в этаких мелких селищах, которых на Руси многое множество, не видел никакого смысла. Ни торговли, ни богатства, одно небокоптение.
Проехали единственной улицей к площаденке, где княжье подворье – и не подворье даже, а ветхий, почерневший от времени терем с высоким, но покосившимся крыльцом. Забора, и того не было.
Там толпились люди: десятка два кольчужных дружинников, человек сорок мужиков с топорами. Собрались куда-то. Надо думать, на войну. В сторонке – бабы, заплаканные, молчаливые. Это у черного люда такой глупый обычай: если кто отправляется на войну или в дальнее странствие, провожать с ревом и причитаниями нельзя, а то живыми не вернутся. Мужикам же не положено оглядываться на жен и вздыхать. Потому бабы и мялись сами по себе. Когда ополчение уйдет, они заголосят. Но не раньше. Оно и в Новгороде так, у простых-то.
Еще на площади были две запряженные телеги и оседланный конь, без всадника.
Смерды обступили Сыча, стали спрашивать про Яшку – откуда-де татарин.
– Где князь? – спросил Федорыч, ничего не объясняя. – Почему вы доселе тут, вояки? Я-то думал, вы уже в походе, догонять придется. Кто на ночь глядя выступает? Через час-два темно будет.
Ему ответили:
– Мы что? Князь всё с невестой прощается. От послеполудня ждем.
Яшка жевал тряпичный ком, вертелся на лошадиной спине, выворачивался, чтоб лучше видеть и слышать.
– Развяжите ему ноги, посадите в седло, – велел Сыч. – Куда он теперь денется. А подойдет князь, выньте кляп.
Тут на крыльцо вышли трое, и Шельма на мужичье смотреть перестал.
Девка и двое мужчин. Ну-ка, который князь, молодой или старый?
Молодой, по всему видно: богатырская стать, золотая бородка, высокое чело, гордый взор, алое корзно поверх блестящего доспеха – как есть князь, не спутаешь. Он для Яшки сейчас был самой важной здесь особой, на нем бы всё внимание и сосредоточить, но скользнул Шельма быстрым взором по деве – и на время позабыл о своем недосужном положении. Глаза будто прилипли.
Господи боже, есть же на свете красавицы! Яшка на своем веку много распрекрасных баб-девиц повидал, грех жаловаться. Но такой не наблюдал ни в Новгороде, ни в Москве, ни в Любеке, ни в Риге, ни в Сарае, ни в прочих великих городах, против которых Таруса эта – кучка хвороста.
У девы спустился с головы узорчатый плат, и гладкие волосы медвяного цвета, стянутые в тугую косу, воссияли на позднем солнце, будто золоченый шлем либо царский венец. Лик был бел и округло-тонок, словно нераспустившаяся озерная кувшинка. Глаза широко раскрытые, лучистые и даже издали видно, что лазоревые – будто два василька.
– Ах, милый, – молвила неземная красавица, – неужто прямо сей час и уедешь? А я не хочу!
Что у ней был за голос! Нежно-волшебный, до того отрадный, что неважно, какие им рекутся слова, – слушать бы вечно да жмуриться.
Князь ответил что-то ласковое. Самое бы время Яшке на него получше глянуть, вслушаться, но всё не было сил отвести глаза от девы.
Правда и то, что Шельма теперь о себе тревожился не сильно. Князь, какой он ни есть, это не лапотное мужичье. Всегда уболтать можно.
По крыльцу, чуть сзади, спускался еще и третий, неинтересный. Какой-то жухлый, длиннобородый, в зеленого сукна шапке с бобровой оторочкой и длинной суконной же летней шубе на серебряных защепах. Боярин или дьяк. Топтался по-за распрекрасной парой, ничего не говорил.
На площади (Яшка, опомнившись, осмотрелся) мужчины все глазели на деву, бабы – на князя. Стало очень тихо, каждое слово слышно.
– Свет мой ясный Степанушка, – вздохнул витязь. – Пора. Ночь скоро. Свидимся ли – Бог весть. Судьба ль нам обвенчаться?
– Свидимся, как нам не свидеться, – прожурчал дивнозвучный голос. – А коли свидимся, то уж непременно обвенчаемся. Нельзя нам не обвенчаться.
– А если не свидимся? Если я голову сложу? Ведь вся татарская сила на нас идет. Не бывало еще, чтоб Русь взяла верх над ханским войском. А бегать я не стану, ты меня знаешь. Лучше костью лягу.
Князь был печальный, а его невеста – нисколько. Однако сердиться она умела. Сдвинула ажурные брови, топнула ножкой:
– Нет уж, этого ты не смей! Ты мне слово дал! Уж и о свадьбе объявлено! Батюшка велел мне платье пошить грецкой тафты, да опашень атласный!
– Три с полтиною рублика плачено, за платье-то, – сунулся сзади длиннобородый. – Мне для моей душеньки ничего не жалко.
И всхлипнул, утер слезу.
Отец, стало быть. И как только от этакого обмылка на свет чудо чудное произвелось? Загадка господня.
– Так ты веришь, Степания Карповна, что я вернусь? – просветлел ликом витязь.
– Попробуй не вернись! Я нарочно руки на себя наложу, чтоб тебя на том свете сыскать и глаза твои лживые выцарапать! Даже и слышать про такое не желаю! – И снова ножкой топнула.
– Ну, стало быть, вернусь, – улыбнулся князь. – Не захочет Господь своего ангела огорчить.
На самой нижней ступеньке он повернулся к площади, крикнул звучно:
– Прощайте, люди тарусские! Уходим биться с татарами! Берегите мне город! А пуще того берегите мою невесту, боярышню Степанию Карповну! Вернусь – быть ей вашей княгинею!
– Не тревожься, князюшка Глеб-свет Ильич, – молвил родитель боярышни, обнимая ее за плечо. – Сберегу для тебя голубку, не будь я Карп Фокич Солотчин. Дождемся тебя здесь, с победой и славой.
Но тут в умилительную беседу влез Сыч, грубый мужичина:
– Князь, мы татарина поймали. Говорит, лазутчик великокняжеский. Однако брешет.
Князь неохотно повернулся от невесты. На Шельму едва глянул. Глаза у тарусского владетеля были серые, с длинными золотистыми ресницами.
– А, мельник. Почем знаешь, что брешет?
– Вижу.
Яшка замычал: выньте кляп, всё обскажу.
Но князь, поморщившись, молвил:
– Пускай люди великого князя с ним разбираются. Киньте его в телегу, а на коня пускай Бойка сядет. Негоже старшему дружиннику тарусского князя пешему идти.
И снова отвернулся к свой зазнобе.
Яшку ссадили, запихнули в телегу с какими-то мешками, а на татарского коня влез рыжебородый дружинник, довольно оскалился щербатым ртом. Сказал, пришепетывая:
– Добрая лофадка.
– Речь войску скажи, – тихо посоветовал боярин Солотчин (Шельма по губам прочитал). – Положено.
Глеб Тарусский покашлял, почесал затылок под алой, в куньем мехе, шапкой.
– Ну что, воины православные… Великий князь Дмитрий Иванович собирает русскую силу у Коломны. Туда и пойдем. Ну, это… Не посрамим своей Тарусы. Вам, моя дружина, оно и по долгу надлежит. А вы, хрестьяне, кто по своей доброй воле идет, – обратился он к ополченцам, – вас за то Бог наградит. И я, жив буду, не забуду. Кто вернется – от тягла освобожу. Кто сложит голову, о семье позабочусь. Вот…
На том речь и закончилась. Князь, кажется, был некраснословен. Да и смотрел не столько на свое негрозное воинство, сколько на невесту.
Степания Карповна сказала ему:
– Погоди. Давай еще попрощаемся.
Надула розовые губки, сулясь заплакать.
Однако Сыч, который, оказывается, был мельник, а стало быть, важная по захолустным понятиям особа, нечинно дернул господина за край плаща:
– Пора, Глеб Ильич. Время позднее. Нам до темноты хотя б к Плещеевому лесу дойти.
Вздохнув, князь сел на коня, махнул рукой.
Нестройный отряд двинулся в путь. Мужики, кто послабее сердцем, все-таки оглядывались. Бабы держались из последней мочи, но пока не ревели. Одна какая-то крикнула: «Мокеюшкаааа! Ууууу!» – да сама заткнула себе рот краем платка.
Князь ехал самый последний, шагом. Всё оборачивался на крыльцо, откуда краса небывалая старательно махала ему белой ручкой.
Солнце стояло совсем низко, свету оставалось всего на час-полтора.
Яшка, которого везли в первой телеге, двигал челюстями – пытался вытолкнуть кляп. Пока не получалось, но всё при деле.
Грустный князь медленно ехал пообонь дороги, будто сам по себе. Уже не оглядывался – со стороны городка били багряные косые лучи, ничего не разглядишь.
Вскоре, однако, сзади донесся топот. Это поспешал на хорошем буланом жеребце боярин Солотчин, за ним четверо конных слуг.
– Провожу тебя немного, зятюшка. Пускай Степаша одна поплачет…
Заговорили меж собой, негромко.
Яшка, конечно, слух напряг, глазами впился. Попадать к московским ему было не с руки. Никакого лазутчика они знать не знают, и к тому же это вам не лопухи тарусские. Обыщут по всей науке, найдут в поясе алмазную змею. Отберут!
Выкручиваться надо было сейчас, в дороге. Потом поздно будет.
– …Позор-то какой, – жаловался на что-то князь Глеб участливо кивающему боярину. – Как я к Дмитрию Московскому таков явлюсь? Дружина мала и плоха, две трети – мужики-топорники. Удел и при батюшке-покойнике невелик был, а как поделили между нами, семью братьями, одно прозвание что князья. Таруса-городок да три деревеньки – всё мое владение. Людей горсть, вооружить не на что. А как не пойдешь? Ведь вся Орда на нас. Каждый дома останется – пропала Русь…
Солотчин ему, вздыхаючи:
– Эх, и я бы стариной тряхнул, шелом надел, да сам знаешь – мой князь Олег Иванович с татарами не враждует. Стыд и срам, стыд и срам…
Эге, сообразил Шельма, боярин-то не здешний, а Олега Рязанского. То-то одет богаче тарусского князя, и холопы сытомордые, на крепких конях. Рязанское княжество сильненькое и с Москвой на ножах. Им Дмитрий Московский хуже Мамая.
– Бог Олегу Ивановичу на то судья, – сказал Глеб, – и больше я ничего не скажу, потому что он твой господин.
– Это так, так, – поддакнул Солотчин.
А Яшка наконец исхитрился, вытолкнул изо рта проклятую тряпку. И сразу взялся за дело, благо теперь знал, чем взять тарусского голодранца.
– Эй, князь Глеб Ильич, сокол ясный! Знаю, как твоему горю помочь! Сделай милость, выслушай!
Тот удивился. Забыл про Шельму в расстройстве чувств.
– А, лазутчик.
– Не лазутчик я, прав твой мельник. Я купец. В Кафе жил, у крымской фрязи, железным товаром торговал. Но душой я русский и за Русь живота не пожалею! Одна она у нас, матушка!
С малоумными, которые доброй волей на погибель идут, только так и надо разговаривать – на ихнем языке.
– Зачем же ты наврал, что служишь московскому великому князю? – спросил Глеб, подъезжая.
– Чтобы меня к нему отвезли. Есть у меня для Дмитрия Ивановича кое-что поважней донесения. Знает ли твоя милость, что такое бомбаста?
– Нет, не знаю.






