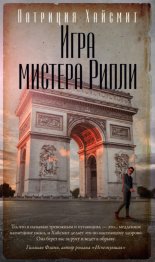Форма реальности Элленберг Джордан

Что это может значить?
Вот тут и вступает в игру теория Пуанкаре и Нётер. Как следует из названия, эйлерову характеристику системно изучал швейцарский математик-универсал Леонард Эйлер, однако он рассматривал только двумерные поверхности. Многие люди, включая Иоганна Листинга, пытались распространить идеи Эйлера на трехмерный случай. Но только после Пуанкаре ученые поняли, как перенести результат Эйлера в пространства размерности более трех. Я не стану запихивать на одну страницу первый курс алгебраической топологии, а просто скажу, что Пуанкаре и Нётер дали общую теорию дыр любой размерности, и в их системе количество нульмерных отверстий в каком-то пространстве – это просто число частей, на которое оно разбивается. Шарик, как и соломинка, представляет собой единый объект, поэтому у него только одно отверстие нулевой размерности. А вот два шарика имеют два нульмерных отверстия.
Это определение может показаться странным, но с ним все работает. Шарик имеет:
1 нульмерное отверстие + 1 двумерное отверстие – 0 одномерных отверстий,
что дает нам эйлерову характеристику, равную 2.
В прописной букве В одно нульмерное отверстие и два одномерных, поэтому ее эйлерова характеристика равна – 1[94]. Разрежьте нижнюю петлю буквы B – и получите букву R, у которой эйлерова характеристика равна 0: у буквы R на одно одномерное отверстие меньше, поэтому число увеличилось на 1. Разрезав петлю буквы R, получите букву K: ее эйлерова характеристика равна 1. Вы могли бы также отрезать ножку у буквы R, получив две буквы P и I; теперь у вас два отдельных куска, поэтому два нульмерных отверстия и одно одномерное в букве P дают 2–1 = 1. Каждый раз, когда вы делаете разрез, вы увеличиваете эйлерову характеристику на 1, и это верно, даже если вы своим разрезом не устраняете одномерную дыру. У буквы I эйлерова характеристика равна 1; разрежьте ее – и получите две буквы I с эйлеровой характеристикой 2. Следующий разрез даст три I и характеристику 3 и так далее.
Что, если вы сошьете вместе нижние отверстия штанов? Не стану вдаваться в подробности, но получившаяся форма в системе Пуанкаре имеет одну нульмерную и две одномерные дыры, что дает эйлерову характеристику –1. Иными словами, в штанах после нашего вандализма столько же отверстий, сколько было и до него. Вы избавились от одного, сшив отверстия у лодыжек, но создали новое, которое теперь находится между штанинами. Убедительно? С удовольствием посмотрел бы на такое рассуждение в Snapchat![95]
Глава 3. Одно название разных вещей
Симметрия – это основа современного понимания геометрии. Более того, то, что мы решаем считать симметрией, определяет, с какой геометрией мы имеем дело.
В евклидовой геометрии симметрии – это движения фигур как твердого тела: любые комбинации сдвигов (переносов), переворачиваний (отражений) и вращений. Язык симметрии позволяет говорить о конгруэнтности (равенстве) более современным способом. Вместо того чтобы сказать: два треугольника конгруэнтны, когда соответствующие стороны и углы равны, мы говорим: треугольники конгруэнтны, если существует движение, которое переводит один в другой. Разве это не более естественно? Действительно, читая Евклида, чувствуешь, что он еле сдерживается (не всегда успешно), чтобы не выразиться именно таким образом.
Зачем в качестве фундаментальных симметрий брать движения? Одна из веских причин состоит в том (хотя доказать это не так-то легко), что именно движения – это то, что вы можете проделывать с плоскостью, сохраняя при этом расстояние между точками; собственно, и слово симметрия происходит от древнегреческого слова (соразмерность), которое образовано из слов - (вместе, с, совместно) и (измеряю). Термин, означающий «равная мера», был бы лучше; и действительно, в современной математике словом изометрия (от греческих слов – равный, одинаковый, и – измеряю) называют преобразования, которые сохраняют расстояние.
Эти два треугольника конгруэнтны,
а потому мы склонны, как и Евклид, считать, что они равны, несмотря на то что на самом деле это два разных треугольника, расположенных в нескольких сантиметрах друг от друга. Это подводит нас к другому изречению постоянно цитируемого Пуанкаре:
Математика – это искусство давать одно название разным вещам.
Подобные проблемы с определениями – часть нашего мышления и речи. Представьте, что кто-то спрашивает вас, не из Чикаго ли вы, а вы отвечаете: «Нет, я из Чикаго двадцатипятилетней давности». Это было бы абсурдной педантичностью, поскольку, говоря о городах, мы неявно подразумеваем симметрию при переносе во времен. В стиле Пуанкаре мы называем Чикаго прошлого и Чикаго настоящего одним и тем же словом.
Конечно, мы могли бы строже Евклида отнестись к тому, что считать симметрией: например, запретить отражения и вращения, оставив только перенос на плоскости без поворотов. Тогда эти два нарисованных выше треугольника уже не были бы равны, поскольку указывают в разных направлениях.
А если оставить вращения, но отказаться от отражений? Вы можете представить это как класс допустимых преобразований, но только в пределах плоскости: вы можете передвигать и поворачивать объекты, но запрещается их поднимать и переворачивать, поскольку это означает запрещенный выход в трехмерное пространство. Согласно таким правилам, мы по-прежнему не можем назвать эти два треугольника одним именем. В левом треугольнике порядок сторон от самой короткой к самой длинной идет против часовой стрелки. Как бы вы ни двигали и не поворачивали эту фигуру, это свойство сохранится, а значит, левый треугольник никогда не совпадет с правым, в котором короткая, средняя, длинная стороны идут по часовой стрелке. Отражение меняет направление по часовой и против часовой стрелки, а переносы и повороты – нет. Без отражения направление обхода короткая, средняя, длинная сторона – это свойство треугольника, которое никакая симметрия не изменит. Это то, что мы называем инвариантом.
У каждого класса симметрий есть собственные инварианты. Движение не может изменить площадь треугольника или любой иной фигуры; в терминах физики мы могли бы сказать, что это закон сохранения площади для движения. Есть и закон сохранения длины, поскольку движение не может изменить длину отрезков[96].
Повороты плоскости понять легко, однако переход к трехмерному пространству значительно усложняет дело. Еще в XVIII веке (опять Леонард Эйлер!) ученые выяснили, что любое вращение трехмерного пространства можно представлять как вращение вокруг какой-то неподвижной прямой – оси. Пока все хорошо, но остается куча вопросов. Предположим, я совершаю поворот на 20 градусов вокруг вертикальной оси, а потом на 30 градусов вокруг оси, указывающей горизонтально на север. Результирующее вращение должно оказаться поворотом на некоторое количество градусов вокруг какой-то прямой, но какой? Получится примерно 36 градусов вокруг оси, направленной вверх и куда-то на северо-северо-запад. Но увидеть это непросто! Человеком, разработавшим гораздо более удобный способ думать об этих вращениях – представлять их в виде своеобразного числа, называемого кватернионом, – был тот самый друг Вордсворта, Уильям Роуэн Гамильтон. Как известно, 16 октября 1843 года Гамильтон с женой шли вдоль Королевского канала в Дублине, когда… Давайте дадим слово самому Гамильтону.
Хотя она время от времени разговаривала со мной, в моей голове шла подспудная работа мысли, которая в итоге дала результат, и не будет преувеличением сказать, что я сразу понял его важность. Казалось, замкнулась электрическая цепь и проскочила искра… Я не смог устоять перед побуждением – каким бы противоречащим философии оно ни было, – проходя по мосту Брумридж, вырезать ножом на его каменной кладке фундаментальную формулу…
Гамильтон большую часть оставшейся жизни изучал следствия из своего открытия. Излишне говорить, что он написал о нем стихотворение. («Наука высших сфер с суровым очарованием чисел и фигур влекла нас за собой, и мы стремились узреть ее нерожденное потомство…» В общем, вы уловили идею.)
Мы также можем повернуть ручку в сторону ослабления условий и рассмотреть более широкий спектр преобразований. Мы могли бы разрешить увеличение и уменьшение так, чтобы показанные далее фигуры считались равными.
Некоторые величины, раньше бывшие инвариантами (например, площадь треугольников), в таком более мягком представлении о тождественности уже ими не будут. Однако другие величины (например, углы) инвариантами остаются. На школьных уроках геометрии фигуры, одинаковые в этом более широком смысле, назывались подобными.
А еще мы можем изобрести совершенно новые понятия, с которыми никогда не сталкивались в школе. Мы можем, скажем, разрешить преобразование под условным названием скронч, которое будет растягивать фигуру по вертикали с определенным коэффициентом и одновременно сжимать ее по горизонтали с тем же коэффициентом[97].
При скронче какой-нибудь фигуры ее площадь не меняется. Это очевидно для прямоугольников, ориентированных сторонами по вертикали и горизонтали: поскольку их площадь равна произведению сторон, при скронче высота умножается на какое-то число, а ширина делится на это же число, поэтому произведение останется прежним. Посмотрим, можете ли вы доказать тот же факт для треугольника, что гораздо сложнее!
В скронч-геометрии (скрончметрии) мы называем две фигуры равными, если можем перейти от одной к другой с помощью параллельного переноса и скронча. Два скронч-равных треугольника имеют одинаковую площадь, но два треугольника с одинаковой площадью не обязательно скронч-равные: например, после скронча любой горизонтальный отрезок остается горизонтальным, следовательно, треугольник с одной горизонтальной стороной нельзя сделать скронч-равным треугольнику без горизонтальной стороны.
Даже на плоскости есть большое количество возможных типов симметрии, поэтому охватить их здесь максимально исчерпывающе нереально. Чтобы дать скромное представление об этом «зверинце», приведем диаграмму из авторитетной книги Гарольда Коксетера и Самуэля Грейтцера «Новые встречи с геометрией».
Это дерево во многом похоже на генеалогическое древо, где каждый «ребенок» – частный случай «родителя». Поэтому изометрия (то, что мы называли движением) – это частный случай подобия, а отражения и вращения – частный случай изометрии. «Прокрустово растяжение» – яркий термин Коксетера и Грейтцера для скронча. Аффинные преобразования – те, что получатся, если вы разрешите скронч и подобие. Язык симметрии дает нам естественный способ организовать многие определения в планиметрии (геометрии на плоскости). Упражнение: покажите, что эллипс – это любая фигура, получаемая аффинным преобразованием из круга. Более сложное упражнение: покажите, что параллелограмм – это любая фигура, которая получается аффинным преобразованием из квадрата.
Не существует правильного ответа на вопрос, какие пары фигур «действительно» одинаковые. Это зависит от предмета нашего интереса.
Если нас интересует площадь, то подобия будет недостаточно, поскольку площадь не инвариантна относительно подобия. Но если нас заботят только углы, то незачем настаивать на конгруэнтности: это может быть чересчур трудоемко.
Подобия вполне достаточно. Каждое понимание симметрии порождает собственную геометрию, собственный способ решать, какие вещи отличаются настолько, что лучше не давать им одинаковых названий.
Евклид непосредственно о симметрии почти не писал, но его последователи не могли не задуматься об этом, даже в контекстах, далеких от плоских фигур.
Идея, что при симметрии должны сохраняться те или иные важные величины, естественна для нашего мышления. Линкольн, например, писал в своих личных заметках в 1854 году в весьма геометрическом стиле:
Если А. способен убедительно доказать, что он может по праву поработить B., то почему B. не может воспользоваться тем же аргументом и точно так же доказать, что он может поработить А.?[98]
Линкольн предполагает, что моральная допустимость должна быть инвариантом, подобно площади евклидова треугольника, и не должна меняться только потому, что вы отразили фигуру, чтобы она указывала в противоположном направлении.
При желании мы можем пойти еще дальше, выйдя за рамки школьных уроков. Никаких карандашей, книг и неодобрительных взглядов Евклида! Мы могли бы позволить совершенно произвольно растягивать и сминать фигуры, лишь бы они не рвались; то есть треугольник может стать окружностью или сложиться в квадрат:
но не может стать отрезком, поскольку для этого его пришлось бы где-то разорвать[99]. Звучит знакомо? Этот экстравагантно неприхотливый вид геометрии, где треугольник, квадрат и окружность – одна и та же вещь, и есть топология, созданная Пуанкаре для решения задачи о соломинке. (Ладно, возможно, у него были и другие причины.) Эти симметрии, которые включают в себя все вышеупомянутые типы симметрии, представляют собой непрерывные преобразования, стоящие на ступеньку ниже самой верхней строки в диаграмме Коксетера и Грейтцера. В этой гибкой геометрии не сохраняются ни углы, ни площади. Отпадают все несущественные детали, о которых так заботился Евклид, остается только чистое представление о форме.
В 1904 году в городе Сент-Луис проходила Всемирная выставка[100], посвященная столетию покупки Соединенными Штатами огромной территории Луизианы у Франции (сделка состоялась 101 год назад, но попробуйте устроить такое масштабное мероприятие вовремя!). Выставку, одновременно с которой в городе проходили Олимпийские игры и Национальный съезд Демократической партии, посетило более 20 миллионов человек. Целью была демонстрация того, что Соединенные Штаты, и особенно их центральная часть, готовы к выходу на мировую арену. Событие было увековечено в песне Meet Me in St. Louis («Встретимся в Сент-Луисе»). Из Филадельфии приехал колокол Свободы. Выставлялись картины Джеймса Мак-Нейла Уистлера и Джона Сингера Сарджента. Родившегося в строительной палатке ребенка назвали Louisiana Purchase O’Leary (буквально – Луизианская Покупка О’Лири). Город Бирмингем в Алабаме заказал 17-метровую чугунную статую Вулкана для развития своей сталелитейной промышленности. Легендарный индейский вождь Джеронимо подписывал свои фотографии, а перед толпами появлялась Хелен Келлер[101]. Некоторые утверждают, что именно тогда изобрели мороженое в вафельном стаканчике. А в сентябре прошел Международный конгресс искусств и наук, куда съехались выдающиеся иностранные ученые со всего мира, чтобы пообщаться со своими американскими коллегами там, где впоследствии будет кампус Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Присутствовал и сэр Рональд Росс – британский врач, лауреат Нобелевской премии по медицине за открытие механизмов передачи малярии. Приехали и соперничавшие немецкие физики Людвиг Больцман и Вильгельм Оствальд, которые вели сражение за фундаментальную структуру материи: состоит она из дискретных атомов, как думал Больцман, или базовый материал Вселенной – непрерывные энергетические поля, как считал Оствальд? Присутствовал там и Пуанкаре, которому к тому времени исполнилось пятьдесят лет, и он был самым известным геометром в мире. В последний день конгресса он прочитал лекцию на тему «Принципы математической физики» крайне осторожным тоном, поскольку в то время эти принципы подвергались чрезвычайному давлению.
«Существуют признаки серьезного кризиса[102], – сказал Пуанкаре, – которые, казалось бы, указывают на то, что сейчас мы можем ожидать каких-то перемен. Однако поводов для серьезного беспокойства нет. Мы уверены, что пациент не умрет, и даже можем надеяться, что кризис будет оздоровляющим».
Кризис, с которым столкнулась физика, касался проблемы симметрии. Хотелось бы надеяться, что законы физики не изменятся, если вы сделаете шаг в сторону или повернетесь в другом направлении, – иными словами, они инвариантны относительно движений трехмерного пространства. Более того, эти законы в представлении Пуанкаре не должны меняться, если сесть в двигающийся автобус; это просто более сложный вид симметрии, включающий координаты как пространства, так и времени.
Поначалу может показаться неочевидным, что в физике ничего не должно меняться, если наблюдатель будет двигаться, ведь, когда стоишь или двигаешься, ощущения разные, не так ли? Отнюдь. Даже если Анри не едет на автобусе, он стоит на планете Земля, а она с огромной скоростью вращается вокруг Солнца, которое и само по какой-то безумной траектории летит вокруг ядра галактики и так далее. Если не существует абсолютного неподвижного наблюдателя, то нам лучше не принимать физические законы, которые верны только с точки зрения наблюдателя. Они не должны зависеть от его движения.
А теперь о кризисе: похоже, с физикой все обстояло не так. Уравнения Максвелла, великолепно объединявшие теории электричества, магнетизма и света, оказались не инвариантными относительно симметрий, как ожидалось. Самый популярный способ разрешить эту тошнотворную ситуацию – постулировать, что существует абсолютно неподвижная точка отсчета, невидимая основа, именуемая эфиром, – то сукно, по которому катятся все бильярдные шары Вселенной. Тогда истинными законами физики были бы законы, наблюдаемые с точки зрения этого эфира, а не с точки зрения людей на планете. Однако хитроумные эксперименты, предназначенные для обнаружения эфира или измерения скорости прохождения через него Земли, потерпели неудачу. Попытки объяснить этот провал вылились в появление неприятных специальных постулатов вроде сжатия Лоренца – идеи, что длина всех двигающихся объектов уменьшается в направлении их движения. Фундаментальная физика была больна. Пуанкаре завершил свою лекцию попыткой набросать способ избежать опасности:
Возможно, нам придется построить совершенно новую механику, на которую мы можем взглянуть лишь краешком глаза, где инерция будет возрастать со скоростью, а скорость света будет пределом, за который невозможно выйти. Обычная, более простая механика останется первым приближением, поскольку она верна для не слишком больших скоростей, так что старая динамика будет заключена в новой. У нас не должно быть причин сожалеть, что мы верили в старые принципы, – в самом деле, так как скорости, слишком большие для старых формул, всегда останутся исключительными и на практике безопаснее всего будет действовать так, словно мы продолжаем в них верить. Они настолько полезны, что для них следует оставить место. Стремиться полностью их изгнать – значит лишиться ценного оружия. В заключение спешу сказать, что мы еще не достигли этого рубежа и пока еще нет доказательств, что они не выйдут из схватки победителями, в целости и сохранности[103].
Как и предсказывал Пуанкаре, пациент не умер. Напротив, он поднялся с кровати в причудливо измененном виде. В 1905 году, менее чем через год после конференции в Сент-Луисе, Пуанкаре показал, что уравнения Максвелла все-таки симметричны. Однако задействованные симметрии, так называемые преобразования Лоренца, были новыми и смешивали пространство и время гораздо более хитрым способом, нежели «я находился в этом автобусе два часа, так что я в сорока километрах к северу от того места, где был». (Эта разница особенно заметна, когда автобус двигается со скоростью 90 % от скорости света.) С этой новой точки зрения сжатие Лоренца оказывалось не каким-то странным неуклюжим ляпом, а естественной симметрией: то, что какой-то объект может менять длину при столкновении с симметрией Лоренца, не более странно, чем тот факт, что треугольник может менять форму, когда к нему применяется скронч-преобразование. Если вы знакомы с симметриями, то знаете о том, насколько разными могут быть две вещи, называемые «одинаковыми». Пуанкаре был полностью готов к этому скачку, поскольку уже был одним из новаторов в чистой математике, разработавшим формы планиметрии (геометрии плоскости), отличавшиеся от евклидовых, в частности с другой группой симметрий. А «четвертая геометрия» Пуанкаре, которую он сформулировал еще в 1887 году, была не чем иным, как скронч-плоскостью.
Скронч-геометрия включает законы сохранения вертикали и горизонтали: если две точки соединены вертикальным или горизонтальным отрезком, то и после скронч-преобразования это свойство сохранится. Лоренцево пространство-время во многом такое же. Точка в пространстве-времени – это положение и момент времени; особые отрезки, которые сохраняются при симметриях Лоренца, – это отрезки, соединяющие два положения-момента, для которых положения разделены расстоянием, в точности равным преодоленному светом за время между их моментами. Иными словами, в геометрию встраивается скорость света. На вопрос о том, может ли свет добраться из положения-момента А в положение-момент В, есть определенный ответ, который будет одним и тем же независимо от того, сидите вы в движущемся автобусе или нет.
Скронч-плоскость подобна детской версии пространства-времени Лоренца. Вы можете думать о ней следующим образом: так выглядела бы релятивистская физика, если бы у нас вместо трех измерений пространства имелось всего одно, и вместе с одномерным временем получалось бы двумерное пространство-время.
Однако Пуанкаре не разработал теорию относительности. Последнее предложение его лекции в Сент-Луисе объясняет почему. Пуанкаре надеялся, что фундаментально менять физику не придется. С помощью математических исследований он открыл странную геометрию, к которой вели уравнения Максвелла, но у него не хватило смелости проследить весь путь до странной точки на горизонте, на которую они указывали. Он был готов согласиться с тем, что физика может оказаться не такой, как представляли он и Ньютон, но не был готов принять то, что геометрия самой Вселенной может оказаться не той, которую представляли он и Евклид.
То, что Пуанкаре увидел в уравнениях Максвелла, в том же 1905 году увидел и Альберт Эйнштейн. Более молодой ученый был смелее. Именно Эйнштейн «перегеометрил» лучшего геометра мира и перестроил физику в соответствии с указаниями симметрии.
Математики быстро осознали важность новых разработок. Герман Минковский первым проработал эйнштейновскую теорию пространства-времени до ее геометрической основы (поэтому то, что мы называем здесь скронч-плоскостью, на самом деле называется плоскостью Минковского, если вы захотите об этом почитать). А в 1915 году Эмми Нётер установила фундаментальную связь между симметриями и законами сохранения. Нётер жила абстракциями и, став старше, описывала свою диссертацию 1907 года – крайне изобретательную вычислительную работу, включавшую определение 331 инварианта полиномов четвертой степени от трех переменных, – как «дерьмо»[104] и «дебри формул» (Formelngestrupp). Слишком неряшливо и специфично! Модернизация теории дыр Пуанкаре таким образом, чтобы речь шла о пространстве дыр, а не о простом их подсчете, во многом соответствовала ее менталитету и расчистила хаос законов сохранения в математической физике. Поиск величин, которые сохраняются при данной симметрии, почти всегда важный физический вопрос; Нётер доказала, что каждый вид симметрии связан с соответствующим законом сохранения, увязав то, что было беспорядочной кучей вычислений, в аккуратную математическую теорию и решив тем самым загадку, озадачившую самого Эйнштейна.
Нётер уволили из Гёттингенского университета в 1933 году вместе с другими учеными-евреями, и она переехала в США, где стала работать в колледже Брин-Мар, однако вскоре умерла в возрасте всего лишь 53 лет от инфекции после вроде бы успешной онкологической операции. Эйнштейн написал письмо в The New York Times, воздав должное ее работе словами, которые великая специалистка по абстракциям, несомненно, оценила бы:
Она открыла методы[105], которые оказались крайне важными для развития современного молодого поколения математиков. Чистая математика – это в своем роде поэзия логических идей. Разыскиваются самые общие идеи, которые объединяют в простую, логичную и единую форму максимально широкий круг формальных отношений. В этом стремлении к логической красоте обнаруживаются божественные формулы, необходимые для более глубокого проникновения в законы природы.
Глава 4. Фрагмент сфинкса
Вернемся к выставке в Сент-Луисе. Напомним, что среди крупных ученых там присутствовал сэр Рональд Росс, который в 1897 году установил, что малярия переносится укусами комаров-анофелесов. К 1904 году он стал мировой знаменитостью, и идея пригласить его в Миссури для чтения лекции было весьма удачной. Заголовок в газете St. Louis Post-Dispatch гласил: «Человек-комар уже в пути»[106].
Лекция Росса называлась «Логические основы санитарной политики по снижению количества комаров», что, надо признать, не звучит сенсационно. Однако это выступление стало первым проблеском новой геометрической теории, которая готовилась ворваться в физику, финансы и даже изучение поэтических стилей: теории случайных блужданий.
Росс выступал во второй половине дня 21 сентября[107] – как раз тогда[108], когда в другом месте выставки губернатор Ричард Йейтс смотрел парад призового домашнего скота. Росс начал:
Предположим, вам удалось остановить размножение комаров в некоей круглой области, осушив пруды, где развиваются личинки. Это не устранит всех потенциальных малярийных комаров в этой местности, поскольку они могут родиться вне этого круга и прилететь в него. Однако жизнь комара коротка, и никаких целенаправленных устремлений у него нет; он не полетит прямым курсом к центру круга, да и в целом вряд ли заберется далеко вглубь за то короткое время, что ему отведено природой. Поэтому можно надеяться, что в каком-то районе вблизи центра нашего круга не будет малярии, если круг достаточно велик.
Насколько велик? Это зависит от того, как далеко в своих блужданиях может залететь комар. Росс продолжил:
Предположим, что комар рождается в определенной точке, но в течение своей жизни блуждает туда-сюда, влево-вправо, как ему заблагорассудится… Через какое-то время он умирает. Какова вероятность того, что его мертвое тело окажется на заданном расстоянии от места рождения?
Вот диаграмма, которую представил Росс. Пунктирная линия – это движение блуждающего комара; прямая – путь более целеустремленного комара, преодолевшего до своей смерти гораздо большее расстояние. «Всеобъемлющий математический анализ, определяющий этот вопрос, довольно сложен, – сказал ученый, – и я не могу справиться с ним во всей полноте»[109].
В XXI веке можно легко смоделировать путь комара, двигающегося по таким путям, что позволит улучшить диаграмму Росса, рассмотрев не пять этапов перемещения комара, а десять тысяч.
Типичная картина: иногда комар держится какое-то время в одном месте, и его траектория пересекает себя так часто, что почти заполняет все пространство; иногда кажется, что насекомое обретает какое-то чувство направления, и ему удается преодолеть некоторое расстояние. Должен сказать, что наблюдение за анимацией этого процесса затягивает – безо всяких разумных на то оснований.
Росс разобрался только с гораздо более простым случаем, когда комар придерживается прямой линии, выбирая, лететь ему на северо-восток или на юго-запад. Мы тоже справимся! Предположим, что комар живет десять дней и каждый день выбирает, лететь ему километр на северо-восток или километр на юго-запад. Если учесть, что выбор из двух вариантов происходит ежедневно, общее количество возможных карьерных траекторий насекомого равно 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 = 1024, причем все пути равновероятны (при условии, что наш комар беспристрастен). Чтобы комар закончил свои дни в 10 километрах к северо-востоку от места появления, ему нужно десять раз подряд выбрать северо-восточное направление движения, а это означает, что так поступит только один комар из 1024. Такая же крохотная доля всех комаров умрет в 10 километрах к юго-западу от родины. Сколько асекомых окажутся на расстоянии 8 километров? Для этого нужно, чтобы комар совершил определенную последовательность выборов, например:
СВ, СВ, СВ, ЮЗ, СВ, СВ, СВ, СВ, СВ, СВ,
где девять раз будет выбрано одно направление и один раз противоположное. Одинокий ЮЗ может находиться на любом из десяти мест, поэтому 10 из 1024 путей заканчиваются в 8 километрах к северо-востоку и еще 10 – в 8 километрах к юго-западу, то есть всего нужных путей 20. Присмотревшись, можно увидеть, что на внешних окружностях своей диаграммы Росс написал маленькие цифры 2 и 20. Если хотите, можете попробовать нарисовать 45 путей, которые заканчиваются в 6 километрах к северо-востоку от исходной точки, или 210, завершающихся в 2 километрах к северо-востоку, или 252, которые возвращают комара в тот самый зловонный пруд, где он родился. Самым вероятным местом могилы комара будет точка его рождения. Это имеет смысл, поскольку задачу о комарах можно смоделировать, подбросив десять монет: если выпал орел, то мы двигаемся на северо-восток, а если решка, на юго-запад. Итоговое расстояние в 8 километров означает, что выпало 9 орлов и 1 решка; возвращение домой означает 5 орлов и 5 решек, а это в действительности самый вероятный исход при подбрасывании десяти монет. Если вы построите гистограмму для всех результатов, то получится старая добрая колоколообразная кривая нормального распределения, показывающая склонность комаров держаться своих корней.
Однако мы можем узнать больше. Немного поработав, можно вычислить, что за 10 дней комар в среднем преодолеет 2,46 километра. Это типичная продолжительность жизни самцов. Самки комаров живут больше 50 дней и за это время в среднем продвинутся на 5,61 километра. Комар-долгожитель, живущий 200 дней, теоретически мог бы пролететь 200 километров, но в среднем удалится на 11,27 километра от дома. Четырехкратное увеличение жизни увеличивает расстояние всего вдвое. Здесь мы сталкиваемся со свойством, впервые обнаруженным Абрахамом де Муавром в XVIII веке (правда, он изучал не комаров, а подбрасывание монет): среднее отклонение числа орлов от половины при n подбрасываниях монеты определяется квадратным корнем из n. Комар с продолжительностью жизни, стократно превышающей норму, скорее всего, заберется всего лишь вдесятеро дальше своих недолговечных собратьев. Комар может улететь дальше, чем вы ожидаете, но с большой вероятностью этого не произойдет. Шансы, что комар на двухсотый день жизни окажется не ближе 40 километров от дома, составляют всего лишь 3 на 1000[110].
Однако 2,46 – это не квадратный корень из 10, а 11,27 – это не квадратный корень из 200! Хорошо-хорошо, я только рад, что вы читаете книгу с карандашом в руке. Более точное приближение состоит в следующем: за первые N дней путешествия комар в среднем улетит на расстояние, примерно равное Проверяем: за десять дней комар пролетает
Весьма близко! А для 200 дней получаем
что тоже прекрасно соответствует вышесказанному.
Наличие может заставить зазвучать вашу геометрическую сигнализацию: может, здесь присутствует из-за того, что комар пересекает круг? Увы, нет. В конце концов, в простой модели Росса насекомые двигались только по прямой. Да, поначалу мы сталкиваемся с числом , изучая отношение длины окружности к ее диаметру, но, как и большинство математических констант, оно возникает повсеместно – вы можете просто свернуть за угол и наткнуться на него. Один из моих любимых примеров: выберите наугад два натуральных числа и задайтесь вопросом, с какой вероятностью они взаимно просты (то есть не имеют общих делителей, отличных от 1). Вероятность этого равна 6/2, хотя никакой окружности тут не видно.
Число у комаров появляется из анализа, в частности из величины одного интеграла, который включает по каким-то собственным специфическим причинам. Его вычисление было сложной задачей для французских математиков XVIII и XIX веков, но сейчас мы можем этому научить в третьем семестре анализа (хотя, если не показать хитрый трюк, то с интегралом справится только одаренный студент). Вы можете увидеть его вычисленным в фильме 2017 года «Одаренная», где этот интеграл предлагается в виде задачки для Мэри Адлер – семилетней девочки-вундеркинда, которую сыграла девятилетняя Маккенна Грейс.
Я знаю это не потому, что смотрел фильм в самолете (хотя я смотрел: какое-то время его часто показывали в самолетах), а потому, что присутствовал на съемочной площадке в качестве консультанта, чтобы в фильме все было правильно с математической точки зрения. Если вы когда-либо смотрели картину с математическим содержанием, то, возможно, задавались вопросом, сколько усилий требуется для того, чтобы детали были верными. Оказывается, много. Достаточно, чтобы заплатить математику за то, чтобы он провел большую часть дня в задней части якобы лекционного зала Массачусетского технологического института (на самом деле съемки велись в Университете Эмори в Атланте), в то время как какой-то профессор в исполнении характерного актера (чаще играющего отрицательных героев-славян в полицейских сериалах) проверяет способности одаренного ребенка[111]. Как выяснилось, мне было чем заняться. В одном из диалогов Мэри обращается к своей бабушке (которая по каким-то причинам оказывается британкой и живет отдельно от дяди девочки и одновременно ее опекуна из-за доказательства проблемы Навье – Стокса, которое покойная мама вундеркинда, возможно, нашла, но не опубликовала; знаете, это долго объяснять, давайте двигаться дальше) и говорит «отрицательное», хотя в соответствии с написанным на доске надо сказать «положительное». Я подошел к матери Грейс – единственному человеку, с которым, на мой взгляд, мне было дозволено общаться, и поинтересовался, нужно ли мне кому-то об этом сообщить. Это важно? Да, это было важно. Она быстро препроводила меня к режиссеру Марку Уэббу и приказала передать ему все, что я только что ей сказал. И все мгновенно остановилось. Они изменили слово, Грейс пошла учить новую фразу, все остальные стояли и перекусывали снеками со стола с закусками. Сколько денег теряется в секунду, когда несколько десятков узкоспециализированных профессионалов, участвующих в создании полнометражного фильма на ведущей киностудии, одновременно праздно едят орехи? Это нижняя граница, показывающая, как сильно студия заботится о том, что написано математическим мелким шрифтом. Я спросил режиссера: «Кому-то есть до этого дело? Это вообще кто-нибудь заметит?» Он ответил уставшим и одновременно каким-то восхищенным тоном: «Люди в интернете заметят!»
На съемках я узнал, что создание фильма имеет нечто общее с написанием математической статьи: основная идея для изложения не так уж сложна, однако огромное количество времени тратится на мелкие детали, которые большинство людей вряд ли заметили бы.
Поскольку я уже был на съемочной площадке, Уэбб предложил мне стать перед камерой и сыграть роль профессора, рассказывая о теории чисел примерно шесть секунд, в то время как Грейс прилежно этому внимала. Готовясь к этим шести секундам, я провел в костюмерной целый час. Правда, в навязчивом стремлении съемочной группы фильма «Одаренная» к точному соблюдению всех деталей было одно исключение: мне дали туфли, которые были намного лучше и гораздо дороже, чем те, что носит на занятия любой профессор математики. А еще я узнал о киноиндустрии один грустный факт: они не позволяют вам оставить эти туфли себе.
Меня часто спрашивают, как опрос двухсот человек может сказать что-то достоверное о предпочтениях миллионов избирателей? Если так ставить вопрос, то это звучит сомнительно, словно попытка узнать, какой суп в тарелке, попробовав всего одну ложку.
Но на самом деле вы вполне можете это сделать! Ведь у вас есть все основания думать, что в вашей ложке находится лучайная выборка – образец супа. Вы никогда не залезете в тарелку с клэм-чаудером так, чтобы в вашей ложке оказался минестроне[112].
Именно этот суповой принцип и делает опросы такими эффективными. Но он не говорит вам, насколько точно опрос отражает ситуацию в городе, штате или стране, в которых проводится. Ответ кроется в медленном беспорядочном движении комара из пруда. Возьмем какой-нибудь штат, например Висконсин, где я живу и где демократов и республиканцев практически поровну. Теперь представьте себе комара, движение которого определяется следующим образом: я звоню случайному висконсинцу, узнаю его политические взгляды и командую насекомому лететь на северо-восток, если мой респондент – демократ, и на юго-запад, если он голосует за республиканцев. Это в точности модель Росса: комар двигается случайно двести раз в том или ином направлении. Откуда нам знать, что мы не позвоним случайно двумстам демократам и не получим совершенно искаженное представление о том, как голосует Висконсин? Конечно, гипотетически такое возможно – так ведь и комар мог целенаправленно двигаться на северо-восток с места рождения и до смерти. Но этого с большой долей вероятности не произойдет. Мы уже видели, что расстояние от дома до комара через 200 дней (которое численно равно разности между количеством демократов и республиканцев в нашем опросе) в среднем составляет примерно 11 километров. Поэтому вовсе не странно было бы обнаружить в нашем опросе 106 республиканцев и 94 демократа. Другое дело, если бы выявилось соотношение 120 на 80, далекое от политической реальности. Это все равно что зачерпнуть в тарелке Висконсина, а получить ложку Миссури. Если республиканцев на 40 больше, чем демократов, то это эквивалентно тому, что комар блуждает в 40 километрах от дома, а мы уже видели, что вероятность такого сценария всего 3 из 1000.
Иными словами, маловероятно, что двести участников опроса будут существенно отличаться от висконсинцев в целом. Ложка супа имеет тот же вкус, что и вся тарелка. С 95-процентной вероятностью доля республиканцев в этой выборке будет заключена между 43 % и 57 %, а потому о таком опросе будет сказано, что он имеет погрешность ±7 %. Но это при условии, что в выборе респондентов не было никакого скрытого перекоса. Росс очень хорошо понимал, что подобное смещение может испортить его комариную модель: перед вычислениями и составлением диаграмм он оговаривает, что его ландшафт настолько однороден, «что все его точки равно привлекательны для них [комаров] в отношении питания и что нет ничего такого, например ветра или локальных врагов, что могло бы заставлять их попадать в какие-то определенные районы местности».
Росс настаивает на этом предположении по действительно веской причине: без него все летит к чертям. Допустим, что есть ветер. Поскольку комары очень малы, то даже легкий ветерок может сбить их с курса. Если ветер дует в северном направлении, то, возможно, вероятность того, что комар полетит на северо-восток, составит не 50 %, а 53 %. Точно так же в нашем опросе может оказаться незамеченное смещение, когда респондент окажется республиканцем с вероятностью не 50 %, а 53 %. Скажем, республиканцы охотнее соглашаются отвечать на вопросы, чем демократы, или чаще берут трубку, или чаще имеют телефон. Это значительно увеличивает шансы на то, что наш опрос даст описание электората, отличающееся от истины. При непредвзятом опросе вероятность обнаружить 120 республиканцев и 80 демократов будет всего 3 из 1000. При «республиканском ветре» она подскакивает до 2,7 %, то есть увеличивается почти вдесятеро.
В реальной жизни мы никогда не узнаем, насколько объективен опрос. Поэтому нам, пожалуй, следует довольно скептически относиться к заявленной погрешности. Если легкий ветерок систематического смещения регулярно подталкивает опрос в ту или иную сторону, то можно ожидать, что реальные результаты выборов будут гораздо сильнее выходить за пределы заявленных погрешностей, чем утверждается. И знаете что? Именно так и происходит. В одной статье 2018 года говорится[113], что реальные результаты выборов в среднем отличаются от результатов опросов примерно вдвое больше, чем можно было предположить исходя из заявленных погрешностей. Ветреные выборы!
Есть еще один способ подумать о воздействии неизвестного ветра. Это означает, что перемещения комара в разные дни не независимы, а коррелируют друг с другом. Если сегодня комар полетел на северо-восток, это слегка повышает вероятность, что ветер дует в том же направлении, поэтому более вероятно, что и завтра насекомое полетит туда же. Этот эффект слаб, но имеет тенденцию накапливаться.
Существует популярное заблуждение, которое называют «закон средних чисел»: если монета несколько раз подряд выпала орлом, то в следующем подбрасывании шансы на выпадение решки повышаются, чтобы все было «уравновешено в среднем». Мудрый человек скажет, что это неправда, потому что броски монеты не зависят друг от друга: вероятность орла в каждом последующем подбрасывании равна 50 % вне зависимости от того, что выпадало ранее.
Но на деле все еще хуже! Если у вас нет абсолютной уверенности в честности монеты, получается какой-то «закон антисредних». Если вы получили сто орлов подряд, то можете просто удивляться необычной полосе везения или разумно предположить, что вероятность выпадения орла на вашей монете не 50 %, а больше (возможно, на монете два орла). Чем больше орлов подряд выпадет, тем логичнее ожидать орла и далее[114].
Это приводит нас к Дональду Трампу. Перед президентскими выборами 2016 года все соглашались, что Хиллари Клинтон опережает соперника, но активно спорили, каковы именно шансы Трампа. Журнал Vox 3 ноября писал:
Еще на прошлой неделе[115] прогноз Нейта Сильвера, основанный исключительно на результатах опросов, давал Хиллари Клинтон ошеломительную вероятность победы – 85 процентов. Однако на утро четверга ее шансы упали до 66,9 процента – это значит, что, несмотря на то что Дональд Трамп все еще остается аутсайдером, есть один шанс из трех, что он станет следующим президентом.
Либералы пытались утешить себя, что FiveThirtyEight[116] – это исключение среди шести крупных прогнозистов, а остальные пять дают Трампу шансы на победу от 16 до менее 1 процента.
Сэм Ван в Принстоне оценивал шансы Трампа в 7 % и был так уверен в победе Клинтон, что обещал съесть какое-нибудь насекомое, если она проиграет. Через неделю после выборов он проглотил сверчка в прямом эфире CNN. Математики[117] иногда ошибаются, но мы держим слово.
Каким образом Ван так ошибся? Все прогнозисты соглашались, что результаты выборов будут зависеть от небольшого количества колеблющихся штатов, включая Флориду, Пенсильванию, Мичиган, Северную Каролину и, конечно же, Висконсин. Казалось, что Трампу для победы нужно выиграть в большинстве этих штатов, однако было похоже, что в каждом из них лидировала Клинтон. По оценкам Сильвера, шансы Трампа составляли:
Флорида 45 %,
Северная Каролина 45 %,
Пенсильвания 23 %,
Мичиган 21 %,
Висконсин 17 %.
Трамп мог выиграть во всех этих штатах, но такая вероятность казалась небольшой, равно как и вероятность, что комар пять раз подряд переместится в одном направлении. Вы можете оценить ее, как, скорее всего, и будущий поедатель сверчка Сэм Ван. Она равна:
0,45 0,45 0,23 0,21 0,17,
то есть примерно 1/600. Как показывают аналогичные вычисления, шансы Трампа на победу даже в трех или четырех из этих штатов довольно малы.
Однако Нейт Сильвер взглянул на вещи под другим углом. Его модель учла возможную корреляцию между разными штатами, основанную на неоспоримом факте, что исследователи общественного мнения могли неосознанно смещать выборку в пользу того или иног кандидата. Да, по нашей лучшей оценке, Трамп отставал во Флориде, в Северной Каролине и во всех остальных колеблющихся штатах. Но если он выиграет в одном из этих штатов, то это будет доказательством, что из-за какой-то ошибки в опросах положение Клинтон выглядит лучше, чем на самом деле, а потому победа Трампа в других штатах становится более вероятной. Так же как в вышеприведенном примере с «законом антисредних», победа Трампа во всех колеблющихся штатах становится вероятнее, чем можно было бы ожидать по цифрам в отдельных штатах. Вот почему Сильвер дал Трампу серьезные шансы на победу на выборах. И по этой же причине оценил шансы на победу Клинтон с двузначным отрывом (то есть с разницей больше чем 10 %) как 1 к 4, в то время как Ван тоже считал это крайне маловероятным[118].
Журналисты, ошарашенные результатами выборов, начали публиковать статьи под слезливыми заголовками вроде «Можем ли мы после 2016 года снова доверять опросам?»[119].
Да. Можем. Опросы по-прежнему намного лучше отражают оценку общественного мнения, чем рейтинг абстрактного президентского правления от какого-нибудь эксперта или остроты на дебатах. По оценкам Сильвера, борьба была очень упорной и выиграть мог любой кандидат. Он оказался прав! Если вы считаете, что это сомнительная отговорка, то спросите себя: разве лучше, чтобы математика предоставила вам способ притвориться, что вы почти наверняка знаете победителя, хотя на самом деле ни вы, ни кто-либо иной его не знает?
Рональд Росс полностью изучил поведение комара, привязанного к направлению с юго-запада на северо-восток. Однако более реалистичная ситуация, когда насекомые могут летать в произвольном направлении, выходила за рамки его математических познаний, поэтому летом того же 1904 года он обратился к Карлу Пирсону.
Это была вполне естественная кандидатура для консультаций, если у вас имелась какая-то идея, не вписывавшаяся в академические рамки. Пирсон был хорошо зарекомендовавшим себя профессором прикладной математики в Университетском колледже Лондона; он получил эту должность, когда ему не было и тридцати. Однако перед этим он изучал право и немецкую литературу в Гейдельберге и Берлине, и сначала ему предложили профессуру по германистике в Королевском колледже Кембриджа. Он любил Германию, которая по сравнению с Англией казалась раем бурной интеллектуальной жизни, не обремененной общественными условностями в целом и религией в частности. Будучи поклонником Гете, Пирсон написал романтический роман «Новый Вертер» под псевдонимом Локи. Гейдельбергский университет написал в каком-то документе его имя на немецкий манер – Karl вместо Carl, и он всю жизнь предпочитал именно этот вариант. Впечатленный тем, что в немецком языке есть гендерно-нейтральное слово Geschwister, означающее «брат или сестра», он изобрел аналогичное слово sibling[120].
Вернувшись в Англию, Пирсон выступал за нерелигиозный рационализм и освобождение женщин, а также читал скандальные лекции на такие темы, как «Социализм и секс». Газета Glasgow Herald так писала об одном из его выступлений: «Мистер Пирсон национализировал[121] бы землю и капитал: в настоящее время он в одиночку предлагает национализировать и женщин». Его харизма помогала ему[122] оставаться безнаказанным за умеренные выходки такого рода; один из его бывших студентов описывал его так: «Типичный античный атлет с тонко вырезанными чертами лица, кудрявыми волосами и великолепным телосложением». На фотографиях начала 1880-х запечатлен мужчина с высоким лбом, пристальным взглядом и челюстью, выставленной так, словно он собирается вас в чем-то убедить.
Затем Пирсон решил вернуться к математике – предмету, по которому преуспевал в колледже. Он писал, что «страстно желал работать с символами, а не со словами». Пирсон подал заявления на две профессорские должности по математике и получил отказ. Когда он наконец получил пост в Лондоне, его друг Роберт Паркер писал матери Пирсона:
Хорошо зная Карла[123], я всегда чувствовал, что однажды он ощутит свою значимость и получит то, что ему реально подходит, как бы ни огорчались его друзья в моменты кратковременных неудач. А сейчас мы можем осознать, насколько полезными для него оказались три или четыре года свободы и занятий не математикой, а другими вещами; я не имею в виду, что все это способствовало его нынешнему успеху, но, без сомнения, сделает его счастливее, полезнее и позволит избегать любого намека той ограниченности, которую так часто видишь в людях, посвятивших себя исключительно одному поглощающему занятию, и боишься за этих людей. Кроме того, выдающиеся идеи нередко появляются за пределами рамок специальных предметов, к которым относятся, и Карл возвращается в науку с огромным багажом таких идей, нуждающихся в разработке. Однажды они сделают его столь же знаменитым, как Клиффорд[124] и другие его предшественники[125].
Сам Пирсон не был настолько в этом уверен и в ноябре своего первого семестра писал Паркеру: «Если бы у меня была[126] хотя бы искра оригинальности или я был бы гением, я бы никогда не устроился на преподавательскую работу, а путешествовал бы по жизни[127] в надежде создать то, что может пережить меня». Однако прав оказался Паркер. Пирсон стал одним из основателей новой дисциплины – математической статистики, и не потому, что доказал теоремы, столь же великолепные, как и он сам, а потому, что понял, как состыковать реальный мир и язык математики.
Именно поэтому Пирсон в 1891 году стал профессором Грешэм-колледжа по геометрии; эта должность с 1597 года подразумевала чтение бесплатных публичных лекций по математике[128]. Хотя предполагалось, что лекции должны быть по геометрии, Пирсон в своей типичной манере занимался не флегматичными разговорами о кругах и прямых евклидовой геометрии, а нарушал условности, добавляя в лекции наглядность реальной жизни, и в итоге стал популярным преподавателем. Однажды он швырнул на пол[129] десять тысяч пенсов и заставил студентов посчитать число орлов и решек, чтобы они сами проверили закон больших чисел (доля выпавших орлов стремится к 50 %), а не прочитали о нем в книге. В заявлении о приеме на профессорскую должность Пирсон писал: «Я полагаю, что[130] в силу законного истолкования термина геометрия в том смысле, в каком он использовался во времена Томаса Грешэма для именования одной из семи областей знания, в дополнение к чисто геометрическим курсам можно читать курсы лекций по элементам точных наук, по геометрии движения, графической статистике, теории вероятностей и страхованию, и это удовлетворило бы потребности клерков и других людей, работающих днем в Сити». Он читал лекции по геометрии статистики – сегодня мы назвали бы это визуализацией данных. Он впервые предложил учитывать среднеквадратичное отклонение и разглядывать гистограммы. Вскоре он разработал теорию корреляции, – возможно, самую геометрическую из всех его работ, поскольку она объясняет, как две наблюдаемые переменные могут быть связаны посредством косинуса угла в многомерном пространстве![131]
К тому моменту, когда Росс задумался о комарах, Пирсон уже был мировым лидером в применении математики к биологическим проблемам. В 1901 году он стал одним из основателей журнала Biometrika, старые выпуски которого заполняли целые полки в моем доме[132]. (Нет, я не рос в академической библиотеке, просто мои родители – специалисты по биостатистике.)
Пирсон обнаружил, что биологов, которые уже работали над такими проблемами, убедить не удавалось: «К сожалению, я чувствовал[133] себя среди них не в своей тарелке, и мои мнения только ранили их чувства, не принося реальной пользы. Я всегда преуспевал в создании враждебности, не умея доносить до других свои взгляды; полагаю, здесь виноваты мои неудачные формулировки».
Я сочувствую биологам. Математики склонны к имперскому мышлению: мы часто подходим к чужим проблемам как к математическому ядру, окруженному раздражающим количеством отвлекающих знаний из конкретной области, которые мы с нетерпением обрываем, чтобы как можно быстрее добраться до «хороших вещей». Биолог Рафаэль Уэлдон писал Фрэнсису Гальтону: «Мне кажется, здесь, как и всегда[134], когда он появляется из облаков своих математических символов, Пирсон рассуждает вольно и не особо заботится, чтобы понимать свои данные…», а в другом письме отмечал: «Но я ужасно боюсь[135] чистых математиков без умения экспериментировать. Возьмите Пирсона». Уэлдон был не просто биологом, а одним из ближайших коллег Пирсона, а Гальтон – их почтенным наставником. Именно они втроем позже основали журнал Biometrika. Эти письма напоминают разговор двух друзей за спиной третьего: мы его, конечно, любим, очень любим, но иногда он так раздражает…
Пирсон, надо думать, был рад получить письмо от одного из самых выдающихся ученых-медиков своего времени. Он ответил Россу:
Математическая постановка[136] простейшего случая вашей задачи с комарами не сложна, но решение – дело другое! Я потратил на нее целый день, а преуспел только в получении распределения после двух перелетов… Боюсь, это выходит за рамки моих умений в анализе, и тут требуется какой-то сильный математик. Но если вы предложите таким людям задачу о комарах, они на нее и не посмотрят. Чтобы они ею занялись, я должен переформулировать ее как задачу на шахматной доске или что-то в таком духе!
Современный математик, пытающийся вызвать интерес к незнакомой задаче, может опубликовать вопрос в социальных сетях или на каком-нибудь сервисе вопросов и ответов, например в математическом интернет-сообществе MathOverflow. Аналогом в 1905 году была колонка писем в журнале Nature, где Пирсон задал вопрос, убрав, как и обещал, все упоминания о комарах, но одновременно, к раздражению Росса, и все упоминания о Россе. На той же странице номера от 27 июля мы видим письмо от Джеймса Джинса, безуспешно пытающегося опровергнуть новомодную квантовую теорию Макса Планка. Между Джинсом и Пирсоном находится уведомление от некоего Джона Батлера Бурка, который наблюдал самопроизвольное зарождение микроскопической жизни в сосуде с говяжьим бульоном под воздействием недавно открытого радия. Возможно, это не то место, где вы ожидали бы увидеть истоки области математики, которая процветает по сей день.
На вопрос Росса ответили очень быстро. По сути, это заняло минус двадцать пять лет. Уже в следующем выпуске Nature было помещено письмо лорда Рэлея, лауреата Нобелевской премии по физике предыдущего года, который сообщал Пирсону, что решил задачу о случайном блуждании еще в 1880 году, когда изучал математическую теорию звуковых волн. Пирсон ответил, на мой взгляд, в довольно оборонительной манере: «Решение лорда Рэлея… весьма ценно и вполне может оказаться достаточным для целей, которые я имел в виду. Возможно, мне следовало о нем знать, однако в последние годы область моего чтения сместилась, и никто не ожидает обнаружить первую стадию какой-то биометрической задачи в мемуаре о звуке». (Обратите внимание: несмотря на оговорку Пирсона о том, что источником задачи была биология, Рональд Росс по-прежнему не упоминается.)
Рэлей показал, что случай с комаром, который может летать в произвольном направлении, не особо отличается от более простой одномерной модели Росса. По-прежнему справедливо, что насекомое будет медленно блуждать и его типичное расстояние от исходной точки пропорционально квадратному корню из количества дней полета. И по-прежнему самое вероятное место для окончания полета – исходная точка. Это заставило Пирсона заметить: «Урок решения[137] лорда Рэлея таков: на открытой местности самое вероятное место найти пьяницу, который еще способен держаться на ногах, находится где-то рядом с его отправной точкой!»[138]
Именно из-за этого небрежного комментария Пирсона мы обычно сравниваем случайное блуждание с путем выпившего человека, а не с движением комара – переносчика болезни. Часто его называют «прогулкой пьяницы», хотя в нынешнее доброжелательное время большинство людей больше не думают о пагубной привычке как о забавном гвоздике, на который можно повесить математическое понятие.
В начале нового века о случайных блужданиях думали не только Росс и Пирсон. Молодой человек из Нормандии Луи Башелье работал на крупнейшей финансовой бирже в Париже. Он начал изучать математику в Сорбонне в 1890-х годах, проявляя повышенный интерес к курсам вероятности, которые читал Анри Пуанкаре. Башелье не был типичным студентом: будучи сиротой, он был вынужден зарабатывать на жизнь, а потому не получил лицейского образования, которое вырабатывало стиль занятий французской математикой у большинства его сверстников. Он пытался[139] сдавать экзамены, едва наскребая на проходной балл. А его интересы вообще были странными. Высоким статусом в то время обладали небесная механика и физика; сюда относилась, например, задача трех тел, которую решал Пуанкаре, чтобы выиграть премию короля Оскара. Башелье же хотел изучать колебания цен на облигации, которые он наблюдал при работе на бирже, – он предлагал изучать их математически, так же как его профессора исследовали движения небесных тел.
Пуанкаре крайне скептически относился к применению математики к человеческим действиям, что проявилось еще во времена его неохотного участия в деле Дрейфуса – жарких спорах по поводу виновности французского офицера еврейского происхождения, обвиненного в шпионаже в пользу Германии. Пуанкаре не был склонен к политическим баталиям и каким-то образом умудрялся сохранять нейтралитет, даже когда конфликт охватил все французское общество. Однако его коллега Поль Пенлеве, ярый дрейфусар (и кроме того, второй француз, летавший на аэроплане, а гораздо позже и ненадолго – премьер-министр Франции во время президентства Раймона Пуанкаре, двоюродного брата Анри), смог убедить его вмешаться. Эксперт Альфонс Бертильон, известный научным подходом, выступил против Дрейфуса, заявив, что невиновность офицера исключается законами вероятности. Пенлеве заявил, что самый выдающийся математик страны не может молчать, когда дело стало вопросом вычислений. Пуанкаре написал письмо с оценкой расчетов Бертильона для прочтения жюри присяжных при повторном рассмотрении дела Дрейфуса в Ренне. Как и надеялся Пенлеве, когда Пуанкаре прочитал работу Бертильона, он обнаружил там преступления против математики. Бертильон выявил множество «совпадений», которые, по его мнению, неопровержимо указывали на вину Дрейфуса. Пуанкаре заметил, что методы Бертильона давали ему столько возможностей отыскать «совпадения», что было бы крайне необычно, если бы он ничего не нашел. Пуанкаре заключил, что метод Бертильона «абсолютно лишен научной ценности». Однако ученый пошел дальше и заявил, что «применение исчисления вероятностей к моральным наукам» – сейчас мы назвали бы их общественными науками – «скандально для математики». Он сказал: «Желание устранить моральные элементы и заменить их числами столь же опасно, сколь и бессмысленно. Короче говоря, исчисление вероятностей – это вовсе не та чудесная наука, которая (как, похоже, полагают люди) избавляет овладевших ею людей от необходимости обладать здравым смыслом».
Дрейфуса все равно признали виновным[140], [141].
А год спустя в своей диссертации ученик Пуанкаре Луи Башелье изложил методы определения подходящей цены для опциона – финансового инструмента, который позволяет вам купить облигацию по определенной цене в какой-либо определенный момент в будущем. Конечно, опцион имеет смысл только в случае, если рыночная цена облигации превышает зафиксированную вами цену. Таким образом, чтобы понимать ценность опциона, нужно представлять, с какой вероятностью цена облигации пойдет вверх или вниз. Идея Башелье для анализа этого вопроса сводилась к предложению рассматривать цену облигации как случайный процесс, который каждый день двигается вверх или вниз независимо от предыдущих дней. Звучит знакомо? Все тот же комар Росса, только на этот раз в обличье денег. И Башелье пришел к тем же выводам, к которым придет и Росс через пять лет (а лорд Рэлей – двадцатью годами ранее). Величина блуждания цены за определенное время обычно пропорциональна квадратному корню из этого времени.
Пуанкаре проглотил свой скептицизм и написал о диссертации теплый отзыв, подчеркнув умеренность целей его ученика: «Можно было опасаться[142], что автор преувеличил применимость теории вероятностей, как это часто бывало. К счастью, в данном случае это не так… он стремится установить границы, внутри которых можно законным образом применять подобные вычисления». Однако диссертация получила оценку «похвально» (honorable), которой хватало для принятия, а не «превосходно» (trs honorable, буквально «весьма похвально»), которая требовалась Башелье для поступления во французскую академию. Его работа была слишком далека от основного русла, во всяком случае так казалось до начала революции случайных блужданий. В итоге Башелье получил должность[143] профессора в Безансоне и прожил до 1946 года – достаточно долго, чтобы увидеть, как оригинальность его работы оценили другие математики, но недостаточно долго, чтобы узнать, что случайные блуждания стали стандартным инструментом в финансовой математике. Сведения об этом распространились даже среди широкой публики: книга Бёртона Мэлкила об инвестировании «Случайная прогулка по Уолл-стрит»[144] разошлась тиражом свыше миллиона экземпляров. Суть идеи Мэлкила отрезвляет: постоянные колебания курса вверх и вниз выглядят так, словно ими движут какие-то события, однако они могут быть такими же случайными, как перемещения комара. Не тратьте время попусту, пытаясь отследить взлеты и падения рынка, советует автор. Вместо этого положите деньги в индексные фонды и забудьте о них. Никакие размышления не смогут предсказать следующее перемещение комара и дать вам преимущество. Башелье еще в 1900 году изложил утверждение, названное им фундаментальным принципом:
L’esprance mathmatique du spculateur est nulle
(«Математическое ожидание прибыли игрока на бирже равно нулю»).
В июле 1905 года, в том же месяце, когда Пирсон опубликовал вопрос Росса в журнале Nature, Альберт Эйнштейн опубликовал в журнале Annalen der Physik статью «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты». Статья описывала броуновское движение – загадочное перемещение мелких частиц, находящихся в жидкости. Впервые это движение заметил Роберт Броун во время изучения частиц растительной пыльцы под микроскопом и задался вопросом, не этот ли «весьма неожиданный факт кажущейся жизнеспособности» отражает некий фактор жизни, который остался в пыльце, несмотря на ее отделение от растения. Однако в последующих экспериментах он наблюдал точно такой же эффект в частицах неорганического происхождения: в мелких частицах стекла со своего окна, порошках марганца, висмута и мышьяка, волокнах асбеста и… (Броун упоминает об этом так буднично, словно иметь такую вещь в доме нормально для любого ботаника) во фрагменте сфинкса[145].
Объяснение броуновского движения вызывало ожесточенные споры. Одна из популярных теорий утверждала, что частицы пыльцы или сфинкса двигаются под воздействием еще более мелких частиц – молекул жидкости, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть в микроскопы XIX века. Молекулы постоянно случайным образом сотрясали пыльцу, заставляя ее выплясывать настоящий броуновский танец. Однако вспомните: не все тогда верили, что материя состоит из невидимых частиц! Это и было сутью масштабной дискуссии, где на стороне «крохотных частиц» выступал Людвиг Больцман, а противоположную точку зрения отстаивал Вильгельм Оствальд. Для оствальдианцев объяснение физического явления посредством постулирования крохотных ненаблюдаемых молекул было немногим лучше, чем призыв невидимых демонов, подталкивающих пыльцу. Сам Карл Пирсон в книге 1892 года «Грамматика науки» писал: «Ни один физик никогда не видел и не ощущал отдельный атом». Однако Пирсон все равно был атомистом; по его словам, будут когда-либо обнаружены атомы или нет, гипотеза об их существовании привнесла бы ясность и единство в физику и породила эксперименты для проверки. В 1902 году Эйнштейн организовал в своей бернской квартире общество научных дискуссий и обеденный клуб «Олимпийская академия». Скромный ужин обычно включал «ломтик болонской колбасы, кусочек сыра грюйер, какой-нибудь фрукт, немножко меда и одну-две чашки чая» (Эйнштейн, еще не получивший должность в швейцарском патентном бюро, наскребал на жизнь преподаванием физики за три франка в час и подумывал о подработке уличным скрипачом ради пропитания). В «Академии» читали[146] Спинозу, Юма, книгу Дедекинда «Что такое числа и для чего они служат?», работу Пуанкаре «Наука и гипотеза», однако самой первой изучили «Грамматику науки» Пирсона. И прорыв Эйнштейна три года спустя во многом был вполне в духе Пирсона.
Невидимые демоны непредсказуемы; не существует математической модели того, что эти негодяи будут делать дальше. С другой стороны, молекулы подчиняются законам вероятности. Если какую-то частицу ударяет молекула воды, двигающаяся в случайном направлении, то и частица под воздействием этого импульса продвинется на крохотное расстояние в этом направлении. Если каждую секунду происходит триллион таких ударов, то частица пыльцы перемещается на небольшое расстояние в случайно выбранном направлении каждую триллионную долю секунды. Что будет с частицей в долгосрочной перспективе? Это можно предсказать, даже если отдельные толчки не видны.
Это именно тот вопрос, которым задавался Росс. Вместо частицы пыльцы у него был комар, а вместо триллионов движений в секунду – одно в день, но математическая идея тут одинакова. Эйнштейн, как и Рэлей ранее, определил, как будут двигаться частицы пыльцы в результате последовательности толчков в случайных направлениях. В итоге оказалось, что молекулярную теорию можно проверить экспериментально, что впоследствии с успехом и сделал Жан Перрен; это стало решающим ударом сторонников Больцмана. Эффект совокупного воздействия триллиона беспорядочно толкающихся молекул был виден, хотя сами они оставались невидимы.
Анализировать одновременно броуновское движение, биржу и перемещение комара с помощью математики случайного блуждания – значит следовать высказыванию Пуанкаре и давать одно и то же название разным вещам. Пуанкаре сформулировал свой знаменитый совет в обращении 1908 года к Международному конгрессу математиков в Риме. Он трогательно говорил о том, что выполнение сложных вычислений может выглядеть «поиском вслепую», пока вы не сталкиваетесь с ситуацией, когда в основе двух разных проблем лежит одна и та же математическая структура, и тогда одна проблема проливает свет на другую. «Одним словом, – подытожил Пуанкаре, – это позволило мн обнаружить возможность обобщения. Тогда это будет не просто новый результат, а и новая сила»[147].
Тем временем в России яростно враждовали две математические группы из-за разногласий в отношении связей между вероятностью, свободой воли и Богом. Московской школой руководил Павел Алексеевич Некрасов, который, прежде чем заняться математикой, получил образование в духовной семинарии. Некрасов был архиконсерватором, убежденным христианином вплоть до мистицизма и, по мнению некоторых, участником ультранационалистического черносотенного движения. Он был во всех отношениях человеком царизма. Один источник отмечал, что Некрасов резко противится[148] всем политическим изменениям, где участвуют народные массы, и считает частную собственность главным принципом, который обязан защищать царский режим. Консервативные убеждения сделали его популярным у политиков антиреволюционного толка, которые хотели сдерживать студенческий радикализм, и Некрасов неуклонно поднимался по административной лестнице, став сначала ректором[149] Московского университета, а затем попечителем Московского учебного округа.
Его противником был Андрей Андреевич Марков из санкт-петербургской математической школы, атеист и ярый враг православной церкви[150]. Он написал в газеты много резких писем по социальным проблемам и получил прозвище Неистовый Андрей[151]. В знак протеста[152] против решения Синода об отлучении Льва Толстого Марков потребовал в 1912 году, чтобы Святейший правительствующий синод Русской православной церкви отлучил и его (хотя это желание было удовлетворено, церковь не стала предавать академика анафеме – самой суровой мере).
Некрасов, как можно догадаться, после революции впал в немилость; он выжил, но его роль математического авторитета была утеряна; он, как говорили, казался странной тенью прошлого[153]. После его смерти в 1924 году «Известия» опубликовали умеренно лестный некролог, где хвалили Некрасова за решительное стремление[154] понять марксизм – последнее оскорбление покойного.
Удивительно, но судьба Маркова сложилась не лучше. При царизме Некрасов обвинял его в симпатиях к марксизму, однако Марков пользовался коммунистической идеологией не больше Священного синода; его неистовый дух обнаружил новую цель. В 1921 году, за год до своей смерти, Марков сообщил в Академию наук, что не может посещать ее заседания из-за отсутствия обуви. Полученную от государства обувь Марков счел настолько плохой, что потребовалось его последнее гневное публичное заявление:
Наконец я получил обувь[155]; но она не только дурно сшита, но и совершенно не подходит по своим размерам. Таким образом, я по-прежнему лишен возможности правильно посещать заседания Академии. Полученную мною обувь я предлагаю поместить в Этнографическом музее как образец материальной культуры текущего момента, ради чего я готов ее пожертвовать[156].
Разногласия между Марковым и Некрасовым можно было разрешить полюбовно, если бы они не перешли от религиозных и политических тем к более серьезному предмету – математике. И Марков, и Некрасов интересовались вероятностью, в частности так называемым законом больших чисел, – той теоремой, которую демонстрировал на лекции Карл Пирсон, бросив на пол десять тысяч пенсов. Исходная версия теоремы, доказанная Якобом Бернулли за двести лет до Маркова, утверждает примерно следующее: если подбросить монету достаточно большое количество раз, доля орлов будет близка к 50 %. Конечно, нет никакого физического закона, который заставляет монету падать именно так, и она может выпасть одной стороной столько раз, сколько вы захотите. Однако это крайне маловероятно, и с увеличением числа подбрасываний монеты становится все более неправдоподобной любая фиксированная процентная доля, отличная от 50 %, будь то 60, 51 или 50,00001 % орлов. Человеческое существование подчиняется тем же законам, что и подбрасывание монеты. Статистика поведения и действий людей[157], например частота различных преступлений или возраст первого вступления в брак, также демонстрирует тенденцию концентрироваться около определенных средних значений[158], как если бы люди в совокупности были просто кучей бессмысленных монет.
В течение двух столетий после Бернулли многие математики, включая учителя Маркова Пафнутия Львовича Чебышева, совершенствовали закон больших чисел, распространяя его на все новые и новые случаи. Однако все результаты требовали предположения о независимости: одно подбрасывание монеты не должно зависеть от другого.
Пример с выборами 2016 года показывает, почему это условие важно. В каждом штате разницу между оценкой по опросу и реальным голосованием можно рассматривать как случайную величину (ошибку прогноза). Если бы все эти ошибки были независимы друг от друга, то вероятность того, что все они будут в пользу одного кандидата, была бы крайне мала; гораздо вероятнее, что некоторые будут в одну сторону, некоторые в другую, и в среднем получится величина, близкая к нулю, то есть наша общая оценка будет недалека от истины. Но если ошибки зависимы, как часто бывает в реальной жизни, то наше предположение неверно, и тогда наш избирательный аппарат системно недооценивает одного кандидата – в Висконсине, Аризоне и Северной Каролине.
Некрасова беспокоила наблюдаемая статистическая закономерность человеческого поведения. Для него идея, что люди в своей основе предсказуемы и могут выбирать собственный путь во Вселенной не больше чем комета или астероид, была несовместима с церковной доктриной и потому неприемлемой. Он увидел выход в теореме Бернулли. Закон больших чисел гласил, что средние значения ведут себя предсказуемо, когда отдельные переменные независимы. Некрасов сделал вывод, что закономерности, которые мы видим в природе, не означают, что все мы – просто детерминистские частицы, двигающиеся по пути, предначертанному природой, а говорят о том, что все мы независимы друг от друга и способны делать собственный выбор. Иными словами, эта теорема – математическое доказательство свободы воли. Он изложил свою теорию в нескольких сумбурных статьях объемом в сотни страниц, опубликованных в журнале своего учителя, близкого ему по националистическим взглядам, Николая Васильевича Бугаева; итогом этих усилий стала увесистая книга, вышедшая в 1902 году.
Для Маркова это было мистической ерундой. Хуже того, эта мистическая ерунда рядилась в математические одежды. Марков жаловался одному из коллег, что труд Некрасова злоупотреблял математикой. Он не мог исправить то, что считал метафизическими ошибками Некрасова, но с математикой он разобраться мог.
На мой взгляд, нет ничего более интеллектуально бесплодного, чем словесная перепалка между истинно верующими и сторонниками атеизма. Однако на этот раз борьба привела к серьезному математическому прогрессу, и ее отголоски чувствуются до сих пор. Марков сразу увидел, что ошибка Некрасова – в прочтении теоремы задом наперед. Бернулли и Чебышев утверждали, что средние сходятся, когда рассматриваемые переменные независимы. Отсюда Некрасов заключил, что переменные независимы всякий раз, когда средние сходятся. Однако этот вывод неверен! Каждый раз, когда я ем гуляш, у меня появляется изжога, но это не означает, что каждый раз, когда у меня изжога, я ел гуляш.
Чтобы реально победить соперника, Маркову требовалось придумать контрпример: найти последовательность случайных величин, поведение средних у которых было бы полностью предсказуемым, но которые не были бы независимыми. В результате он изобрел то, что сейчас называют цепями Маркова. В основу легла та же идея Росса для моделирования перемещений комара, которую Башелье применил к фондовому рынку, а Эйнштейн – для объяснения броуновского движения. Первая работа Маркова на эту тему появилась в 1906 году; ему было пятьдесят лет, годом ранее он ушел с должности, так что это было отличное время, чтобы по-настоящему погрузиться в интеллектуальную дискуссию.
Марков рассмотрел комара[159], ведущего весьма стесненный образ жизни: он может летать всего в два места, назовем их Болото 0 и Болото 1. Где бы ни находился комар, он предпочитает оставаться, если может напиться достаточно крови. Предположим, что в любой день, когда комар находится в Болоте 0, он с вероятностью 90 % останется в нем же и на следующий день и с вероятностью 10 % перелетит в Болото 1, чтобы узнать, не лучше ли там ситуация с питанием. Болото 1 представляет собой несколько менее перспективные охотничьи угодья, так что здесь комар остается с вероятностью 80 % и перелетит в Болото 0 с вероятностью 20 %. Мы можем изобразить эту ситуацию на диаграмме.
Мы внимательно следим за перемещением комара, отмечая, где он проводит каждый день. Вероятнее всего, у вас будут длинные последовательности нулей (Болото 0) и единиц (Болото 1), потому что перелетать из болота в болото менее вероятно, чем в нем оставаться. Цепочка может выглядеть примерно так:
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…
Марков доказал следующий факт: если долго наблюдать за комаром, то средняя доля времени, которую он провел в Болоте 1, будет стремиться к фиксированной вероятности – так же, как сходилась к 50 % доля орлов при подбрасывании монеты. Вы можете подумать, что комар, летая наугад, окажется в каждом болоте с равными шансами. Нет! Та асимметрия, которую мы заложили в условия, сохранится. В нашем случае среднее будет сходиться к числу 2/3. То есть комар 2/3 жизни проведет в Болоте 0 и только 1/3 – в Болоте 1.
Я не утверждаю, что это очевидно, но постараюсь вас убедить, что это хотя бы разумно. В любой день в Болоте 0 шансы комара улететь из него составляют 1/10, поэтому вы можете ожидать, что типичное время пребывания комара в Болоте 0 равно 10 дням. По тем же причинам типичное время пребывания комара в Болоте 1 равно 5 дням. Следовательно, в целом комар должен проводить в Болоте 0 вдвое больше времени, чем в Болоте 1, что и было сказано выше.
Однако – и это было смертельным ударом для Павла Алексеевича – величины в этой последовательности не независимы. Ничего подобного! Нынешнее и завтрашнее местоположение комара очень сильно зависимы и в подавляющем большинстве случаев будут совпадать. Но тем не менее закон больших чисел применим. Независимость не нужна. О математическом доказательстве свободы воли можно забыть.
Последовательность таких случайных величин называется цепью Маркова в случае, если каждая следующая величина зависит только от одной предыдущей, но не от тех, что были в цепи ранее. Если вы хотите знать, где будет завтра комар, неважно, где он был вчера или позавчера, – важно только то, где он находится сегодня[160]. Каждая случайная величина связана со следующей, как звенья цепи. Даже если сеть болот и путей между ними будет более сложной (но останется при этом конечной[161]), доля времени, которую комар проведет на каждом из болот, будет стремиться к некоторому фиксированному числу, как и в случае монет или игральных костей. Если раньше у нас был только закон больших чисел, то теперь появился закон долгих блужданий.
В первом десятилетии XX века не существовало мирового научного сообщества в современном виде, и математические работы пересекали границы с большим трудом. Эйнштейн не знал о работе Башелье со случайными блужданиями. Марков не знал об Эйнштейне. Никто из них не знал о Рональде Россе. И тем не менее все они пришли к одним и тем же заключениям. Невозможно избавиться от ощущения, что в начале 1900-х годов нечто витало в воздухе – какое-то болезненное осознание неизбежной пузырящейся случайности, лежащей в основе вещей. (Не говоря уже о развитии квантовой механики, которая в итоге вплетет вероятность в физику совершенно другим путем.) Говорить о геометрии пространства (вне зависимости от того, является ли оно сосудом с жидкостью, пространством рыночных состояний или кишащим комарами болотом) – значит говорить о том, как что-то в нем движется, и, похоже, во всем мире геометрии не найдется области, где случайное блуждание не оказалось бы иллюстративным инструментом. Позже мы увидим, что цепи Маркова играют крайне важную роль при изучении способов разделения штатов на избирательные округа, а прямо сейчас посмотрим, как они применяются к чисто абстрактному пространству самого английского языка.
Оригинальная работа Маркова была чисто абстрактным упражнением по теории вероятностей. Есть ли у нее практические применения? В одном из писем Марков писал, что его заботят только вопросы чистой науки, а вопрос применимости теории вероятностей ему безразличен. Согласно Маркову, выдающийся статистик и специалист по биометрике Карл Пирсон не сделал ничего заслуживающего упоминания. Узнав через несколько лет о предыдущей работе Башелье о случайных блужданиях на бирже, он заметил, что, конечно же, видел ее[162], но она ему сильно не понравилась, и что он не берется судить о ее значимости для статистики, но для математики, на его взгляд, она совершенно бесполезна.
Однако в итоге Марков таки сдался и применил свою теорию к области, которая объединяет в России и атеистов, и православных, – поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Смысл и искусство пушкинской поэзии, разумеется, не поддаются механике вероятности, поэтому Марков ограничился первыми 20 000 букв романа в стихах «Евгений Онегин», которые рассмотрел как последовательность согласных и гласных, а если точнее, то 43,2 % гласных и 56,8 % согласных. Возможно, кто-то наивно надеялся, что буквы независимы друг от друга, а значит, буква, следующая за согласной, будет согласной ровно с такой же вероятностью, с какой согласные встречаются во всем тексте, то есть 56,8 %.
Однако Марков обнаружил, что это не так. Он тщательно подсчитал все пары последовательных букв, разбив их на четыре комбинации – согласная-согласная, согласная-гласная, гласная-согласная и гласная-гласная, – и получил следующую диаграмму:
Эта марковская цепь похожа на ту, что управляла комаром на двух болотах; просто вероятности поменялись. Если искомая буква – согласная, то следующая буква будет гласной с вероятностью 66,3 % и согласной с вероятностью 33,7 %. Двойные гласные встречаются еще реже: шансы, что одна гласная сменит другую, составляют всего 12,8 %. Эти числа статистически устойчивы по всему тексту. Вы можете рассматривать их как статистическую подпись пушкинского текста. В самом деле, позднее Марков вернулся к задаче и изучил 100 000 букв из романа Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Процентное содержание гласных у Аксакова не особо отличалось от пушкинского: 44,9 %. Но эта марковская цепь выглядит совершенно иначе:
Если по какой-нибудь причине вам нужно определить, принадлежит неизвестный текст на русском языке Аксакову или Пушкину, есть один хороший способ (особенно если вы не умеете читать по-русски) – посчитать пары последовательных гласных, к которым Аксаков, похоже, благоволил, а Пушкин их избегал.
Нельзя винить Маркова, что он свел литературные тексты к двоичной последовательности гласных и согласных; ему приходилось все считать вручную на бумаге. С появлением компьютеров возможности значительно расширились. Вместо двух болот у вас может быть 26 – по числу букв английского алфавита. А с учетом огромного количества текстов можно оценить все вероятности, необходимые для определения цепи Маркова для английских букв. Питер Норвиг, директор по исследованиям[163] компании Google, задействовал для вычисления этих вероятностей набор текстов объемом около 3,5 триллиона букв. Приблизительно 445 миллиардов букв, то есть 12,5 % от общего количества, – это буква Е, наиболее часто употребляемая в английском языке. Однако следующая за ней снова буква Е встречалась только в 10,6 миллиарда случаев, что дает нам вероятность немногим более 2 %. Гораздо чаще за Е следовала буква R, что наблюдалось 57,8 миллиарда раз; таким образом, доля буквы R среди «следующих за Е» составила почти 13 %, что примерно вдвое превышает частоту R среди всех букв. На деле сочетание («биграмма») ER – четвертое по частоте среди всех двухбуквенных сочетаний в английском языке. (Прежде чем посмотреть в сноске первые три, попробуйте их угадать[164].)
Мне нравится представлять буквы как места на карте, а вероятности – как дорожки, которые в различной степени привлекательны и проходимы. От E к R ведет широкая дорога с хорошим покрытием. Дорожка от E к B намного уже и заросла колючками. От T к H дороги почти односторонние: добраться в двадцать с лишним раз проще, чем от H к T. (Носители английского языка часто употребляют слова the, there, this и that, а вот light и ashtray реже[165].) Цепь Маркова сообщает нам, какой извилистый путь вероятнее, когда мы идем по карте английского текста.
Ну раз уж вы здесь, почему бы не пойти дальше? Вместо последовательности букв мы можем представить текст как последовательности биграмм; например, первое предложение этого абзаца будет начинаться так[166]:
ON, NC, CE, EY, YO, OU…
Теперь на наших дорогах есть определенные ограничения. От ON нельзя перейти к произвольному буквосочетанию: следующее должно начинаться на N. Данные Норвига показывают, что самое распространенное продолжение – NS (14,7 %), а затем NT (11,3 %). Это дает еще более четкое представление о структуре английского текста.
Инженер и математик Клод Шеннон[167] первым понял, что цепи Маркова можно использовать не только для анализа, но и для создания текста. Предположим, вы хотите создать фрагмент текста с теми же статистическими характеристиками, что и текст на английском языке, и он начинается с ON. Тогда вы можете использовать для выбора следующей буквы генератор случайных чисел, который выдаст букву S с вероятностью 14,7 %, букву T с вероятностью 11,3 % и так далее. Как только выберете следующую букву (например, T), у вас есть следующее буквосочетание (NT), и вы можете аналогично делать следующий шаг и так далее, пока не получите текст желаемой длины. Статья Шеннона «Математическая теория связи» (положившая начало всей теории информации) появилась в 1948 году, а потому ученый не имел доступа к 3,5 триллиона букв английских текстов на нынешних магнитных носителях. Поэтому он применял цепи Маркова иначе. Если у него было буквосочетание ON, он брал с полки какую-нибудь книгу и просматривал ее, пока не натыкался на стоящие рядом буквы O и N. Если после них шла буква D, то следующим буквосочетанием он брал биграмму ND. Затем искал в очередной книге сочетание ND и так далее. (Если после ON следует пробел, вы тоже можете это учитывать, тогда у вас будет получаться текст, разделенный на отдельные слова.) Вы записываете выстроенную таким образом последовательность букв и получаете знаменитую фразу Шеннона:
IN NO IST LAT WHEY CRATICT FROURE BIRS GROCID PONDENOME OF DEMONSTURES OF THE REPTAGIN IS REGOACTIONA OF CRE.
Простой марковский процесс создал текст, который не является английским, но выглядит как английский[168]. Такова жуткая сила этой цепи.
Конечно, цепь Маркова будет зависеть от набора текстов, выбранных для определения вероятностей, – «обучающих данных», как мы говорим в сфере машинного обучения. Норвиг задействовал огромный набор текстов, собранных Google с сайтов и ваших электронных писем; Шеннон использовал книги со своей полки, а Марков – Пушкина. Вот текст, который[169] я сгенерировал с помощью марковской цепи, обученной на списке имен, которые давали младенцам, родившимся в США в 1971 году:
Teandola, Amberylon, Madrihadria, Kaseniane, Quille, Abenellett…
При этом использовались пары букв – биграммы. Мы можем пойти дальше и задаться вопросом: с какой вероятностью очередная буква будет появляться после определенной последовательности из трех букв (триграммы). Для этого понадобится гораздо больше данных, потому что триграмм намного больше, чем диграмм. Зато получающийся список будет гораздо больше похож на настоящие имена:
Kendi, Jeane, Abby, Fleureemaira, Jean, Starlo, Caming, Bettilia…
При переходе к пятибуквенным комбинациям ситуация настолько улучшается, что мы нередко просто воспроизводим реальные имена из базы, однако кое-какие новые все же встречаются:
Adam, Dalila, Melicia, Kelsey, Bevan, Chrisann, Contrina, Susan…
Используя цепь с триграммами и имена детей, родившихся в 2017 году, мы получим такой список:
Anaki, Emalee, Chan, Jalee, Elif, Branshi, Naaviel, Corby, Luxton, Naftalene, Rayerson, Alahna…
Он определенно выглядит более современно, причем примерно половина в нем – реальные имена, с которыми ходят сейчас дети. Для младенцев 1917 года рождения:
Vensie, Adelle, Allwood, Walter, Wandeliottlie, Kathryn, Fran, Earnet, Carlus, Hazellia, Oberta…
Сколь бы ни была проста цепь Маркова, она как-то улавливает стиль использования имен в разные времена. И этот способ придумать имя выглядит творческим. Некоторые из этих имен весьма неплохи! Вы вполне можете представить, что ребенка зовут Jalee или в стиле ретро – Vensie, но вряд ли назовете его Naftalene[170].
Способность цепи Маркова генерировать нечто вроде языка заставляет задуматься: может быть, язык – это просто цепь Маркова? Не создаем ли мы, когда говорим, просто новые слова на основе нескольких последних произнесенных нами слов или на основе какого-то вероятностного распределения, которое мы знаем из всех когда-либо услышанных чужих фраз?
Дело не только в этом. В конце концов, мы подбираем слова, каким-то образом относящиеся к окружающему миру, а не просто повторяем уже сказанное.
И все же современные цепи Маркова могут генерировать нечто удивительно похожее на человеческий язык. Алгоритм GPT-3 компании OpenAI – духовный потомок текстовой машины Шеннона, только намного мощнее. На входе не три буквы, а фрагмент текста длиной в сотни слов, но принцип тот же: если есть недавно созданный текст, то какова вероятность, что следующее слово будет «эта», «геометрия» или «гололедица»?
Вы можете подумать, что это легко. Достаточно взять первые пять предложений из вашей книги, пропустить их через GPT-3 и получить список вероятностей для каждой возможной комбинации слов в этих предложениях.
Погодите, а с чего вы взяли, что это легко? Вообще-то нет. Просто предыдущий абзац – это попытка алгоритма GPT-3 продолжить текст из трех абзацев перед ним. Я выбрал самый осмысленный результат из десятка попыток. Но все результаты каким-то образом звучат так, словно они взяты из книги, которую вы читаете, и это, скажу я вам, несколько тревожит ее автора, даже когда предложения не имеют смысла вообще, как в этом фрагменте[171]:
Если вы знакомы с понятием теоремы Байеса, то это должно быть для вас легко. Если есть вероятность 50 %, что следующим словом будет «эта», и 50-процентный шанс, что им будет «геометрия», то вероятность того, что следующим словом будет либо «эта геометрия», либо «гололедица», составляет (50/50)2 = 0.
Между этой задачей и текстовой машиной Шеннона действительно большая разница. Представьте, что у Шеннона огромная библиотека и он пытается с помощью этого метода составить английские предложения, начиная с тех пятисот слов, которые вы только что прочитали. Он просматривает книги до тех пор, пока не найдет ту, где эти слова расположены в точно таком же порядке, чтобы он мог записать следующее слово. Конечно же, он этих слов не находит! Никто (надеюсь!) никогда не написал эти пятьсот слов так, как только что сделал я. Поэтому метод Шеннона потерпит неудачу на первом же шаге. Это равнозначно попытке найти следующую букву после буквосочетания XZ. На его полке просто может не оказаться книги с такой биграммой. Тогда он пожимает плечами и сдается? Давайте припишем Клоду больше целеустремленности! Например, можно сказать, что мы раньше никогда не встречали XZ, но, возможно, видели биграммы, в каком-то смысле похожие на XZ? Тогда можно взять буквы, которые следовали за этими биграммами. Как только мы начинаем размышлять подобным образом, мы выносим суждения о том, какие последовательности букв «близки» к другим последовательностям, а это означает, что мы думаем о геометрии последовательностей букв. Непонятно, какую «близость» нам следует подразумевать, и проблема усложняется еще больше, когда мы говорим о фрагменте текста из пятисот слов. Что значит один фрагмент близок к другому? Это геометрия языка? Или стиля? И как компьютер должен это понимать? Мы еще вернемся к этому вопросу. Но сначала познакомимся с величайшим в мире игроком в шашки.
Глава 5. «Его стиль – непобедимость»
Величайший чемпион в истории человечества в своей области – лучше, чем Серена Уильямс в теннисе, Бейб Рут в хоумранах[172], Агата Кристи в написании бестселлеров и Бейонсе в проведении зрелищных концертов, – был кротким профессором математики и изредка проповедником, который жил со своей престарелой матерью с Таллахасси (штат Флорида). Его звали Марион Тинсли, и он играл в английские шашки[173], причем так, как никто не играл до него и не будет играть после.
Тинсли вырос в Колумбусе, где научился играть в шашки у квартирантки, жившей в их доме, – некоей миссис Кершоу, которая радовалась своему превосходству над мальчиком. «О, как она гоготала[174], перепрыгивая через мои шашки», – вспоминал Тинсли. Подростку повезло, что неподалеку, в Толедо, жил тогдашний чемпион мира Эйса Лонг. Начиная с 1944 года[175] Тинсли изучал шашки с Лонгом по выходным, а через два года, в девятнадцать, стал вторым на чемпионате США (хотя так никогда и не обыграл миссис Кершоу, переехавшую много лет назад). Он выиграл чемпионат США в 1954 году, уже будучи аспирантом, изучавшим математику в Университете штата Огайо. В следующем году он стал чемпионом мира – титул, который он будет время от времени подтверждать в течение следующих сорока лет, поскольку периодически брал перерывы в игре. В 1958 году он защитил свой титул в матче против Дерека Олдбери из Великобритании: 9 побед, 24 ничьи, 1 поражение. Еще один матч за шашечную корону он выиграл в 1985 году, обыграв своего наставника Эйсу Лонга: 6 побед, 28 ничьих, 1 поражение, а в 1975-м проиграл[176] одну игру Эверетту Фуллеру в победном для себя турнире Florida Open.
С 1951 по 1990 год Тинсли сыграл больше тысячи турнирных партий против величайших игроков в английские шашки и проиграл всего три[177].
У него не было запугивающих манер, он не издевался, не насмехался и не куражился над оппонентами. Он просто выигрывал, выигрывал и выигрывал. Берк Гранжан, секретарь Американской федерации шашек, сказал: «Его стиль – непобедимость»[178]. В интервью перед матчем в Лондоне в 1992 году Тинсли объяснял: «У меня просто нет стресса и напряжения[179], поскольку я чувствую, что не могу проиграть».
Но он проиграл. Вы уже поняли, к чему все идет, верно? Тинсли выиграл матч в 1992 году, но в итоге был свергнут с престола своим лондонским оппонентом – единственным, кто был лучше величайшего в истории игрока в английские шашки. Это была компьютерная программа «Чинук» (Chinook), разработанная в Альбертском университете под руководством специалиста по теории игр Джонатана Шеффера, и сейчас, когда вы читаете эту книгу, она – чемпион мира по английским шашкам. Конечно, я не знаю, когда именно вы будете ее читать, но уверен в своем утверждении, потому что «Чинук» сохранит титул чемпиона до скончания времен. Марион Тинсли чувствовал, что не может проиграть. Для «Чинука» это не просто чувство. Он не может проиграть. Это доказано математически. Игра окончена.
Тинсли и «Чинук» уже сталкивались раньше. В 1990 году они играли выставочный матч в Эдмонтоне из четырнадцати партий. Тринадцать партий матча закончились вничью, но один раз на десятом ходу программа допустила ошибку. «Ты пожалеешь об этом», – сказал Тинсли, увидев ход. Однако машине потребовалось[180] еще 23 хода, чтобы понять свою ошибку и сдать партию[181].
К 1992 году баланс начал смещаться. Именно тогда Тинсли впервые проиграл «Чинуку» – в первом шашечном матче на первенство мира между человеком и машиной. «Никто не был счастлив[182], – вспоминает Шеффер. – Я ожидал, что буду прыгать и веселиться». Вместо этого появилась хандра. Проигрыш Тинсли означал, что эпоха человеческого превосходства в английских шашках близится к завершению.
Хотя не так сразу. «Чинук» выиграл у Тинсли еще одну партию. Когда Тинсли поднялся, чтобы пожать руку Шефферу при сдаче, зрители решили, что игроки согласились на ничью. Никто в зале, кроме Тинсли и «Чинука», не мог увидеть, что машина победила. Затем Тинсли собрался, выиграл еще три партии, а вместе с ними и матч. Он остался чемпионом мира, но программа «Чинук» стала первым противником, выигравшим у Тинсли две партии со времен правления Трумэна.
Если вас это утешит, ничтожные смертные, то на самом деле Тинсли никогда не проигрывал «Чинуку», то есть не совсем так. В августе 1994 года 67-летний Тинсли согласился на реванш. К этому моменту программа провела 94 игры против лучших шашистов, ни разу не проиграв. Аппаратное обеспечение модернизировали: у «Чинука» был гигабайт оперативной памяти – впечатляющее вооружение на тот момент, хотя сейчас это примерно четверть возможностей операционной системы Android на дешевом телефоне. Тинсли и «Чинук» встретились в Компьютерном музее Бостона, находящемся в здании с видом на гавань. Тинсли надел зеленый костюм и приколол булавку для галстука с надписью: «Иисус». Игры проходили в присутствии большого количества зрителей, в основном других шашистов. Матч начался с шести ничьих подряд за три дня, и в большинстве партий никакого напряжения и опасностей для игроков не наблюдалось. На четвертый день Тинсли попросил отложить партию: ночью у него случилось расстройство желудка, и он не мог уснуть. Шеффер отвез его в больницу на обследование. Сильно обеспокоенный Тинсли сообщил Шефферу данные для связи со своей сестрой на случай, если понадобятся родственники, и сказал: «Я готов уйти». Пообщавшись с врачом и сделав рентгеновский снимок, он отдохнул после обеда, однако на следующее утро сообщил, что снова не спал. «Я сдаю матч и титул “Чинуку”», – сказал он собравшимся организаторам. Так закончилась эпоха человеческого доминирования в английских шашках[183]. В тот же день стали известны результаты рентгеновского обследования: опухоль в поджелудочной железе. Спустя восемь месяцев Тинсли умер.
Как вы можете строго доказать, что не проиграете игру? Вне зависимости от того, насколько хорошо вы играете, обязательно найдется какой-то крохотный кусочек стратегии, который вы упустили из виду, как в каком-то фильме 1980-х о лыжниках, где аутсайдер оставляет позади фаворитов.
Но нет. Мы можем доказать какие-то утверждения об играх точно так же, как и утверждения из геометрии, потому что игры – это геометрия. Я мог бы нарисовать для вас геометрию английских шашек (хотя на самом деле не мог бы, потому что это заняло бы миллионы страниц, а слабый человеческий сенсорный аппарат не смог бы ее понять), но начнем мы с более простой игры «Ним».
Вот ее правила. Два игрока сидят перед грудой камней (количество кучек и камней может быть разным, все варианты все равно называются «Ним»). Игроки по очереди берут камни. За один раз игрок может взять любое количество камней, но только из одной кучки (это единственное правило игры). Пропускать ход запрещено: обязательно нужно взять хотя бы один камень. Побеждает тот, кто возьмет последний камень.
Итак, пусть Акбар и Джефф[184], [185] играют в «Ним». Для простоты предположим, что у нас всего две кучки и в каждой по два камня. Акбар ходит первым. Что ему делать? Он мог бы взять два камня, полностью забрав одну из кучек. Но это плохая идея, потому что тогда Джефф заберет вторую кучу и выиграет. Поэтому Акбару нужно взять один камень из какой-то кучки. Но это не лучший вариант, потому что у Джеффа есть убийственный ход – взять один камень из другой кучки, после чего в обеих кучках остается по одному камню. Предвидя неизбежный конец, Акбар угрюмо берет один камень. Из какой кучки? Совершенно неважно, и Акбар это понимает. Джефф забирает последний камень и побеждает. Не имеет значения, какой первый ход сделает Акбар. Если Джефф не сделает ошибки, он победит.
А если у нас три кучки по два камня в каждой? А если по десять или по сто камней? Внезапно играть в уме становится существенно сложнее.
Поэтому давайте возьмем бумагу и карандаш и нарисуем ход игры, когда вы начинаете с двумя кучками по два камня. Вначале у Акбара есть два варианта: взять один камень или два. Вот небольшой набросок результатов его действий. Самый нижний рисунок – это стартовое положение в игре; делая ход, вы перемещаетесь по диаграмме вверх по одной из ветвей, отходящих от текущего положения.
Да, я слышу ваше замечание: строго говоря, у Акбара четыре варианта, поскольку он может взять один камень из первой кучки, один из второй, оба камня из первой кучки или оба из второй. Но здесь мы действуем в стиле Пуанкаре и «называем разные вещи одним именем». У «Нима» идеальная симметрия – как минимум на момент начала игры; какую бы кучку Акбар ни выбрал в первый раз, вы называете ее левой. Всё последующее рассуждение осталось бы прежним, если бы мы назвали эту кучку правой, – просто слова «левый» и «правый» повсюду меняются местами. Это тот самый момент в математике, когда мы любим говорить «без потери общности», и это всего лишь причудливый способ сказать: «Сейчас я сделаю предположение, но, если оно вам не нравится, сделайте противоположное предположение, и все останется как есть, за исключением того, что слова “левый” и “правый” повсюду поменяются местами». Если это вас действительно беспокоит, переверните книгу вверх ногами.
Теперь ход Джеффа. Его выбор зависит от хода Акбара. Если Акбар взял один камень, то слева остался один камень и два справа. Поэтому у Джеффа три варианта: забрать последний камень слева, взять один камень справа или два камня справа. Если же Акбар взял два камня, то есть оставил всего одну кучку, то у Джеффа всего два варианта: взять один камень или оба.
Вы не находите, что этот абзац чуточку трудноват для чтения? Мне было немного скучно его писать. Картинка лучше!
Мы можем продолжать рисовать таким образом, пока не изучим все возможные варианты развития игры. Это не займет много времени. В конце концов, игрок обязан за ход брать хотя бы один камень; поскольку изначально их было четыре, игра закончится максимум за четыре хода. Вот она целиком – игра «Ним» (две кучки по два камня) в геометрической форме.
Такую диаграмму математики называют деревом. Возможно, чтобы ботаническая метафора сработала, вам нужно слегка приглядеться. Самая нижняя точка, место начала игры, – это корень, из которого все растет. Восходящие пути называются ветвями. Некоторые люди любят называть точку, где ветвь заканчивается и больше не разветвляется, листом[186].
Это дерево изображает нашу игру, давая полную картину всех возможных в ней состояний и всех путей между ними. Картинка рассказывает историю. Вы делаете выбор, и он направляет вас по какой-то из ветвей. После этого вы останетесь на этой ветке и ее ответвлениях до конца. Назад дороги нет. Все, что вам остается, – выбирать дальше, проходить по все более мелким ветвям и приближаться к неизбежному концу по мере того, как возможность выбора иссякает.
По сути, я говорю, что ваша жизнь – это дерево.