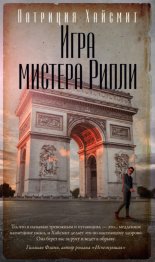Форма реальности Элленберг Джордан

а другая – нет, и каждый ее член на 70 % меньше предыдущего:
2/3, 14/30, 98/300…
Со временем эта вторая прогрессия неумолимо сходится практически к нулю, оставляя лишь постоянный рефрен: 1/3.
Что верно для двух болот, то верно и для миллиардов сайтов. Операция случайного блуждания устраняет все несущественные затруднения с сетью. В конце остается одна постоянная геометрическая прогрессия – единственное неизменное число, в то время как все остальное исчезает, как при удержании клавиши фортепиано остается чистый тон, пока не стихнут гармоники. Оставшееся число – это и есть PageRank.
Столь замысловатое наложение сотен тысяч взаимосвязанных моделей, геометрических прогрессий или чего-нибудь еще более устрашающего поначалу может показаться несколько вычурным, как доньютоновская теория эпициклов, согласно которой движение планет представлялось в виде сложной комбинации круговых движений, когда планета двигалась по кругу, центр которого двигался по другому кругу[480]. Или, если уж на то пошло, как волновая теория Эллиотта с ее маленькими и средними волнами, накладывающимися на ультра-супермегациклы. Однако собственные значения – это настоящая математика, и она повсюду. Они находятся в сердце квантовой механики, и я бы хотел рассказать эту геометрическую историю здесь. Пожалуй, я расскажу одну ее маленькую часть, поскольку она дает мне возможность разместить в конце главы настоящее математическое определение. Хватит неопределенности, давайте вычислять!
Рассмотрим бесконечную последовательность – и не просто бесконечную, а бесконечную в обе стороны:
… 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8…
Такую последовательность можно сдвинуть на одно место влево:
… 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16…
В этом случае происходит нечто очень интересное: сдвиг последовательности на один шаг влево – то же самое, что и удвоение каждого члена. Причина в том, что эта последовательность – геометрическая прогрессия! Если бы я взял прогрессию со знаменателем 3, то сдвиг умножал бы каждый член последовательности на 3. Но если бы я использовал последовательность, не являющуюся геометрической прогрессией, например:
…–2, –1, 0, 1, 2…
то сдвинутый вариант
…–1, 0, 1, 2, 3…
не был бы кратным для исходной последовательности. Последовательности с тем особым свойством, что сдвиг умножает их на какое-то число (то есть геометрические прогрессии), – это собственные последовательности для операции сдвига, а число, на которое умножается такая собственная последовательность, – это собственное значение.
Сдвиг не единственное, что можно сделать с последовательностью. Например, мы можем умножить каждый член на его номер: нулевой член на 0, первый – на 1, второй – на 2, минус первый по порядку – на – 1 и так далее. Давайте назовем эту операцию креном. Если мы проведем крен для нашей геометрической прогрессии (считая нулевым членом 1), то преобразуем
… 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8…
в
…–3/8, –2/4, –1/2, 0, 2, 8, 24…
Эта последовательность не кратна исходной, так что наша геометрическая прогрессия не является собственной последовательностью для преобразования крена. Собственной последовательностью для операции крена будет последовательность вроде этой:
…0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0…
где в позиции 2 стоит единица, а все остальные члены равны нулю.
Проведите крен для этой последовательности, и получите
…0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0…
которая вдвое больше исходной. Поэтому это собственная последовательность для операции крена с собственным значением 2. На самом деле можно показать (вы сможете?), что только последовательности с одним ненулевым членом могут быть собственными последовательностями для преобразования крена. (А как насчет последовательности из одних нулей? Она действительно кратна себе самой хоть при сдвиге, хоть при крене, однако нулевая последовательность не считается; одна из причин – отсутствие способа определить, каким кратным себя она является.)
Возможно, вы слышали, что на нижнем уровне организации материи частица, как правило, не имеет четко определенного положения или импульса, а существует скорее в форме облака неопределенности в отношении того или иного из этих параметров. Можно думать об определении положения как об операции, которую мы можем выполнить над частицей, – точно так же, как совершали операцию сдвига над последовательностью. Если точнее, частица имеет состояние, где фиксируется все о ее текущей физической ситуации, а операция под названием «определение положения» каким-то образом меняет его. Для целей нашего обсуждения неважно, какого рода сущность именуется состоянием[481], но важно, что состояние – это что-то, что можно умножать на число, как последовательность. И точно так же, как собственной последовательностью для операции сдвига была некая последовательность, умножаемая при сдвиге на число, так и собственное состояние для операции определения положения получается путем умножения на число (собственное значение) при такой операции. Оказывается, частица действует так, словно имеет точное положение в пространстве, именно тогда, когда ее состояние является собственным. (И каково же ее положение? Это вы можете узнать с помощью собственного значения.) Однако большинство состояний не являются собственными состояниями, так же как большинство последовательностей – не геометрические прогрессии. Однако, как мы уже видели, более широкий класс последовательностей, например Вираханки – Фибоначчи, часто можно разложить в комбинацию геометрических прогрессий, и так же состояние, не являющееся собственным, можно разложить в комбинацию собственных состояний, где каждое будет иметь собственное значение. Одни собственные состояния проявляются с большей интенсивностью, другие – с меньшей, и именно этот разброс определяет вероятность обнаружить данную частицу в любом конкретном месте.
Аналогичная ситуация и с импульсом частицы: определение импульса – это еще одна операция с состояниями, которую можно представлять как аналог операции крена. Частица с точно определенным значением импульса (а не смутным вероятностным облачком) была бы собственным значением для такого оператора – аналогом собственной последовательности для операции крена.
Итак, у какой же частицы окажутся точно определенными и положение, и импульс? Она была бы аналогом последовательности чисел, которая оказалась бы собственной последовательностью и для сдвига, и для крена. Но такой последовательности не существует! Собственная последовательность для операции сдвига – геометрическая прогрессия. Собственная последовательность для операции крена – последовательность с единственным ненулевым элементом.
Никакая ненулевая последовательность не может одновременно быть и той и другой.
Вот еще один способ доказать этот факт, который еще сильнее приближает нас к квантовой физике. (Оставшаяся часть главы – отличный повод взять бумагу и карандаш, но если вы ее просто бегло прочитаете, я не стану вас осуждать.) Начнем с вопроса: что произойдет, если применить к последовательности обе операции? Скажем, мы начали с последовательности:
Тогда сдвиг дает:
а операция крена, то есть умножения на номер (помните, что число – 3, которое было на первом месте, теперь находится на нулевом месте, число 1 – на минус первом месте и так далее) дает:
Можно было бы назвать эту комбинированную операцию «сдвиг, затем крен» или, для краткости, сдвигокрен[482]. Но почему мы ее делали в таком порядке? Что, если выполнить операцию «сдвиг, затем крен»? Исходная последовательность после операции крена превращается в:
и когда вы затем ее сдвинете, то получите:
Выходит, что креносдвиг – вовсе не то же самое, что сдвигокрен! Мы обнаружили явление, называемое некоммутативностью. Этим вычурным математическим словом обозначается тот факт, что выполнение одного действия, а потом второго не всегда приводит к тому же результату, что и их выполнение в обратном порядке, то есть сперва второе, а затем первое. Школьная математика в основном коммутативна: умножение на 3, а потом на 2 – это то же самое, что умножение на 2, а затем на 3. Некоторые операции в физическом мире тоже коммутативны: например, надевание левой и правой перчаток. В каком порядке их ни надевай, результат будет одинаковым – обе руки в перчатках. Однако попробуйте натянуть туфли раньше носков – и столкнетесь с некоммутативностью.
Но какое отношение это имеет к собственным значениям? Все сводится к разности между креносдвигом и сдвигокреном. Вычтем сдвигокрен из креносдвига:
и получим последовательность:
Но ведь именно с нее мы и начинали! (Ну, если точнее, это – ее сдвиг.) На самом деле неважно, с какой последовательности вы начнете, – разность между креносдвигом и сдвигокреном всегда будет сдвигом первоначальной последовательности. А теперь предположим, что вы каким-то образом умудрились найти загадочную последовательность S, которая является собственной и для операции сдвига, и для операции крена: допустим, например, что сдвиг S – это утроенная S, а крен S – это удвоенная S. В этом случае крен сдвига S – это крен утроенной S, а потому должен быть 6S[483]. Аналогичные рассуждения показывают, что и сдвиг крена S – тоже 6S. Следовательно, разность между креносдвигом и сдвигокреном – это последовательность из одних нулей. Однако эта разность – сама по себе сдвиг S! Стало быть, последовательность S – нулевая, а, как было оговорено ранее[484], ее мы не учитываем.
Идея собственной последовательности – понять, когда такие операции, как сдвиг и крен, действуют подобно умножению. Однако умножения коммутируют между собой, а сдвиг и крен – нет. Вот вам и нестыковка! Операции как бы похожи, но не совсем. С той же нестыковкой столкнулся Уильям Роуэн Гамильтон при определении своих любимых кватернионов. Он хотел рассматривать поворот как своеобразное число, но повороты не коммутировали: результат поворота на 20 градусов вокруг одной оси и последующего поворота на 30 градусов вокруг другой оси оказывался вовсе не тем же самым, что результат тех же двух поворотов, выполненных в обратном порядке. Чтобы получить «числа», моделирующие вращения, ему пришлось отказаться от аксиомы коммутативности. (Разумеется, некоторые повороты могут коммутировать, – например, если производятся вокруг одной оси. Стоит отметить, что в этом случае любая точка на этой общей оси остается неподвижной при обоих поворотах; это собственное направление для обоих поворотов сразу, причем собственное значение в обоих случаях равно 1.)
Ситуация в квантовой физике во многом похожа. Операторы определения положения и импульса не коммутируют. И разница между положением импульса и импульсом положения для состояния частицы – это просто… ну, не само это состояние, а состояние, умноженное на некоторое число, известное как постоянная Планка и обозначаемое [485]. В частности, это означает, что разность не может быть нулевой[486], откуда, в свою очередь, следует, что состояние частицы не может быть собственным одновременно и для оператора определения положения, и для оператора определения импульса. Иными словами, у частицы нельзя одновременно точно определить и положение, и импульс. В квантовой механике это утверждение называется принципом неопределенности Гейзенберга, и он окружен покровом тайны и загадочности. Хотя на деле это всего лишь собственные значения.
Очевидно, мы многое опустили[487]. Мы постоянно говорим, что массу интересных последовательностей можно представить в виде комбинации геометрических прогрессий и что состояние частиц можно разложить как комбинации реальных собственных состояний. Но как на практике это реализовать? Вот пример из более классической части физики. Звуковую волну можно разложить на чистые тона, которые представляют собой собственные значения для какой-то операции; их собственное значение определяется частотой – нотой, которую они дают. Если вы слышите аккорд до мажор, то это комбинация трех собственных волн: с собственным значением до (C), с собственным значением ми (E) и с собственным значением соль (G). Для разделения волны на составляющие собственные значения применяют математический механизм под названием преобразование Фурье. Эта область математики появилась только в XIX веке, и в этой интересной истории переплетаются анализ, геометрия и линейная алгебра.
Однако вы способны услышать отдельные ноты в аккорде, даже если не знаете анализа! Причина в том, что это геометрическое вычисление, на разработку которого у математиков ушли сотни лет, также умеет выполнять изогнутый кусок плоти в вашем ухе, именуемый улиткой[488]. Геометрия существовала в наших телах задолго до того, как мы научились излагать ее на страницах книг.
Глава 13. Складка в пространстве
Одним из первых примеров применения теории случайных блужданий Маркова была работа венгерского математика Дьёрдя Пойа и его ученика Флориана Эггенбергера, посвященная распространению явлений в двумерном пространстве. Игнорируя презрение неистового русского к практической реализации, они использовали марковские процессы[489] для моделирования оспы, скарлатины, крушений поездов и взрывов паровых котлов. Эггенбергер назвал диссертацию «Вероятностная инфекция» поскольку она была на немецком языке, ученый обошелся одним словом: Wahrscheinlichkeitsansteckung).
Распространение болезни в виде случайного блуждания в пространстве можно представить следующим образом. Предположим, мы начинаем в какой-то точке квадратной сетки, похожей на карту Манхэттена. Точка – это инфицированный вирусом человек. Его личные контакты – это четыре человека в соседних точках сетки. Для максимальной простоты допустим, что каждый человек ежедневно заражает всех людей, которым не повезло быть его соседями.
У каждого человека есть четыре соседа по сетке, поэтому можно подумать, что мы увидим экспоненциально растущую пандемию с R0 = 4. Но это не так. Через день инфицированы пятеро:
через два дня – 13:
а через три – 25:
Получается последовательность: 1, 5, 13, 25, 41, 61, 85, 113… Она растет быстрее, чем арифметическая прогрессия (разница между соседними членами не постоянна, а увеличивается)[490], но медленнее любой геометрической. Поначалу каждый член превышает предыдущий более чем вдвое, но далее вы видите, что 113/85 – уже всего лишь 1,33.
При построении своей первой модели заболевания мы видели, что случаи заражения росли в геометрической прогрессии. Эта модель другая, потому что мы думаем не только о том, сколько людей инфицировано, но и о том, где и насколько далеко они находятся друг от друга. Мы учитываем геометрию. Геометрия такого рода эпидемии – диагонально ориентированный квадрат[491] с центром в нулевом пациенте, постепенно расширяющийся день ото дня с постоянной скоростью. Это совершенно не то, что мы видели в случае COVID-19, который, казалось, охватил весь мир за несколько недель.
Почему же рост такой медленный? Потому что встреченные вами четыре человека – это не четыре человека, выбранные наугад из всего населения Северной Дакоты, а люди рядом с вами. Если вы – вот этот человек:
то заражены сразу двое из тех четверых, с кем вы будете контактировать. Еще неинфицированный человек к северу от вас получит вирус и от вас, и от своего западного соседа. Вирус распространяется избыточно, снова и снова сталкиваясь с одними и теми же людьми.
Все это должно напомнить нам о нерешительном комаре, который все время крутится около одного квартала города и крайне медленно отваживается отлетать от места своего рождения. Места, куда комар может попасть за n дней полета, – это внутренняя часть квадрата радиусом n, а это не так уж и много. Трудно быстро изучить геометрическую сеть – хоть комару, хоть вирусу.
Пандемии обычно действуют именно так. Эпидемия чумы, известной как черная смерть, началась в Европе в Марселе и Сицилии в 1347 году, а затем устойчивой волной прокатилась по Европе, однако понадобилось около года, чтобы она добралась до Северной Франции и охватила Италию, еще год, чтобы пересечь Германию, и еще один, чтобы достичь России.
Совсем не так было с масштабной эпизоотией конского гриппа в Северной Америке в 1872 году. Она называется эпизоотией, а не эпидемией, поскольку греческое слово «демос» означает «народ», а люди конским гриппом не болеют. Слово epizootic сейчас мало используется, но конский грипп 1872 года оставил такой след в жизни американцев, что словосочетание «конский грипп» вплоть до XX века было сленговым названием для не поддающейся классификации болезни[492] – животных или человека. Один корреспондент в Бостоне сообщал, что «по крайней мере семь восьмых[493] от общего числа животных в городе страдают от этой болезни», а Торонто, где осенью 1872 года и началась эпизоотия, окрестили «огромной больницей для заболевших лошадей»[494]. Представьте, что все легковые и грузовые автомобили заболели гриппом, и сможете осознать масштаб последствий.
Начавшись в Торонто, конский грипп распространился по большей части континента, однако не такой плавной расширяющейся волной, как черная смерть.
Болезнь пересекла границу и приземлилась в Буффало 13 октября 1872 года; 21 октября она вступила в Бостон и Нью-Йорк, а через неделю ее выявили в Балтиморе и Филадельфии. Но во внутренние города вроде Скрантона и Уильямспорта, которые расположены ближе к Торонто, она добралась только в начале ноября. К тому времени лошади уже болели намного южнее – до самого Чарльстона. Продвижение на запад было таким же неравномерным: на второй неделе января грипп обнаружили в Солт-Лейк-Сити, а в середине апреля – в Сан-Франциско, однако в Сиэтл он добрался только в июне, хотя по прямой от Торонто до него такое же расстояние.
Причина в том, что грипп не распространяется по прямым, а передвигается, как поезд. Трансконтинентальная железная дорога, которой тогда было всего три года, перевезла лошадей и болезнь из центра страны непосредственно в Сан-Франциско, а железнодорожные линии, соединявшие Торонто с крупными прибрежными городами и Чикаго, привели к ранним вспышкам заболевания[495]. Путешествия в места, удаленные от железных дорог, шли медленнее, поэтому и эпизоотия добралась туда позже.
В переводе с греческого слово «геометрия» означает «измерение земли», и именно этим мы сейчас и занимаемся. Задать геометрию на участке земли, множестве людей или множестве лошадей – это, по сути, определить некоторое число для любых двух точек и интерпретировать его как расстояние между ними. Фундаментальная идея современной геометрии состоит в том, что сделать это можно разными способами, и каждый будет означать другую геометрию. Мы уже сталкивались с этим, когда определяли степень родства на генеалогическом дереве. Но даже когда мы рисуем точки на карте, у нас есть несколько геометрий на выбор. Есть геометрия прямых, когда расстояние между любыми двумя городами – это длина отрезка, соединяющего их между собой[496]. А есть геометрия, в которой расстояние между двумя городами определяется так: сколько времени вам понадобится, чтобы добраться от одного населенного пункта до другого в 1872 году, и она более удобна для эпизоотии[497]. В такой метрике (метрика – это термин, который в геометрии используется вместо громоздкого выражения «определение расстояния для каждой пары точек») Скрантон находится дальше от Торонто, чем Нью-Йорк, хотя гораздо ближе по прямой. Вы можете придумывать что угодно – это математика, а не школа! Возможно, ваша метрика – это «расстояние между двумя городами в списке всех городов США в алфавитном порядке», и тогда Скрантон снова станет ближе к Торонто, чем Нью-Йорк.
Идея, что геометрия не фиксирована, а может меняться в соответствии с нашей волей, знакома нескольким поколениям читающих американских детей по следующей картинке:
Это геометрическая демонстрация миссис Чтотут – одной из трех межпланетных ведьм/ангелов, которые помогают трем детям победить космическое зло в фильме «Излом времени»[498]. Как они пересекают вселенную быстрее света? «Мы научились срезать углы где только можно, – поясняет она. – Как в математике».
Муравей находится близко к одному концу нитки, но очень далеко от другого. Однако переместите нить в пространстве вот так:
и расстояние уменьшится почти до нуля, что позволит муравью быстро перебраться с одной руки на другую. «Теперь вы видите, – объясняет миссис Чтотут, – что он оказался здесь без длительного путешествия. Вот так мы и путешествуем». Сгибание нити – та складка, которая дала название книге. Ведьмы называют этот метод «тессерактом». В контексте 1872 года такой метод называется «железной дорогой». Рельсы, соединяющие Чикаго и Сан-Франциско, – это изменение геометрии континента, которое делает две точки гораздо ближе друг к другу, чем мы могли наивно полагать. Но точки могут и отдалиться! Эпизоотия 1872 года добралась до Никарагуа, но не попала в Южную Америку. Причина: Панамский перешеек представлял собой «почти непроходимые болота[499] с крутыми и труднодоступными горами» для потенциальных путешественников. Колумбия и Никарагуа находятся почти рядом на поверхности Земли, но в метрике конных путешествий фактически расположены на бесконечно большом расстоянии друг от друга.
Современный мир буквально покрыт такими складками. Еще до того, как мы узнали о пандемии, коронавирус летал на самолетах между Китаем и Италией, Италией и Нью-Йорком, Нью-Йорком и Тель-Авивом. Если бы мы по какой-нибудь причине не знали о существовании такой вещи, как самолет, то могли бы догадаться об этом по характеру распространения заболевания. И все же стандартная геометрия поверхности планеты по-прежнему играет свою роль. Сильнее всего в США весной 2020 года пострадали не города с международными аэропортами и не путешествующие на авиалайнерах сливки общества, а места, куда можно было доехать из Нью-Йорка на машине. Пандемии распространяются и быстро, и медленно, на каком бы транспортном средстве мы ни перемещались.
«Если выражаться на языке Евклида[500], на языке старомодной геометрии плоскости, – продолжает миссис Чтотут, – то прямая линия – это не кратчайшее расстояние между двумя точками»[501]. Однако в новомодной геометрии мы можем заступиться за Евклида. Какова кратчайшая линия между двумя точками на поверхности Земли, например между Чикаго и Барселоной? Она не может быть прямой (если вы не отличный землекоп), потому что, в отличие от евклидовой плоскости, поверхность Земли изогнута. На поверхности сферы нет прямых линий.
Однако должен быть кратчайший путь. И он может проходить вовсе не там, где вы думаете. Чикаго и Барселона находятся примерно на одной широте – 41 градус. Если вы соедините их прямой линией на карте и будете по ней двигаться, то вам придется проехать по 41-й параллели на восток примерно 4650 километров. Но это много! Кратчайший путь пройдет севернее, по дуге, которая покидает Северную Америку около маленького городка Конш на Ньюфаундленде, где перерабатывают треску, а самая северная точка траектории в Атлантике окажется примерно на широте в 51 градус. Это сократит ваше путешествие больше чем на триста километров.
Идея, что двигаться на запад или восток по широте означает движение по прямой, кажется логичной, но это одно из тех внешне привлекательных утверждений, которые рушатся, как только вы начинаете размышлять, что это значит на самом деле[502]. Предположим, находясь в двух метрах от южного полюса, вы двигаетесь строго на запад. Через несколько секунд вы опишете очень маленькую и очень холодную окружность. У вас не будет ощущения, что вы идете по прямой. Доверьтесь своим чувствам.
Наилучшее представление о прямых на сфере у Евклида было с самого начала: мы просто определяем прямую как кратчайший путь. (На деле это скорее больше похоже на отрезок, который, в отличие от прямой, имеет начало и конец.) Оказывается, все кратчайшие пути на сфере – это части больших кругов, названных так потому, что это самые большие круги, которые можно нарисовать на сфере, – круги, проходящие через две ее противоположные точки[503]. Большой круг – это то, что мы подразумеваем под прямой на сфере. Экватор – это большой круг, а вот остальные параллели – нет. Меридиан вместе со своим продолжением на противоположной стороне планеты тоже составляет большой круг, поэтому движение строго на север или на юг можно назвать движением по прямой. Если вас беспокоят асимметрии между направлениями север – юг и запад – восток, то просто вспомните, что оно заложено в нашем способе определять широту и долготу. Меридианы пересекаются на полюсах, параллели нет. Западного полюса не существует.
Хотя мы могли бы его устроить! Мы можем сделать полюс, где захотим. Например, ничто не мешает нам заявить, что один полюс находится в пустыне Кызылкум в Узбекистане, а другой – в противоположной точке Земли, в южной части Тихого океана. Инженер-программист из Нью-Йорка Гарольд Купер составил такую карту. Почему именно такую? Потому что тогда около дюжины меридианов (или, как называет их Купер, «авеню») проходят вдоль по Манхэттену, а перпендикулярные им параллели – это поперечные улицы. Иными словами, вы можете расширить сетку улиц Манхэттена на остальную часть земного шара[504]. Математический факультет Висконсинского университета находится на углу 5086-й авеню и минус 3442-й Западной улицы, что, возможно, объясняет нашу атмосферу и энергетику.
То, что мы рисуем на своих картах параллели в виде прямых линий, – наследие изобретателя карт Герарда Меркатора[505]. При рождении он был Кремером, но по моде ученых своего времени взял латинизированную версию имени: латинское слово Mercator, как и нижненемецкое слово Kremer, означает «купец, торговец». (Если бы я сделал то же самое, меня звали бы Jordanus Cubitus[506], что звучит неплохо.) Меркатор изучал математику и картографию у фламандского мастера Геммы Фризиуса, написал популярное руководство по начертанию шрифтов, просидел в тюрьме часть 1544 года по подозрению в протестантской ереси, разработал и преподавал курс геометрии в Дуйсбурге, а также создал множество карт. Сегодня его имя известно благодаря карте 1569 года, которую Меркатор назвал Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate Accommodata («Новое и наиболее полное представление земного шара, приспособленное для использования в навигации»), где он применил то, что мы сейчас называем проекцией Меркатора.
Карта Меркатора была удобна для моряков, поскольку их не волновал кратчайший путь: им было важно не заблудиться. В море вы с помощью компаса можете выдерживать курс под определенным углом к направлению на север (точнее, на магнитный полюс, который от северного не так далеко). В проекции Меркатора меридианы были вертикальными прямыми, параллели – горизонтальными, а все углы на карте – такими же, как и в реальной жизни. Поэтому если курс лежит строго на запад, или на 47 градусов от северного направления, или куда-то еще и вы намерены его придерживаться, то ваш путь (который называется локсодромой) на карте Меркатора будет изображен в виде прямой линии. Если у вас есть карта и транспортир, то вы легко увидите, в какую точку берега приведет вас локсодрома.
Однако карта Меркатора отображает некоторые вещи неверно, ведь меридианы на ней параллельны и не пересекаются. На самом же деле они встречаются дважды – на полюсах. Следовательно, на севере и на юге с картой Меркатора что-то должно происходить не так. Действительно, картограф обрезал свою карту по параллелям, проходящим недалеко от полюсов, чтобы избежать явных искажений Арктики и Антарктики. Чем ближе к полюсам, тем параллели на карте располагаются все дальше и дальше друг от друга, хотя фактически их разделяет одинаковое расстояние. Поэтому объекты в высоких широтах выглядят на изображении больше, чем в реальности. В меркаторовской проекции Гренландия получается величиной с Африку, хотя на самом деле Африка в четырнадцать раз больше.
Нет ли проекции получше? Возможно, вам захочется, чтобы большие круги отображались отрезками прямых (гномоническая проекция), чтобы относительная площадь объектов соответствовала реальной жизни (равноплощадная проекция) и чтобы проекция сохраняла углы (равноугольная (конформная) проекция, к которым относится и меркаторовская). Однако вы не можете сразу получить все эти свойства. Причина – теорема Карла Фридриха Гаусса о пицце. Правда, Гаусс не называл ее так, хотя определенно мог бы назвать, если бы у него в Геттингене XIX века были такие ломтики. Но он назвал ее Theorema Egregium, что на латыни означает «Замечательная теорема». Я не буду утомлять вас точной формулировкой, а просто нарисую изображение.
Гладкая искривленная поверхность, если ее достаточно увеличить, будет выглядеть как одна из этих четырех картинок. Слева мы видим часть сферы, в середине – плоскость и часть цилиндра, справа – нечто типа чипса[507]. Гаусс разработал числовое понятие кривизны; у плоскости и цилиндра кривизна равна 0, у сферической поверхности она положительна, а у чипса – отрицательна. Более сложные поверхности вроде следующей могут иметь положительную кривизну в одних точках и отрицательную – в других.
Оказывается, если вы можете сопоставить одну поверхность с другой так, чтобы сохранялись углы и площади, то сохранится и метрика, – иными словами, геометрия двух поверхностей будет одинакова. Расстояние между двумя точками на одной поверхности будет таким же, как и между соответствующими точками другой поверхности.
«Замечательная теорема» гласит: если вы можете спроецировать одну поверхность на другую таким образом, чтобы геометрия оставалась неизменной (иными словами, если вам разрешено изгибать ее и крутить, но не растягивать), то кривизна должна остаться той же самой. Апельсиновая корка – это кусок сферы, а потому имеет положительную кривизну, следовательно, вы не можете расплющить ее на плоскости, ведь у плоскости кривизна нулевая. А кусок пиццы, вырезанный из плоского круга, имеет нулевую кривизну, и его можно свернуть в цилиндрическую форму нулевой кривизны, загнув кончик:
или завернув с обоих краев:
Однако нельзя сделать и то и другое одновременно[508], поскольку получится чипс. Пицца – это не чипс, и ее нельзя сделать чипсом, поскольку кривизна чипса отрицательная, а не нулевая. Вот почему, когда вы идете по Амстердам-авеню с только что купленным куском пиццы, вы загибаете его края вверх: потому что кривизна пиццы и теорема Гаусса не дадут кончику пиццы загнуться вниз, и горячий сыр не капнет вам на рубашку.
Совершенно не обязательно понимать всю замечательность «замечательной теоремы», чтобы осознать, что нельзя получить карту сферической Земли, которая удовлетворяла бы всем вашим геометрическим требованиям. Эта проблема отражена еще в старой загадке. Охотник проснулся, вылез из палатки и стал искать медведя. Он прошел десять километров на юг – медведя нет; прошел десять километров на восток – медведя тоже нет; прошел десять километров на север и увидел медведя прямо перед своей палаткой.
Вопрос: какого цвета был медведь?
Если вы не знаете этой загадки, вот другая версия. Начните путешествие из Либревиля в Габоне примерно на экваторе, двигайтесь строго на север до Северного полюса, поверните на 90 градусов направо и возвращайтесь на юг, пока не наткнетесь на экватор около городка Батаан на Суматре; наконец, снова поверните на 90 градусов направо и двигайтесь по экватору на запад на четверть его длины, пока не вернетесь обратно в Либревиль.
Вспомните, что наша воображаемая идеальная проекция должна использовать дуги большого круга в качестве прямых. Пройденный путь полностью состоял из дуг больших кругов, поэтому на нашей воображаемой идеальной карте он должен отображаться тремя отрезками, то есть быть треугольником. Однако идеальная карта должна сохранять углы, а мы поворачивали под углом в 90 градусов, значит, и на карте должны получить углы по 90 градусов. Однако треугольник на плоскости не может иметь три прямых угла, так что наша мечта об идеальной карте не сбылась.
Ах да, медведь был белым. Поскольку при описанных условиях палатка должна находиться на Северном полюсе[509], так что это был полярный медведь.
(Ха!)
При переходе от геометрии плоской карты к геометрии сферы уже появляется довольно богатая математика. Однако давайте обратимся к еще более радикальным отклонениям от книги Евклида. Как насчет геометрии кинозвезд? Я не об изгибах и плоскостях их тел (хотя о них написано предостаточно), а о сети, которую образуют их связи при совместной работе. Чтобы актеры обладали геометрией, нам нужна метрика, показывающая, насколько далеко они отстоят друг от друга. Для этого введем расстояние по совместному участию в фильмах. Будем считать, что между двумя актерами есть соединяющее звено, если они снимались в одном фильме. Джордж Ривз снимался в фильме «Отныне и во веки веков» вместе с Джеком Уорденом. Уорден сыграл вместе с Киану Ривзом в фильме «Дублеры». Следовательно, расстояние между Джорджем Ривзом и Киану Ривзом равно 2. Строго говоря, максимум 2, ведь нам надо проверить, нет ли между ними более короткого пути в одно звено (если бы они снимались в одном фильме). Впрочем, Джордж Ривз умер за пять лет до рождения Киану, так что расстояние действительно равно 2.
Однако нам вовсе не обязательно брать киноактеров: такое же расстояние можно определить для любой сети, где происходит совместная работа. На самом деле эту идею намного раньше применили к математикам. Мы считаем, что два математика соединены звеном, если они написали совместную статью. Геометрия математиков стала игрой на вечеринках после того, как Каспер Гоффман написал в 1969 году в журнале American Mathematical Monthly заметку на полстранички под названием «Какое у вас число Эрдёша?». Ваше число Эрдёша – это расстояние до математика Пала Эрдёша, который считается центральным элементом такой сети благодаря своему огромному числу соавторов – 511 по последним подсчетам (несмотря на то что Эрдёш умер в 1996 году, он периодически образует новые звенья, поскольку другие авторы все еще пишут статьи, пользуясь идеями, которые почерпнули во время общения с ним). Эрдёш был знаменитым эксцентричным ученым, который не имел обычного жилья, не умел (или якобы не умел) готовить и стирать[510], время от времени появляясь в доме у того или иного ученого, доказывая теоремы вместе с хозяином и потребляя лошадиные дозы стимуляторов. (Однажды он отказался присоединиться к группе математиков за чашечкой послеобеденного кофе, объяснив: «У меня есть кое-что получше, чем кофе»[511].)
Ваше число Эрдёша – это длина кратчайшей цепочки, соединяющая вас с венгерским ученым. Если вы – Эрдёш, то ваше число Эрдёша равно 0; если вы не Эрдёш, но написали с ним совместную работу, то ваше число Эрдёша равно 1; если вы не писали совместной статьи, но писали ее с человеком, чье число Эрдёша равно 1, то ваше число Эрдёша равно 2 и так далее. Эрдёш связан практически со всеми математиками, когда-либо писавшими статьи с соавторами, так что число Эрдёша есть практически у каждого математика. Мастер шашек Марион Тинсли имел число Эрдёша 3; у меня оно такое же: в 2001 году я написал статью о модулярных формах с Кристофером Скиннером, который в 1993 году, будучи стажером в Bell Labs, написал статью о дзета-функциях с Эндрю Одлыжко, который написал три статьи с Эрдёшем в 1979–1987 годах. Расстояние между Тинсли и мною равно 4[512]. Мы образуем равнобедренный треугольник.
Этот треугольник выглядит несколько сжатым сверху, потому что Тинсли за свою короткую математическую карьеру написал всего одну совместную статью со своим учеником Стэнли Пейном, так что это звено – и часть цепочки от Тинсли до Эрдёша, и часть цепочки от Тинсли до меня.
А теперь изменим масштаб, чтобы нарисовать 400 000 математиков, которые когда-либо публиковали статьи. Каждую пару соавторов соединим линией-звеном.
Большой кусок на рисунке (на специализированном языке это большая «компонента связности») – это 268 000 математиков, которые каким-то образом соединены с Эрдёшем. То, что похоже на пыль вокруг, – математики, которые никогда не делали совместных публикаций; их примерно 80 000. Остальные математики разбиты на мелкие кластеры, самый большой из которых – это 32 специалиста по прикладной математике из Симферопольского университета в Крыму. Каждый математик в наибольшей компоненте соединен с Эрдёшем цепочкой не более чем из тринадцати звеньев; если у вас вообще есть какое-то число Эрдёша, то оно не превосходит 13.
Может показаться странным, что получилась не куча компонент разной величины, а одна гигантская компонента и множество почти полностью разобщенных математиков-одиночек. Однако мир устроен именно так, и мы знаем об этом факте благодаря самому Эрдёшу. Понятие числа Эрдёша не просто дань общительности ученого; это также дань уважения новаторской работе о статистических свойствах больший сетей, выполненной им совместно с Альфредом Реньи. Вот что они показали. Предположим, у вас есть миллион точек, где под миллионом подразумевается «некое большое число, которое мне незачем уточнять». Допустим, выбрано какое-то число R. Чтобы сделать из этих точек сеть, вы решаете одни пары соединить, а другие – нет; при этом все осуществляется абсолютно случайно – любая пара точек соединяется ребром с вероятностью R на миллион. Скажем, R = 5. Каждую точку можно соединить с миллионом других точек (ну хорошо, с 999 999), но шансы на соединение для каждой всего 5 миллионных. Складывая миллион пятимиллионных, получаем, что каждая точка в среднем соединяется с пятью другими[513]. Число R – среднее число «соавторов» для каждой точки.
Эрдёш и Реньи обнаружили, что существует некое критическое значение. Если R < 1, то сеть практически наверняка распадается на огромное количество несвязных кусков. Однако если R > 1, то с не меньшей уверенностью можно сказать, что получается один гигантский кусок, охватывающий большую часть сети. Внутри этого куска для двух любых точек есть соединяющий путь – как почти у всех математиков есть путь до Эрдёша[514]. Крошечное изменение числа R от 0,9999 до 1,0001 приводит к полному изменению поведения всей сети.
Мы уже видели это. Предположим, что точки – это население Южной Дакоты (а там его как раз около миллиона) и что две точки соединены, если люди контактируют и дышат друг на друга. Это не идеальная модель для распространения инфекции (поскольку не учитывает, что разные люди заразны в разное время), однако вполне приемлемая для консультационной деятельности. Среднее число людей, которых заражает инфицированный человек, равно R; это число срывает свою маску, и оказывается, что оно все время было числом R0. Меньше 1? Болезнь будет локализована в каком-то небольшом фрагменте сети. Больше 1? Она распространится практически повсюду.
Кроме того, Эрдёш знаменит идеей Книги: он любил говорить, что у Бога есть Книга, в которой содержатся самые сжатые, элегантные и наглядные доказательства теорем. Вам не нужно верить в Бога, чтобы верить в Книгу; сам Эрдёш, хотя и вырос в еврейской семье, был далек от религии. Побывав в католическом Университете Нотр-Дам[515], он заметил, что кампус очарователен, но в нем слишком много знаков плюс (то есть крестов)[516]. И тем не менее он пришел практически к тем же взглядам на математическую реальность, что и набожная Хильда Хадсон; она ведь тоже считала, что поистине хорошее доказательство – это случай проявления прямой связи с божественным. Пуанкаре, который не был верующим, но и не насмехался над верой, относился к подобным откровениям более скептически. Он писал, что если бы какое-то трансцендентное существо знало истинную природу вещей, то оно «не смогло бы найти слов[517], чтобы выразить ее; мы не только не можем предвидеть ответ, но, даже если бы он нам был дан, мы бы все равно ничего не поняли».
Игру Эрдёша на киноактеров переключила в 1990-е годы одна группа скучающих студентов колледжа, которые заметили, что актер Кевин Бейкон, похоже, снимался в фильмах со всеми[518]: он был Эрдёшем для Голливуда 1980-х и 1990-х годов. Поэтому для любого киноактера вы можете определить число Бейкона – это расстояние до Кевина Бейкона в геометрии совместных съемок. Как почти у всех математиков есть число Эрдёша, так почти у всех актеров есть число Бейкона[519]. Мое число Бейкона равно 2, поскольку я снимался с Октавией Спенсер в фильме «Одаренная», а она сыграла в 2005 году роль клиентки в фильме «Салон красоты» с певицей Куин Латифой, где Бейкон играл Джорджа. Поэтому мое число Эрдёша – Бейкона: 3 + 2 = 5. Клуб людей с определенным числом Эрдёша – Бейкона довольно мал. Даника Маккеллар, которая подростком играла в телесериале «Чудесные годы» и, по мнению всех моих друзей, учивших ее в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сделала бы блестящую карьеру в математике, если бы не предпочла актерскую профессию, имеет число Эрдёша – Бейкона, равное 6. Николас Метрополис[520] разработал и дал свое имя одному из важнейших алгоритмов при случайных блужданиях, который помог реализовать мечту Больцмана о понимании свойств газов, жидкостей и твердых тел путем последовательного анализа движения молекул и их бильярдных столкновений. Однако для нас сейчас важнее, что он сыграл эпизодическую роль в фильме Вуди Аллена «Мужья и жены» и тем самым обошел меня с числом Эрдёша – Бейкона: у него оно 2 + 2 = 4[521].
Математики обычно не называют такие сети сетями; мы называем их графами, и они не имеют ничего общего с графиками функций, которые вы, возможно, рисовали в школе. Мы виним в этом химиков. Предельные углеводороды (парафины или алканы) – это вещества, молекулы которых состоят только из атомов углерода и водорода. Самый простой из них – один атом углерода и четыре атома водорода – это метан (газ «коровья отрыжка вызывает глобальное потепление»). Слово «парафин» может напомнить вам о парафиновом воске, различные молекулы которого содержат уже десятки атомов углерода. Химики XIX века определяли, сколько углерода и водорода содержится в каждом соединении, проводя «элементный анализ» (это причудливый способ сказать «подожгите и посмотрите, сколько выделится двуокиси углерода, а сколько воды»). Однако вскоре они начали понимать, что существуют молекулы с одинаковыми формулами, но при этом с разными свойствами. Они пришли к мысли, что дело не только в количестве атомов. Молекулы обладают геометрией. Одни и те же атомы могут располагаться по-разному.
Бутан – вещество, сгорающее в зажигалке Zippo, – имеет формулу C4H10: четыре атома углерода, десять атомов водорода. Эти атомы углерода можно расположить в цепочку:
а можно в виде буквы Y, что дает молекулу под названием изобутан.
Чем больше у нас атомов углерода, тем больше разных геометрий можно построить. Октан, как следует из его названия, содержит восемь атомов углерода: его формула C8H18. В стандартной форме все они выстроены в одну линию. Однако октан, входящий в состав вашего бензина и обеспечивающий плавную езду, выглядит так:
Его научное название – 2,2,4-триметилпентан. Я понимаю, почему на бензоколонках не пишут 2,2,4-триметилпентановое число. Однако обычная номенклатура приводит к довольно странному факту, что у октана крайне низкое октановое число[522].
Молекула – это сеть; точки – атомы, между которыми есть связи. В предельных углеводородах атомы углерода не образуют замкнутого цикла, поэтому сеть атомов углерода – это дерево, как в случае позиций для шашек.
Оказывается, каждый атом углерода образует связи с четырьмя другими атомами, а атомы водорода моногамно обходятся одной. Вы можете убедиться, что две изображенные выше молекулы бутана охватывают все способы соединить четыре С и десять H. Для пентана, с его пятью атомами углерода, получается три способа:
а для гексана – пять способов (я не стану на этот раз рисовать водород):
Снова последовательность Вираханки – Фибоначчи! Однако нет: для гептана с семью атомами углерода существует не восемь, а девять вариантов цепи. Маленьких чисел не так уж много, а потому при подсчете может происходить перекрытие. Это проблема стандартизированных тестов; вы вполне можете спросить ученика: «Какое число будет следующим в последовательности 1, 1, 2, 3, 5?» И если он ответит: «Девять, потому что я решил, что мы подсчитываем количество предельных углеводородов», то вам придется признать, что этот всезнайка заслужил зачет[523].
Хорошая картинка все проясняет чудесным образом. Химики значительно продвинулись в своем понимании, когда начали рисовать изображения вроде представленных на этих страницах, которые назвали графической нотацией. Математики тоже вдохновились новыми геометрическими вопросами, обнаруженными химиками, и быстро перенесли их в область чистой математики. Сколько тут разных структур молекул и как можно организовать весь этот дикий геометрический зоопарк? Алгебраист Джеймс Джозеф Сильвестр одним из первых серьезно взялся за эти вопросы. Он писал, что химия оказала «животворящее и вдохновляющее влияние на алгебраистов»[524]. Он сравнил такое действие на математический ум с вдохновением, которое поэты черпают из картин:
В поэзии и алгебре[525] мы имеем чистую идею, разработанную и выраженную посредством языка, а в живописи и химии идея, заключенная в материи, для должного проявления частично зависит от процессов обработки и ресурсов искусства.
Сильвестр взял выражение «графическая нотация»[526], используемое химиками, и на его основе придумал термин «граф», которым мы пользуемся до сих пор.
Сильвестр был англичанином, но также в каком-то смысле и первым американским математиком; в шестьдесят лет он стал первым профессором математики в только что открывшемся Университете Джона Хопкинса в 1876 году – в те времена, когда американской математики практически не существовало и студентам приходилось ехать в Германию, чтобы научиться чему-нибудь серьезному. Он выглядел как выдающийся пожилой ученый. Один из современников описывал Сильвестра как «гигантского гнома с бородой[527] на огромной груди, к счастью без шеи, поскольку ни одна шея не выдержала бы такую чудовищную голову – лысую, за исключением перевернутого ореола волос, покрывающего место ее соединения с широченными плечами». Все обращали внимание на огромную голову Сильвестра. Фрэнсис Гальтон, статистик и энтузиаст френологии, говорил своему ученику Карлу Пирсону: «Было настоящим удовольствием наблюдать[528] за этим громадным куполом». (Гальтон жаловался на открытие Пирсона, что объем черепа не коррелировал с интеллектуальными достижениями, во что всегда верил большеголовый Гальтон.)
Развитие математики в Америке могло начаться намного раньше, поскольку Сильвестр еще в 1841 году был принят на работу в Вирджинской университет. Это может показаться идеальным местом, поскольку Вирджиния была университетом любителя математики Томаса Джефферсона, а одним из неукоснительных требований при поступлении была «демонстрация досконального знания Евклида»[529]. Однако дела не задались с самого начала. Если у вас есть знакомые, которые любят сетовать на то, какие нынче наглые студенты американских колледжей, посоветуйте им прочитать о студентах американских колледжей начала XIX века. Из Йельского университета в 1830 году[530] были исключены 44 человека, включая сына вице-президента Джона Кэлхуна, после отказа сдавать итоговый экзамен по геометрии из-за изменения его условий, а именно запрета пользоваться справочной литературой. Событие стало известно как «Восстание конических сечений». В Вирджинии студенческие волнения перешли от неподчинения в классе к откровенному насилию. Студенты собирались толпами и скандировали: «Долой европейских профессоров», а швыряние камней в окна неугодных преподавателей было совершенно обычным делом. В 1840 году студенты-бунтовщики[531] застрелили непопулярного профессора права.
Сильвестр был не только европейцем, но и евреем. Одна местная газета заявляла, что жители Вирджинии – «христиане, а не язычники, не мусульмане, не евреи, не атеисты» и что профессора должны соответствовать такому же религиозному стандарту. Назначению Сильвестра препятствовал тот факт, что он, строго говоря, не имел степени. Это тоже было связано с религией. Кембридж требовал, чтобы выпускники заявляли о своем согласии с документом «Тридцать девять статей англиканского вероисповедания», чего Сильвестр сделать не мог. К счастью, Тринити-колледж в Дублине, который должен был принимать не только студентов-протестантов, но и католиков, такой присяги не требовал и незадолго до поездки в Америку присвоил Сильвестру степень бакалавра.
Сильвестр, в то время не производивший впечатления физически сильного человека (несмотря на голову), был едва старше тех, кого обучал, и в результате все его старания поддерживать в классе дисциплину натыкались на дерзость и презрение. Попытка наказать Уильяма Балларда из Нового Орлеана за чтение книги под столом во время занятий вылилась в спор, с которым пришлось разбираться всему факультету. Баллард обвинил Сильвестра в худшем, что только мог вообразить: что профессор обращается к нему так, как белый в Луизиане разговаривает с рабом. К великому разочарованию Сильвестра, многие из его коллег смотрели на вещи так же, как Баллард. Впрочем, с этого момента стало еще хуже. Позже в том же семестре Сильвестр совершил ошибку: на устном экзамене он заметил какие-то оплошности в ответе одного студента, в результате старший брат этого парня решил вступиться за честь своей семьи и ударил Сильвестра по лицу. Ученый, конечно же зная о судьбе непопулярного профессора права, предусмотрительно носил с собой трость с вложенной шпагой, которую и пустил в дело. Брат студента не пострадал, но карьере Сильвестра в Вирджинском университете пришел конец. Несколько месяцев он ездил по Соединенным Штатам в поисках более подходящего места и почти получил должность в Колумбийском университете, но препятствием опять послужила религия. Попечители сказали ему (видимо, это казалось им оправданием), что у них нет никакого предубеждения к иностранным профессорам и они точно так же сочли бы американского еврея неподходящим для этой должности. Эта неудача помешала также его матримониальным планам в Нью-Йорке.
«Моя нынешняя жизнь сейчас практически пуста», – вспоминал Сильвестр. Он вернулся в Англию[532], одинокий и безработный, перебивался различными заработками: был актуарием, юристом, частным преподавателем математики у Флоренс Найтингейл, одновременно занимаясь алгеброй. Вернуться к университетской жизни ему удалось только через десять лет. Из-за пересекших Атлантику слухов из Вирджинского университета люди верили, что он убил ребенка, на которого напал с оружием в трости. Сильвестр также отличался неприятной склонностью к ученым склокам, о чем можно догадаться по его работам вроде опубликованной в 1851 году «Объяснения совпадения теоремы, приведенной мистером Сильвестром в декабрьском номере этого журнала, с теоремой, изложенной профессором Донкином в июньском номере», которое я перескажу: «Хотя я иногда пишу статьи в ваш журнал, я не читаю его регулярно, поэтому не заметил более раннюю работу Донкина, относящуюся к теореме, которую я на самом деле доказал еще девять лет назад, но никому не показывал, поскольку решил, что она слишком проста и наверняка уже где-то опубликована». Он заканчивает весьма сдержанным извинением перед Донкином (здесь я должен цитировать – настолько это выразительно звучит), «чья высокая и заслуженная репутация, не говоря уже о бескорыстной любви к истине ради самой истины без учета личных соображений, а также вдохновляющий труд подлинного служителя науки должны сделать его безразличным к почестям, которые, как предполагается, могут проистекать от авторства или первой публикации этой очень простой (хотя и важной) теоремы». Он подавал заявку на профессуру в Грешем-колледже[533] по геометрии (та должность, которую позже занимал Карл Пирсон) и получил отказ. Сильвестр так никогда и не был женат.
Несмотря на все эти препирательства, в конце концов он все-таки занял место в официальной английской математике середины XIX века, участвуя в создании предмета, который сегодня мы называем линейной алгеброй. Для Сильвестра она была неотделима от геометрии пространства, к которой он постоянно возвращался. Линейная алгебра позволяет расширить наши интуитивные представления о трехмерном пространстве на пространства любой размерности[534], так что разум естественным образом обращается к вопросу, не живем ли мы на самом деле в пространстве большей размерности. Сильвестр любил метафору «книжного червя» – идеально плоского существа, которое живет в двумерном листе бумаги, не имея ни понятия о существовании более широкого мира, ни возможности его сформировать. Сильвестр задавался вопросом: что, если мы, трехмерные существа, такие же ограниченные? Позволят ли наши способности к воображению превзойти червяка и взглянуть за пределы нашей трехмерной «страницы»? Возможно, предполагал Сильвестр, наш мир «подвергается в пространстве четырех измерений[535] (столь же непостижимом для нас, как наше пространство для предполагаемого плоского червя) каким-то искажениям, аналогичным смятию страницы…». Заметили, что это та же теория, которую излагала миссис Чтотут, только вместо муравья на нити используется книжный червь?
Однажды Сильвестр начал лекцию с извинения: «Красноречивый математик[536] должен по природе вещей оставаться таким же редким явлением, как говорящая рыба», однако это обязательное извинение человека, скорее гордящегося своим умением оперировать словами. Подобно Уильяму Роуэну Гамильтону и Рональду Россу, Сильвестр был поэтом. Он написал, возможно, единственный в истории сонет, адресованный алгебраическому выражению: «Недостающему члену в группе членов в алгебраической формуле»[537]. Сильвестр пошел еще дальше, написав целую книгу «Законы стихосложения», где стремился поставить техническую сторону поэзии на строгую математическую основу. При этом Сильвестр хоть и не сообщает, что когда-либо изучал санскритское стихосложение, принимает ту же точку зрения, что и Вираханка тринадцатью столетиями ранее: ударный слог вдвое длиннее безударного. Для того, что Вираханка называл лагху и гуру, Сильвестр использует музыкальные термины crotchet (четвертная нота) и quaver (восьмая).
Я считаю, что цель Сильвестра – поднять поэзию до уровня математики, а не опустить до него, поскольку Сильвестр определенно думал именно так. Он всю жизнь был противником популярного взгляда на математику как на бессистемную прогулку дедуктивными шагами. Для Сильвестра математика была способом прикоснуться к трансцендентной реальности; чтобы попасть туда, требовалась вспышка интуиции, и только после этого происходило возвращение и строительство логического помоста, чтобы помочь другим тоже туда добраться. Он нападает на традиционную педагогику своего времени, прямо связывая ее с отупляющим англиканским консерватизмом, лишившим его места в академической науке:
Я рано изучил Евклида[538], и это сделало меня ненавистником геометрии, что, я надеюсь, послужит мне оправданием, если я шокировал представления присутствующих в этой комнате (а я знаю, что есть люди, считающие Евклида вторым по святости после самой Библии и одним из форпостов британской конституции) тем тоном, которым ранее упоминал о нем как об учебнике; и тем не менее, несмотря на это отвращение, которое стало моей второй натурой, каждый раз, когда я достаточно глубоко погружался в какой-то математический вопрос, я обнаруживал, что наконец касался геометрического дна.
Он восхищался и Германией, и Америкой, где ощущал тот интеллектуальный ветер, который был невозможен в Англии, и зашел так далеко, что однажды сказал (конечно, перед американской аудиторией: он мог быть невежливым, но не глупцом), что Америка и Германия, несмотря на географию[539], находятся в одном полушарии, а Англия в другом. Тем не менее Сильвестр вернулся в Англию в 1883 году в качестве савильского профессора геометрии[540] в Оксфордском университете; кстати, первым этот пост в свое время занял составитель таблицы логарифмов Генри Бригс. Примерно в то же время Сильвестр посетил молодого Пуанкаре, который в конце XIX века приложил максимум усилий ради освобождения геометрии из евклидовой тюрьмы и настаивал на ее фундаментальном значении для науки.
Недавно я посетил Пуанкаре[541] в его высоком насесте на улице Гей-Люссака в Париже… В присутствии этого могучего хранилища сдерживаемой интеллектуальной силы мой язык поначалу отказался выполнять свои функции, глаза блуждали, и я был в состоянии говорить только спустя некоторое время (может быть, две или три минуты), потраченное на то, чтобы рассмотреть и уловить его внешне юношеские черты.
Впервые за свою долгую жизнь разговорчивый Сильвестр потерял дал речи.
Когда ученый умер в 1897 году, Королевское общество отчеканило в его честь медаль. Первым ее получил Пуанкаре. На ежегодном обеде общества 1901 года он произнес трогательную речь, посвященную старшему коллеге. Сильвестру, несомненно, было бы приятно услышать, как великий геометр восхваляет его математику, говоря, что она обладает «чем-то от поэтического духа Древней Греции».
На обеде присутствовал и сэр Рональд Росс[542]. Представьте, что было бы, если бы он оказался рядом с Пуанкаре и французский математик в духе застольной беседы рассказал ему об одной интересной работе своего студента Башелье по случайным блужданиям на финансовом рынке, а Росс заметил бы связь со своими идеями о блуждающих комарах…
В номере от 15 мая 1916 года журнал для фокусников The Sphinx опубликовал такое объявление:
ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ НА РАССТОЯНИИ. Вы отправляете по почте какому-нибудь лицу обыкновенную колоду карт, просите его перетасовать их пролистыванием и выбрать одну карту. Затем он возвращает выбранную карту на любое место в колоде и присылает вам только ПОЛОВИНУ колоды, не сообщая, есть ли в ней искомая карта. В ответном письме вы называете карту, которую он выбрал. Цена 2,5 доллара.
ПРИМЕЧАНИЕ. При получении 50 центов я устрою реальную демонстрацию. Тогда, если вы захотите узнать секрет, останется заплатить 2 доллара.
Это объявление разместил Чарльз Джордан, куровод из Петалумы, который в качестве хобби собирал гигантские радиоприемники, а также подрабатывал, выигрывая конкурсы головоломок в газетах. (Он был так хорош[543], что газеты запрещали ему участвовать. Тогда он сколотил группу из нескольких человек, и те отдавали его ответы в обмен на часть прибыли; однажды его схема едва не провалилась, когда одного из его партнеров пригласили в редакцию для проведения тай-брейка[544].) Джордан был также плодовитым изобретателем карточных фокусов. Несмотря на отсутствие математического образования в том смысле, как мы это понимаем, он был пионером в применении математики в фокусах.
Я собираюсь научить вас тому, как читать мысли по почте. Да, я знаю, что фокусник никогда не раскрывает секреты трюков. Но я ведь не фокусник, а преподаватель математики. И секрет трюка Джордана кроется в геометрии тасования карт.
О геометрии тасования карт я узнал от Перси Диакониса, у которого писал дипломную работу. У многих профессиональных математиков довольно предсказуемый путь в науку. Но не у Диакониса – сына мандолиниста и учительницы музыки, сбежавшего из дома в 14 лет, чтобы стать фокусником в Нью-Йорке, затем поступившего в Городской колледж Нью-Йорка, чтобы изучать теорию вероятностей, потому что коллега сказал ему, что это улучшит его карточные навыки. Он встретил Мартина Гарднера, энтузиаста математики и фокусов[545], и тот написал для него рекомендательное письмо, включавшее такие слова: «Я не особо разбираюсь в математике, но этот парень изобрел два лучших карточных фокуса за последние десять лет. Вам следует дать ему шанс». В некоторых местах (например, таких как Принстон) это впечатления не произвело, но в Гарварде работал Фред Мостселлер – не только статистик, но и фокусник-любитель, и Диаконис стал его учеником. Когда я поступил в Гарвард, Перси был там уже профессором.
Вводные математические курсы для аспирантов не имеют в Гарварде определенного учебного плана: профессорам разрешается читать любой материал, который они сочтут подходящим. В осеннем семестре моего первого года обучения алгебру преподавал Барри Мазур, мой будущий научный руководитель, и курс был посвящен его (а позже и моей) области – алгебраической теории чисел. Весной у нас преподавал Диаконис, и целый семестр мы занимались тасованием карт.
Геометрия тасования карт во многом похожа на геометрию кинозвезд и математиков – только она гораздо, гораздо масштабнее. Точки этого пространства – способы, которыми можно упорядочить 52 карты. Сколько существует таких способов? Первую карту из колоды можно выбрать 52 способами. Следующей картой может быть любая из оставшихся в колоде, то есть ее можно выбрать 51 способом. Поэтому всего получается 52 51 = 2652 способа выбрать две карты. Третья карта выбирается 50 способами, что дает нам для первых трех карт 52 51 50 = 132 600 способов. Продолжая в том же духе, мы получим, что количество способов упорядочить 52 карты равно произведению всех чисел от 52 до 1. Это число обычно обозначается 52![546] и читается как «52 факториал», хотя в XIX веке его предлагали назвать «52 восхищение» – в соответствии с типографским знаком. Факториал числа 52 – это 67-значное число, и я не собираюсь загружать вас его точным значением. Но поверьте, оно определенно намного больше, чем число математиков или кинозвезд.
(Конечно, эта геометрия в каком-то наивном смысле меньше, чем геометрия скромного отрезка прямой, где бесконечно много точек!)
Чтобы получить какую-то геометрию, нам нужно понятие расстояния. Вот тут на сцену и выходит тасование. Под ним понимается тасование пролистыванием: вы делите колоду на две части, затем составляете новую стопку, выбирая по одной карте из каждой части слева или справа (необязательно строго чередовать обе стопки). Когда все карты будут выложены, появится новая перетасованная стопка. Обычно это выполняется с помощью приема «ласточкин хвост», когда вы сводите две стопки так, чтобы уголки слегка загибались кверху, а затем отпускаете, и карты начинают чередоваться с успокаивающим звуком «фр-р-р-р-р-р-р». Существуют и другие способы тасовать карты: например, если в одной из двух стопок всего одна карта, то вы можете вставить ее в любое место другой стопки. Это тоже будет пролистывание, хотя, вероятно, в реальной жизни вы так не делаете. Будем говорить, что один порядок карт связан со вторым, если от первого ко второму можно перейти с помощью тасования пролистыванием. Соответственно, расстояние между двумя порядками карт – это количество тасований, которые придется сделать, чтобы добраться от одного порядка до другого.
Существует около четырех с половиной квадриллионов различных тасований пролистыванием. Это много, но все равно не сравнимо с факториалом числа 52. Поэтому новая колода, вынутая из коробки и перетасованная таким способом один раз, не может дать совершенно произвольный порядок: это может быть только порядок, находящийся на расстоянии 1 от фабричного. В геометрии есть название для множества точек, которые находятся на расстоянии не более 1 от данной точки: мы называем это множество шар[547].
Малый размер шара – это ключ к умению читать мысли по почте. Суть трюка в следующем. Я отправляю вам колоду карт. Вы ее тасуете, делите перетасованную колоду на две стопки, выбираете любую карту из одной стопки, запоминаете ее и вставляете в другую стопку. Теперь возьмите любую из стопок, бросьте на пол, соберите снова, вложите в любом порядке в конверт и отправьте обратно мне. Я дистанционно проникну в ваш разум и вытащу из него ту карту, которую вы выбрали.
Как?
Для простоты изложения предположим, что мы проделываем этот фокус только с бубновой мастью. Вот как тасование выглядит на странице. Вы начинаете с карт в следующем порядке:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, В, Д, К, Т.
Делите карты на две стопки, необязательно одного размера:
2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, В, Д, К, Т
и выполняете тасование пролистыванием: – фр-р-р-р-р-р-р:
2, 3, 7, 4, 8, 9, 10, 5, В, 6, Д, К, Т.
Карты перетасованы, но, если присмотреться, можно заметить, что они сохраняют определенную память об исходном порядке. Все начинается с 2, затем прыжок к следующей по старшинству карте 3, затем прыжок к 4 и так далее – пока вам не придется вернуться к следующей по старшинству карте: это произойдет, когда вы доберетесь до 6 бубен. Я выделил жирным шрифтом карты, где вы приземляетесь при первом проходе:
2, 3, 7, 4, 8, 9, 10, 5, В, 6, Д, К, Т.
Теперь вернитесь к первой еще не использованной карте – семерке – и повторите процесс. На этот раз вы охватите все оставшиеся карты. Две эти последовательности карт и есть те две стопки, которые мы смешали вместе тасованием. Неважно, как оно происходило, – колода всегда делится на две подобные возрастающие последовательности.
Теперь предположим, что вы снова делите надвое получившуюся колоду:
2, 3, 7, 4, 8, 9
10, 5, В, 6, Д, К, Т,
перекладываете какую-то карту (например, даму) из одной части в другую:
2, 3, 7, Д, 4, 8, 9
10, 5, В, 6, К, Т
и посылаете одну из стопок по почте мне, умеющему читать мысли.
Вот как работает этот фокус. Когда я получаю карты по почте, я раскладываю их в отдельные последовательности идущих по порядку карт. Если бы вы не переложили карту из одной стопки в другую, то последовательностей было бы две, но поскольку вы переложили одну карту, то их, вероятно, будет три. Если одна из последовательностей состоит из одной карты, то именно ее вы и перекладывали. Если нет, но есть недостающая карта, наличие которой могло бы склеить две последовательности, то перекладывали ее (но она осталась в другой стопке). Давайте посмотрим, как это выглядит в нашем случае. Если вы отправили мне по почте первую стопку, я раскладываю карты в возрастающем порядке:
2, 3, 4, 7, 8, 9, Д
и замечаю, что здесь есть два ряда послеовательных карт (2, 3, 4 и 7, 8, 9) и одна карта отдельно. Именно она и есть перемещенная карта – дама.
А если вы отправили мне вторую стопку? Я упорядочиваю карты и получаю:
5, 6, 10, В, К, Т.
Если попробовать разбить их на ряды последовательных карт, то получится три пары. Однако можно заметить, что если бы у вас была еще одна карта, которая отделяет ряд 10, В от ряда К, Т, то вышло бы всего два ряда. Эта недостающая карта – дама.
К сожалению, этот трюк срабатывает не всегда. Что, если вы переложите 10 из второй стопки в первую и пришлете мне первую стопку? Тогда я получу 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и разделю их на две возрастающие последовательности: 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10. И в результате не буду иметь ни малейшего понятия, какую карту перекладывали. Когда карт всего тринадцать, такое происходит часто. Но с полной колодой из 52 карт фокус работает почти всегда.
Разумеется, Джордан не отправлял людям колоду в фабричном порядке: в этом случае секрет трюка был бы очевиден. Если вы соберетесь его проделывать, то и вам не следует так поступать. Вам нужно знать, в каком порядке изначально располагалась колода, поэтому выберите его так, чтобы вы могли легко его запомнить. Когда получите обратно половину колоды, расположите ее строго в соответствии с выбранным вами порядком, и переложенная карта сразу же бросится вам в глаза.
Этот трюк возможен потому, что колода, перетасованная перелистыванием, не организована в случайном порядке. Точнее, если пользоваться правильной математической терминологией, это не равномерный случайный порядок: так выражают идею, что не все порядки карт в колоде одинаково вероятны. Математики используют слово «случайный» в более широком смысле: если монета несимметрична и орел выпадает с вероятностью 2/3, то результат ее подбрасывания все равно случаен. Однако равномерности уже не будет, поскольку один из двух результатов подбрасывания более вероятен, чем другой. Даже если на монете два орла, результат подбрасывания в понимании математиков все равно будет случайным! Просто в таком случайном событии один из исходов (орел) будет наблюдаться в 100 % случаев. Вы можете настаивать, что это уже точно не случайность, поскольку результат вообще не зависит от случая. Однако для меня это все равно что сказать: ноль не является числом, потому что он выражает не количество, а его отсутствие. (Даже сейчас эта плохая идея сохраняется в термине «натуральные числа», обозначающем целые числа, начинающиеся с 1. Ненавижу этот термин: нет ничего более натурального, чем 0. Существует множество вещей, которых нет!)
Чем чаще вы перетасовываете колоду, тем более равномерно случайной она становится. Это кажется естественным (и было бы крайне неприятно для всех дилеров блек-джека, если бы дела обстояли иначе), однако доказать это непросто. Одно из первых объяснений[548] можно найти в книге старого доброго Пуанкаре, который отвлекся от геометрии ради статьи по вероятности. Используемая в ней математика во многом та же, что и в основе гугловского PageRank, – закон долгих блужданий. Когда вы наугад блуждаете по пространству всевозможных порядков карт в колоде, память об исходной точке начинает постепенно стираться. Вы могли начать где угодно. Отличие PageRank от карт в том, что одни веб-страницы популярнее других, так что человек, бродящий по интернету, будет проводить на них больше времени, увеличивая их параметр PageRank. В колоде все упорядочения карт одинаково хороши, и если перетасовывать их достаточно долго, то шансы получить тот или иной порядок равны.
Если жертва телепатического трюка Джордана перетасует карты два раза, а не один, то фокус не сработает, – по крайней мере, так, как описано. Это вдохновило Диакониса и его соавтора Дэйва Байера[549] на вопрос: сколько раз нужно перетасовать колоду методом перелистывания, чтобы порядок карт в ней настолько приблизился к равномерному, что трюки с картами станут невозможны?
Оказывается, шестикратного тасования достаточно, чтобы добиться любого порядка карт в колоде. Можно сказать, что 6 – это радиус такой геометрии, то есть наибольшее расстояние, пройденное от центра, пока еще хватает места. Точно так же, как 13 – наибольшее число Эрдёша, которое может быть у математика, 6 – это максимальное число тасований, которое может быть у некоторой перестановки карт. (Как и следовало ожидать, одна из перестановок, где требуется шесть тасований, – та, где все карты расположены в обратном порядке.) Итак, геометрия тасования карт велика, но каким-то образом и мала, подобно миру с межконтинентальными рейсами: различных точек много, но, чтобы добраться из одной в другую, не требуется много шагов.
Однако даже после шести тасований некоторые порядки карт гораздо вероятнее других. Оказывается, никакое количество тасований не делает все порядки абсолютно равновероятными, но вероятности довольно быстро становятся к ним настолько близки, что значимой разницы между ними уже нет. Ни один фокусник, даже самый искусный, уже не сможет определить карту, которую вы перекладывали из одной стопки в другую. Диаконис и Байер смогли измерить эту схождение в сторону равномерности. В математическом мире этот результат называют «теоремой о семи тасованиях», поскольку семь тасований обеспечивают[550] разумную степень перемешивания.
Диаконис интересовался тасованием карт, потому что был фокусником. А чем обусловлен интерес Пуанкаре? Отчасти это связано с физикой. Как и все ученые того времени, Пуанкаре был озадачен проблемой энтропии. Концепция Больцмана, что поведение материи можно вывести из совокупного поведения мириад отдельных молекул, сталкивающихся в соответствии с законами Ньютона, выглядела привлекательной и элегантной. Однако законы Ньютона обратимы во времени: они одинаково работают и вперед, и назад. Почему же тогда в соответствии со вторым законом термодинамики энтропия всегда увеличивается? Если смешать горячий и холодный суп, быстро получится теплый, однако теплый суп никогда самопроизвольно не разделится в тарелке на горячую и холодную половину.
Один ответ исходит из вероятностей. Возможно, дело не в том, что энтропия невозможна, а в том, что она крайне маловероятна. Тасование карт – это тоже обратимый во времени процесс. Скорее всего, вы никогда не тасовали колоду так, чтобы в итоге порядок карт в ней оказался тем же, что и в фабричной упаковке. Однако причина не в невозможности – такое возможно! Просто маловероятно. Точно так же длинная гибкая веревка (например, шнур от наушников) склонна запутываться узлами, когда вы суете ее в карман, – так подсказывает вам жизненный опыт и статья 2007 года с убийственным названием «Самопроизвольное завязывание узлов при встряхивании веревки» (Spontaneous Knotting of an Agitated String)[551]. Однако причина не в существовании универсального закона об увеличении запутанности, а в наличии для веревки гораздо большего количества способов запутаться, чем распутаться, а потому случайные подергивания вряд ли приведут к редкому состоянию распутывания[552].
Мы снова возвращаемся к лекции Пуанкаре на выставке в Сент-Луисе в 1904 году, в которой он затронул многочисленные кризисы, охватившие физику. В 1890-х Пуанкаре решительно выступал против вторжения вероятности в эту область. Но он не был доктринёром; он боролся с ненравившейся ему теорией, читая курс по ней, и в ходе этого процесса пришел к выводу, что у нее есть свои достоинства. Он сообщил аудитории в Сент-Луисе, что если бы вероятностная точка зрения была верной, то «физический закон приобрел бы совсем иной облик и был бы уже не просто дифференциальным уравнением, а принял бы характер статистического закона»[553].
Тасование карт очень похоже на комара Росса. В обоих случаях мы выполняем последовательность шагов, каждый из которых выбирается случайным образом из определенного числа вариантов. Комар при каждом тиканье часов выбирает, лететь ему на север, запад, юг или восток; колода карт проходит через одно из применимых к ней тасований пролистыванием.
Однако у этих двух геометрий есть и различия. Вспомним, что комар двигается очень медленно. Если он находится в центре сетки 20 20, то ему понадобится двадцать дней, чтобы у него появился шанс добраться до угла сетки; при этом реальное случайное отклонение от центра, как мы видели, происходит гораздо медленней. Чтобы положение комара на сетке стало более или менее случайным, нужны сотни перемещений. Колода карт, несмотря на то что число порядков в ней гораздо больше, обходит всю свою геометрию за шесть шагов и практически обеспечивает равномерность за семь.
Одно очевидное отличие состоит в том, что у комара есть четыре направления и перетасовать карты пролистыванием можно четырьмя миллиардами способов. Но скорость обеспечивается не этим. Если из всех четырех миллиардов способов[554] выбрать какие-нибудь четыре и использовать только их, то порядок карт все равно станет случайным очень быстро.
Но есть и принципиальная разница между перемещением комара и тасованием колоды. Первое связано с обычной геометрией пространства. Второе – нет. В этом и разница. Абстрактные геометрии вроде геометрий перетасованных карт, как правило, исследуются гораздо быстрее, чем геометрии из физического пространства. Количество мест, куда можно добраться, растет экспоненциально с количеством сделанных вами шагов, следуя ужасающему закону геометрического роста, а это предполагает, что вы можете попасть куда угодно за короткое время. Кубик Рубика имеет[555] 43 квинтиллиона конфигураций, но из любой из них можно попасть в исходное одноцветное положение всего лишь за 20 ходов. Сотни тысяч публиковавших статьи математиков (за исключением отдельных изолятов) находятся всего в тринадцати шагах от Пала Эрдёша.
Однако математика – это человеческая деятельность, математики – люди, и если честно, то сеть, сильнее всего привлекающая наше внимание, – это сеть людей и их взаимодействий. Она имеет отношение и к распространению пандемии. Что это за сеть? Она больше походит на тасование карт или на блуждающих анофелесов Росса?
Понемногу и на то, и на другое. Большинство людей, на которых вы кашляете, живут непосредственно рядом с вами. Однако существуют и дальние связи: бизнесмен из Уханя летит в Калифорнию, лыжник из северной Италии летит домой в Исландию. Такие дальние связи редки, но имеют большое значение. В теории графов мы называем сети, сочетающие короткие и длинные расстояния, выражением «маленький мир», которое восходит к 1960-м годам и социальному психологу Стэнли Милгрэму[556]. Возможно, Милгрэм наиболее известен экспериментом, где властно побуждал испытуемых бить актеров ложными ударами тока, но в более веселые моменты жизни он изучал и позитивные формы человеческих связей. Он задался вопросом: насколько в геометрии знакомства, где мы считаем двух людей связанными, когда они знакомы друг с другом, вероятно, что их соединяет какая-то цепочка, и если да, то какой она длины? В своей пьесе «Шесть степеней отчуждения» Джон Гуэйр излагает результаты Милгрэма устами одного из персонажей – Уизы, торгующей предметами искусства в Нью-Йорке:
Я где-то прочитала, что всех на этой планете отделяют друг от друга всего лишь шесть других людей. Шесть степеней отчуждения. Между нами и любым жителем планеты. Президентом Соединенных Штатов. Гондольером в Венеции. Впишите любые имена. Я нахожу: a) такую близость невероятно утешительной, б) при этом она похожа на китайскую пытку водой. Потому что вам нужно найти шесть подходящих человек для этой связи. Это не знаменитости. Это кто угодно. Житель тропического леса. Огнеземелец. Эскимос.
Это не совсем то, что обнаружил Милгрэм. Он изучал только американцев, попросив людей из Омахи найти цепочку знакомств, заканчивающуюся конкретным биржевым маклером в Шароне (Массачусетс). И он не обнаружил, что все люди связаны; напротив, всего 21 % жителей Небраски нашли путь к маклеру[557]. Как правило, в цепочке было от 4 до 6 человек, но как минимум в одном случае понадобилось 10 шагов. Пьеса Гуэйра искажает результаты, чтобы исследование служило лучшей метафорой расового беспокойства: белые персонажи пьесы хотят сказать, что являются частью разнообразного современного мира, но им физически больно осознавать, что тропический лес и его жители могут оказаться не так далеко от Верхнего Ист-Сайда на Манхэттене, как они думают. (То отчуждение, которое добавляет Гуэйр к милгрэмовским шести ступеням, конечно же, несет скрытое дополнение «но равенство».) Милгрэм действительно провел дополнительное исследование в 1970 году[558], в котором экспериментаторы просили 540 белых человек в Лос-Анджелесе установить цепочку связей с восемнадцатью людьми в Нью-Йорке, половина из которых была белыми, а половина – черными. Связь между белыми и белыми была успешно установлена примерно в трети случаев, но только каждый шестой из белых калифорнийцев смог найти дорогу к черному адресату.
Эти «Шесть шагов отчуждения» превратились в «Шесть шагов до Кевина Бейкона» – обычное название процесса построения кратчайшего пути до Кевина Бейкона в геометрии кинозвезд. Во время эпидемии COVID-19 в марте 2020 года Бейкон запустил кампанию «Шесть шагов», призвав своих поклонников сохранять социальную дистанцию. В записанном видеоролике он сказал: «Технически я нахожуcь всего в шести шагах от вас[559]. Но я остаюсь дома, поскольку это сохраняет жизни, и это единственный способ замедлить распространение коронавируса».
Сегодня мы можем проводить эксперименты с пошаговым разделением, не обращаясь к людям, пересылающим почтовые открытки, как у Милгрэма. В 2011 году в Facebook [560] насчитывалось примерно 700 миллионов активных пользователей – в среднем по 170 друзей у каждого; и математики из исследовательского подразделения компании имеют доступ ко всей этой мегасети. Выберите наугад двух пользователей в любой точке земного шара: средняя длина кратчайшей цепочки друзей в Facebook между ними будет всего 4,74 (то есть, как правило, между двумя пользователями есть еще три или четыре промежуточных человека). Почти все пары (99,6 %) оказались в пределах шести шагов. Facebook – это граф типа маленького мира[561]. (И становится все теснее[562] по мере увеличения числа пользователей: к 2016 году средняя длина пути еще немного снизилась – до 4,57.) Охват Facebook настолько велик, что его сеть побеждает географическое пространство. Расстояние между случайными пользователями в Соединенных Штатах равно 4,34; между двумя шведскими пользователями – 3,9. Для Facebook мир лишь ненамного больше Швеции.
Анализ такого гигантского графа требует серьезных вычислений. Facebook сообщит вам, сколько у вас друзей, но для анализа пути нужно знать, сколько у вас друзей друзей, а далее – сколько друзей у этих друзей друзей и так далее. Одним словом, требуется еще как минимум несколько итераций. Это усложняет дело: вы не можете просто сложить количество друзей ваших друзей, поскольку они повторяются. Поиск по всему списку повторяющихся имен предполагает сохранение сотни тысяч записей и постоянного обращения к ним, что сильно замедлит вашу работу.
Трюк, позволяющий ускорить процесс, называется алгоритм Флажоле – Мартена. Я не стану вдаваться в детали его действия, а расскажу упрощенную версию. Facebook не скажет вам, сколько у вас друзей друзей, но позволит искать среди них людей, например по имени Констанс. У меня таких 25. Констанс не особо рспространенное имя: в тех возрастных группах, куда входит большая часть моего круга общения, это имя носят 100–300 женщин на миллион родившихся в Соединенных Штатах. Если среди друзей моих друзей имя Констанс имеет такое же распространение, как и в среднем по Америке, то это означает, что у меня примерно 85–250 тысяч друзей друзей. Я пробовал сделать то же самое еще для нескольких имен, выбирая редкие, чтобы получить достаточно короткий список: 50 Джеральдов, 18 Чарити. В основном выходило около четверти миллиона, на этой оценке я и остановился.
Алгоритм Флажоле – Мартена не совсем такой, но работает по тому же принципу. Он напоминает просмотр списка друзей всех ваших друзей с отслеживанием самого редкого имени. Каждый раз, встречая имя, более редкое, чем нынешний рекордсмен, вы отбрасываете старое имя и заменяете его новым. Не требуется большого хранилища! В конце процесса у вас будет предположительно самое редкое имя, и чем длиннее ваш список, тем более редким оно будет. Теперь можно вернуться и по степени редкости самого редкого имени прикинуть, сколько различных людей есть среди друзей ваших друзей!
Это срабатывает не всегда. Например, у меня есть друг по имени Кардим (Kardyhm). Родители назвали его так, сложив инициалы семи лучших друзей в удобном для произношения порядке. Я считаю, что он – единственный Кардим в мире. Поэтому построенная вышеописанным способом оценка для любого из друзей друзей Кардима будет неоправданно завышена из-за крайней редкости его имени. Настоящий алгоритм Флажоле – Мартена использует не имена, а другой вид идентификатора – хеш, которым можно управлять во избежание таких проблем, как с Кардимом.
Одно небольшое предупреждение насчет подобных вычислений. Если вы ими займетесь, то, скорее всего, столкнетесь с обидным для вашего эго фактом, что у ваших друзей в среднем больше друзей, чем у вас. Я вовсе не пытаюсь этим унизить коммуникабельность своего читателя. Крупномасштабный анализ[563] сети Facebook, проведенный в 2011 году, показал, что 92,7 % пользователей имеют меньше друзей, чем их средний друг. Совершенно нормально, что у ваших друзей больше друзей, чем у вас, потому что ваши друзья (в реальной жизни или на экране) – не случайная выборка из всего населения. В силу того, что они оказались в числе ваших друзей, они с большей вероятность являются теми, у кого много друзей.
Для большинства людей удивительно, что такую колоссальную сеть, как Facebook, можно пересечь всего за несколько шагов. Но теперь мы знаем, что сети типа маленького мира сегодня обычное явление. Математические основы заложили в своей фундаментальной работе 1998 года Дункан Уоттс и Стивен Строгац[564]. Уоттс и Строгац просят вас поразмышлять о следующем виде сети. Вы начинаете с нескольких точек, расположенных по кругу, причем каждая соединена только с несколькими ближайшими соседями. Такая сеть похожа на блуждание комара: вы не можете перемещаться быстро, и если на окружности стоят тысячи точек, то для полного обхода вам потребуется много времени. А если добавить несколько связей между далекими точками, чтобы имитировать случайные связи между удаленными людьми?
Уоттс и Строгац обнаружили, что достаточно небольшого числа таких новых связей, чтобы превратить сеть в маленький мир, где люди соединены друг с другом коротким путем. Они пишут (и этот фрагмент теперь кажется тревожно нострадамусовским): «Можно предсказать, что инфекционные заболевания в маленький мире будут распространяться легче и быстрее; настораживающий и менее очевидный факт – насколько мало нужно сделать спрямляющих путей, чтобы сделать мир маленьким». Разработка математического описания маленьких миров показывает, что изначально удивительное явление, обнаруженное Милгрэмом, вовсе не должно удивлять. Такова природа хорошей прикладной математики: она превращает «Как такое может быть?» в «А разве может быть иначе?».
Стэнли Милгрэм считается отцом теории шести рукопожатий[565] отчасти из-за проведенного им эксперимента, отчасти из-за способности продать собственную работу подобно искусному маркетологу. Первое описание эксперимента с открытками появилось на два года раньше всех официальных научных публикаций – в популярном журнале Psychology Today; по сути, это была главная статья в номере. Однако вовсе не Милгрэм первым задумался о малом размере сетевого мира[566]. Его эксперимент проводился для проверки существовавшего теоретического предсказания о тесноте мира, сделанного (но не опубликованного) Манфредом Кохеном и Итиэлем де Сола Пулом (последний был дедом моего соседа по комнате в колледже – факт совершенно в духе коротких цепочек). А до этого, в начале 1950-х, Рэй Соломонофф и Анатоль Рапопорт, писавшие для биологических журналов, осознали существование критической точки, которую позже Эрдёш и Реньи обнаружили независимо друг от друга в чисто математическом контексте: как только достигается определенная плотность связей, можно начинать где угодно и распространиться повсюду[567]. А до этого, в конце 1930-х, социальные психологи Якоб Морено и Хелен Дженнингс изучали «цепные взаимоотношения»[568] в социальных связях в исправительной школе для девочек штата Нью-Йорк.
Однако самое раннее появление идеи маленького мира зафиксировано не в биологии и не в социологии, а в литературе. Венгерский сатирик[569] Фридьеш Каринти в 1929 году опубликовал рассказ под названием «Звенья цепи» (Lncszemek)[570]:
Никогда планета Земля не была такой крошечной, как сейчас. Она уменьшилась – относительно, конечно, – из-за учащения пульса и физического, и словесного общения. Этот вопрос возникал и раньше, но мы никогда не формулировали его таким образом. Мы никогда не говорили о том, что любой человек на Земле, по моему или чьему угодно выбору, может всего за несколько минут узнать, что я думаю или делаю, что я хочу или что мне нравится делать… Один из нас предложил провести следующий эксперимент, чтобы доказать, что население Земли ближе друг к другу, чем когда-либо ранее. Мы должны выбрать любого человека из 1,5 миллиарда жителей планеты – любого, вообще где угодно. Он поспорил с нами, что с помощью не более чем пяти человек доберется до выбранного человека, используя исключительно сеть личных знакомств. Например: «Смотрите, вы знаете господина X. Y. Пожалуйста, попросите его обратиться к его другу господину Q. Z., которого он знает, и так далее». Кто-то сказал: «Интересная идея! Давайте попробуем. Как бы вы связались с Сельмой Лагерлёф?» «Ну что ж, Сельма Лагерлёф, – ответствовал автор идеи. – Нет ничего проще». И за пару секунд выдал решение: «Сельма Лагерлёф получила Нобелевскую премию по литературе, так что она должна знать короля Швеции Густава, поскольку, по правилам, именно он ее вручает. Как хорошо известно, король Густав очень любит играть в теннис и участвует в международных теннисных турнирах. Он играл с господином Керлингом, так что они должны быть знакомы. И так уж случилось, что я тоже неплохо знаю господина Керлинга».
Если не считать меньшей величины населения планеты, эти строки можно было написать и в 2020 году. Тревога и беспокойство, испытываемые рассказчиком, не отличаются от того, что мы чувствуем сейчас, в разгар пандемии, и что чувствовали персонажи пьесы Гуэйра, укрывавшиеся в квартире в Верхнем Ист-Сайде. Это беспокойство о геометрии мира, в котором мы живем. Мы эволюционировали в сторону понимания мира, где нас окружает то, что мы можем видеть, слышать и осязать. Геометрия, в которой мы сегодня живем, и геометрия, к которой приходилось привыкать Каринти еще в 1920-е годы, отличаются. «Знаменитые мировоззрения и идеи, которые озаменовали конец XIX века, сегодня бесполезны, – пишет Каринти далее в своем рассказе. – Мировой порядок разрушен».
Сегодня геометрия мира стала еще меньше, еще взаимосвязаннее и еще более склонной к экспоненциальному распространению. Складок во времени так много, что они почти везде. Нарисовать их на карте непросто. И когда наша способность рисовать иссякает, в игру вступают абстракции геометрии.
Глава 14. Как математика разрушила демократию, но все еще может ее спасти
Вечер 6 ноября 2018 года стал радостным для многострадальных демократов штата Висконсин. Наконец-то губернатор-республиканец Скотт Уокер, дважды прошедший через общие выборы и кампанию отзыва, принесший в штат за восемь лет пребывания у власти в Мэдисоне[571] поляризацию в стиле Вашингтона и какое-то время даже рассматривавшийся своей партией как кандидат на президентские выборы 2016 года, был повержен. Он проиграл употребляющему просторечия Тони Иверсу, поклоннику карточной игры юкер, бывшему школьному учителю не первой молодости, чьей наивысшей предыдущей должностью был пост инспектора учебных заведений штата. На самом деле в тот вечер демократы заняли должности по всему штату. Их кандидат в сенат Тэмми Болдуин была переизбрана с отрывом в 11 пунктов – самый большой отрыв кандидата в масштабах штата с 2010 года для обеих партий. Они заняли посты прокурора штата и казначея штата, которые ранее принадлежали республиканцам. Все это происходило на фоне национальной волны продемократических настроений, которая привела к победе партии в Палате представителей США, где демократы получили на 41 место больше.
Тем не менее у демократов Висконсина не все было так гладко. В Ассамблее (нижней палате законодательного собрания штата) республиканцы потеряли всего одно место, сохранив большинство 63–36. В сенате штата Республиканская партия фактически приобрела одно место.
Почему на выборах в законодательные органы в 2018 году, когда повсюду наступали демократы, в Висконсине ситуация практически не отличалась от 2016 года, когда сенатор-республиканец Рон Джонсон был переизбран, а на президентских выборах впервые за десятилетия в штате победил кандидат от республиканцев? Можно поискать политическое объяснение: может быть, избиратели Висконсина считают республиканцев лучшими законодателями, хотя и предпочитают демократов? Но если бы дело обстояло именно так, то можно было бы ожидать, что в штате будет группа избирательных округов для выборов в Ассамблею, которая голосует за представителя от республиканцев, одновременно поддерживая Иверса в качестве губернатора. Но если отобразить на графике долю голосов, полученную Скоттом Уокером в каждом избирательном округе, и долю голосов, которую набрал республиканский кандидат в Ассамблею, то картина будет выглядеть так[572].
Скотт Уокер выступил в избирательных округах практически так же, как и местный кандидат-республиканец в законодательное собрание. Только два округа[573] (в обоих действующие представители – республиканцы) голосовали за Иверса, но при этом за республиканскую партию в Ассамблее. Уокер потерял пост губернатора, набрав при этом больше голосов в 63 из 99 избирательных округов. Большинство избирателей Висконсина в 2018 году выбрали демократов, но большинство округов выбрали республиканцев.
Это может показаться забавной случайностью; однако это не случайность, и смеяться тут можно, только схватившись руками за голову. Округа в Висконсине являются республиканскими, потому что их границы были проведены республиканцами: их специально проектировали для достижения такого результата. Вот график, показывающий процент голосов за Уокера в каждом избирательном округе, где я упорядочил округа по мере увеличения их «республиканскости».
Наблюдается явная асимметрия. Обратите внимание на доминирование округов, где Уокер лишь слегка превысил 50 % голосов. В 38 из 99 округов он набрал от 50 до 60 %. Его противник Тони Иверс получил от 50 до 60 % всего в 11 округах. Небольшое преимущество Тони Иверса в масштабах штата – это сочетание уверенной победы примерно в трети округов и поражения (почти везде незначительного) в остальных местах.
Этот график можно воспринимать по-разному. Вы можете сказать, что сила демократов в Висконсине сосредоточена в небольшом политически активном регионе, который на самом деле не отражает политики штата. Естественно, именно такова точка зрения республиканской партии Висконсина, один из лидеров которой, Робин Вос, после выборов заметил: «Если убрать из формулы выборов Мэдисон и Милуоки[574], то у нас было бы явное большинство»[575]. С точки зрения демократов, логичнее заметить, что есть восемнадцать округов, где Скотт Уокер получил меньше трети голосов, и только пять, где аналогичные результаты были у Иверса. Иными словами (все с той же точки зрения), республиканцев мало в областях, составляющих пятую часть штата, в то время как существенное количество демократов есть почти везде, включая округа с большинством у республиканцев. У 78 % висконсинцев, голосовавших за Скотта Уокера, представитель в Ассамблее штата – республиканец, и только у 48 % голосовавших за Иверса – демократ.
В обеих версиях такая асимметрия построенной кривой рассматривается как своеобразная характерная черта политической географии Висконсина. Но это не так. По сути, эта кривая была создана в 2011 году в незаметном помещении одной юридической фирмы Мэдисона группой помощников и консультантов, работающих на республиканских законодателей. Этот проект – часть национальных усилий[576] Республиканской партии по преобразованию результатов выборов 2010 года в благоприятные границы округов. Важна цифра 0 в конце числа 2010: именно в годы, которые делятся на 10, Соединенные Штаты проводят перепись, которая предоставляет новую официальную статистику населения, поскольку вследствие естественных потоков мигрирующих людей одни избирательные округа становятся больше других. Это означает необходимость создавать новые округа, и приверженцы той или иной партии борются за право делать это самим. В предыдущие годы переписей сохранялся баланс: каждая партия контролировала либо законодательное собрание Висконсина, либо пост губернатора, поэтому закон о новой карте округов должен был удовлетворять обе стороны. На практике это означало, что ни одну из карт нельзя было принять в виде закона, так что этой работой занимались суды. В 2010 году ситуация изменилась: у республиканцев было большинство в обеих палатах, и свежеиспеченный губернатор-республиканец Скотт Уокер вознамерился устанавливать правила на следующие десять лет выборов еще до того, как повесил новые шторы в кабинете. Что могло удержать партию от извлечения максимальной политической выгоды? Разве что чувство приличия.
Но эта история не о триумфе норм приличия.
Составители карты для Висконсина обязались сохранять полную секретность. Даже законодателям-республиканцам показали только их собственный предполагаемый округ и запретили обсуждать увиденное с коллегами. Демократы не видели вообще ничего. Вся карта целиком находилась под грифом «секретно» и стала известной только за неделю до того, как законодательное собрание сделало ее законом штата (Акт 43); голосование прошло в соответствии с партийным разделением[577].
Картографы в течение нескольких месяцев старались составить карту, максимально отвечающую интересам республиканцев. Среди них был и Джозеф Хендрик, не новичок в этой игре. Как-то он сказал одному интервьюеру: «Любое крупное решение в моей жизни принималось на фоне желания баллотироваться в ассамблею штата». Впервые он выдвинул свою кандидатуру в северном округе, еще будучи двадцатилетним студентом колледжа. Его кампания ориентировалась на данные, что было необычно для середины 1980-х годов: он создал диаграмму всех участков, чтобы определить, где действующий политик-демократ превзошел оппонента, и провел для этих избирателей мощную идеологическую кампанию, касающуюся налогов и прав на рыбную ловлю для индейцев (он был против и того и другого). Здравый смысл говорил, что юнец из колледжа не может победить популярного действующего политика, и здравый смысл оказался прав. Однако эта гонка[578] сделала Хендрика перспективной фигурой в республиканской политике штата, и позднее он отработал в ассамблее три срока. К 2011 году он уже не занимал никакой выборной должности, а консультировал законодателей штата. «Что мне нравится в кампаниях больше всего, – признался однажды Хендрик, – так это планирование стратегии и разработка плана игры». В задней комнате юридической фирмы он погрузился как раз в то занятие, которое любил больше всего.