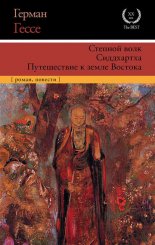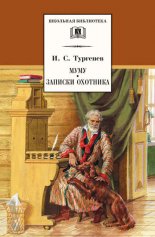Белеет парус одинокий. Тетралогия Катаев Валентин

«Да, это наше боевое знамя — флаг корабля, — сказали глаза матроса. — Возьми его. Я тебе верю».
Петя обеими руками взял полотнище. Он понял все, что произошло. Понял, что был страшный, последний бой на подступах к городу, что матросы держались до последнего человека, что этот матрос был смертельно ранен и, спасая флаг корабля, полз по степи до тех пор, пока не дополз до хаты. Собрав последние силы, он постучал в окошко, а теперь умирал и, умирая, передавал флаг корабля ему, Пете, с тем чтобы он сохранил его. И в то же время Петя уловил в глазах матроса мелькнувшее сомнение. Кровь прилила к щекам мальчика, на ресницах закипели слезы обиды.
— Я… — сказал Петя с усилием, чувствуя, как у него сжимается горло. — И я вам даю… — Голос его дрогнул совсем по-детски и оборвался. — И я клянусь… Честное пионерское, честное под салютом…
Петя косо поднял над головой задрожавшую руку. От смятого, продранного осколками флага пахло пороховой гарью, жженым гребнем, потом и еще чем-то душным, железистым. Слезы хлынули из глаз мальчика. Он плакал порывисто, злобно, не стесняясь своих слез, и вытирал мокрое лицо флагом, чувствуя на губах тот солоноватый железистый вкус и понимая, что это вкус высыхающей крови. Сквозь слезы он увидел, что матрос с нечеловеческим усилием сделал какое-то движение. Петя сейчас же понял, что матрос тянется лицом к флагу. Мальчик обеими руками протянул ему полотнище, и матрос припал к нему губами. Его грудь высоко поднялась и уже больше не опустилась. Она так и осталась навсегда, туго обтянутая тельником под рваной гимнастеркой с оттопыренным застегнутым нагрудным карманчиком. Остановившиеся глаза матроса были полузакрыты и как будто немного искоса смотрели на этот карманчик.
И Петя понял значение этого остекленевшего взгляда. Он с трудом отстегнул ледяными пальцами латунную пуговичку с пятиконечной звездой и вынул из кармана небольшую книжечку в пропотевшем картонном переплете — комсомольский билет, из которого выглядывала бумажка. Петя вытащил ее и прочитал при свете все того же непонятного зарева слова, крупно и поспешно написанные химическим карандашом:
«Умираю за честь и славу Родины. К сожалению, не успел перейти в партию. Прошу считать меня членом великой Коммунистической партии. Смерть фашистским захватчикам! Да здравствует коммунизм! Комсомолец Лавров Николай».
Петя посмотрел на краснофлотца Николая Лаврова и понял, что он мертв. Но мальчик не испугался этого. Он быстро, но без суетливости, со странным спокойствием положил комсомольский билет и записку в карман, отвинтил с гимнастерки краснофлотца Лаврова комсомольский значок и тоже спрятал его в карман, затем распахнул полушубок, расстегнул пиджачок и, подсунув под него флаг корабля, аккуратно обернул его вокруг своего туловища. Петя тщательно застегнулся, оглядел себя со всех сторон и решительно вытер рукавом ветхого полушубка мокрое лицо.
9. Круглое зеркальце
Только теперь мальчик обратил внимание на странное зарево. Оно то опадало, то поднималось высоко вверх, беспокойно отражаясь в низко бегущих ночных тучах. Что-то горело на берегу, под обрывами. Петя подошел к спуску и посмотрел вниз. Он увидел несколько дымных багровых костров, пылавших в ряд, близко друг от друга, быстро и яростно. В этих кострах светились ребристые скелеты горящих лодок. Трескучие искры снопами вылетали из черного дыма, который, крутясь, боролся с угрюмыми вихрями пламени, красными, как стручковый перец. То одолевал дым, то одолевало чистое пламя, то они смешивались. Тогда мальчику представлялось, что они валят и шатают друг друга из стороны в сторону, как два враждебных существа — одно красное, другое черное. Но вот наконец красное одолело. Чистый огонь поглотил дым и сильно вырвался вверх. Он ярко осветил прибрежный песок, волны с гривами пены и глинистую стену обрывов со всеми их подробностями: с черными следами старых рыбачьих костров, с пещерами, с гнездами морских птиц. Петя увидел Матрену Терентьевну и Валентину, которые, заслоняясь локтями от огня и дыма, бегали вокруг пылающей ребристой груды.
Было что-то мрачное, зловещее в этих двух маленьких, великолепно освещенных фигурках, которые на фоне непроглядно черной ночи быстро, но неторопливо делали какое-то нелегкое дело. И мальчик в тот же миг понял, что они делают. Они уничтожали имущество артели «Буревестник». Они рубили лодки, ломали мачты, весла, рвали сети, обливали керосином и жгли…
Петя бросился к ним. Но они уже кончили свое дело и бежали ему навстречу, прыгая вверх по обвалившимся ступеням, вырезанным в глинистом обрыве.
— Ну, ты уже готов? — крикнула Валентина осипшим голосом, увидев мальчика.
— Готов!
— Так чего же ты здесь путаешься под ногами? Беги обратно, надо собираться.
Она говорила с ним, как с маленьким, — повелительно и властно. Но Петя принял это как должное, не обиделся. Валентина и ее мать напряженно дышали. Их лица, покрытые копотью, блестели от пота. От них едко пахло керосином. Их одежда была прожжена искрами. Слезы, смешанные с потом, катились по черному лицу Матрены Терентьевны. На нем было написано такое отчаяние, такое глубокое горе, что у мальчика невольно сжалось горло…
— Такое несчастье, такое несчастье… — бормотала она про себя, утирая рукавом морщинистые щеки и сморкаясь. — Господи боже, вы только подумайте, сколько погибает колхозного имущества! Люди работали, наживали… Едва-едва колхоз стал как следует на ноги, как — на` тебе!.. Ничего!.. Все сгорело в один час…
Она протянула руку, посмотрела на них с горестным изумлением, как бы не в силах понять, что это она сама, этими самыми руками, уничтожила бесценное колхозное имущество, гордость ее мужа, гордость всех рыбаков, гордость всего района. Ее обессилевшие руки тяжело упали вдоль тела. Она села на глиняную ступеньку спуска, опустила голову и зарыдала.
— Мама, не смейте плакать! — со злобным отчаянием крикнула Валентина, делая усилие, чтобы не зарыдать самой. — Вы что — маленький ребенок, дитя? Перестаньте себя расстраивать. Неподходящее время.
Она замолчала, переводя дух, страшная, бледная, с большими глазами и раздувающимися ноздрями.
— Слышите, мама? — сказала она вдруг нежно и обняла мать за поникшие плечи. — Слышите, что я вам говорю? Вставайте. Надо идти.
Матрена Терентьевна не поднимала головы. Видимо, она собиралась с силами. Потом она устало поднялась на ноги, отряхнула юбку, махнула рукой и, не оглядываясь, быстро пошла к хате. Петя и Валентина едва поспевали за ней.
Краснофлотец Лавров Николай с поднятой грудью лежал у стены между порогом двери и окошком. Из-под него уже натекла большая темная лужа. Мать тревожно посмотрела на Валентину и Петю.
Мальчик рассказал все, но умолчал о флаге корабля. Он чувствовал себя связанным страшной молчаливой клятвой, нарушить которую было все равно что изменить родине. Это была священная и нерушимая клятва пионера. Нелепо и смешно было бы предположить, что Петя не доверял Валентине и ее матери. Он верил им всей душой. Они были сейчас для него самые близкие, родные люди. И все-таки могучая сила воинской присяги, которую пионер Петя молчаливо принял под салютом перед лицом умирающего бойца-комсомольца Николая Лаврова, охватила душу мальчика и властно приказала молчать.
Матрена Терентьевна опустилась на колени перед матросом и прижалась ухом к его высокой груди. Она долго слушала, надеясь уловить хотя бы слабое биение его сердца. Но сердце краснофлотца молчало. Не доверяя своему слуху, она сбегала в хату и принесла зеркальце. Она приложила его к сизым губам матроса. Она с жадностью всматривалась в поверхность стекла — не замутится ли оно, не появится ли на нем хотя бы самый маленький след дыхания. Но поверхность зеркала оставалась совершенно холодной и чистой. Тогда она осторожно, немного надавив большими пальцами, закрыла матросу веки и поцеловала его в лоб. Это роковое движение большими пальцами и это до отчаяния чистое зеркальце, холодно повторявшее беспокойно бегущее по тучам отражение догорающего огня, вдруг с необыкновенной силой подействовали на мальчика. Лишь сейчас, впервые, он не только понял умом, а все его существо безжалостно пронзило подлинное чувство смерти, ее потрясающей простоты.
Матроса похоронили тут же, недалеко от хаты, выкопав могилу лопатами, которые почему-то доставали с крыши, и Петя тоже копал. После того как матроса похоронили, он с Валентиной еще некоторое время ждал Матрену Терентьевну, собиравшую в комнате какие-то необходимые документы рыбколхоза. Наконец Матрена Терентьевна вышла из хаты, держа под мышкой громадный сверток бумаг. Петя даже заметил, что они были завернуты в порыжевшие листы газеты «Черноморская коммуна». Это было все, что осталось от колхоза «Буревестник». Когда они отошли на несколько десятков шагов от дома, Матрена Терентьевна вспомнила, что забыла что-то важное. Она положила сверток в бурьян, пошла в хатку и скоро вернулась с картонной коробочкой, оклеенной ракушками. Потом все трое в полной тьме, к которой еще не успели привыкнуть, пошли по степи.
Каким образом за их спиной загорелась хатка, Петя не помнил. Он только помнил, что хатка пылала, как костер, и опять в дыму и пламени боролись два существа — черное и красное.
Они шли через степь. Петя не знал, куда они идут. Они шли долго, торопились, и мальчик натер себе ноги большими башмаками, но он молчал и продолжал идти, неуклюже ковыляя. Потом они увидели несколько далеких пожаров. Это горели окраины Одессы: нефтесклады, лакокрасочный завод имени Ворошилова, элеваторы. Они пошли в направлении этих пожаров, мимо какой-то мелкой воды, в которой отражались зарево и искры, бушующие вверху.
10. Свидание с Синичкиным-Железным
В здание обкома попала авиационная бомба. Левое крыло обрушилось. Но самое здание — прекрасное старинное здание работы архитектора Боффо — хотя и дало во многих местах трещины, но все еще крепко держалось. Пострадал также и кабинет секретаря обкома. Его пришлось перевести в другую комнату, окнами на площадь Коммуны.
Не снимая пальто, в сапогах и противогазе, товарищ Черноиваненко, или, как мы его привыкли называть раньше, Гаврик, быстро вошел в этот новый кабинет за инструкциями и вышел из него часа через два.
Он прошел по бульвару, на минуту остановившись возле памятника Пушкину, на том самом месте, где некогда, во время боев с гайдамаками, у него был отрыт окопчик.
Только что поднявшееся над горизонтом темно-красное солнце угрюмо светило в узкую щель между грядой темных туч и еще более темным морем.
Оттуда порывами дул холодный, неприятный ветер. Несколько военных кораблей, окутанных плывущим туманом дымовой завесы, вели с рейда огонь через Жевахову гору по немецким и румынским молам.
Полотнища огня вылетали из орудийных стволов, отрывались и пропадали в дыму.
Тяжелое эхо катилось по воде, потрясенной залпами.
Трудно было отвести глаза от этой грозной, мрачной и все же чем-то прекрасной картины, которая напоминала Черноиваненко броненосец «Потемкин» и «Синоп», ведущий огонь по гайдамацким казармам, и французский военный корабль «Протей» с красным флагом восстания на мачте.
Теперь, стоя здесь и глядя в море на удаляющиеся к горизонту транспорты, Черноиваненко испытывал все сильнее и сильнее разгорающееся в его душе желание бороться.
Угрюмое, как раскаленный уголь, солнце медленно вошло в синюю низкую тучу, и море стало черным, как антрацит. Ветер стал еще порывистей, еще холодней. Пепельная тень подернула противоположный берег залива — Крыжановку, Дофиновку, Жевахову гору. Низкая полоса Пересыпи, едва возвышавшаяся над уровнем моря, была затянута дымом горящей нефти. Сквозь дым слабо проступали очертания заводов, эллингов, доков, а за ними, далеко в степи, за лиманами, над передним краем обороны, то там, то здесь вспухали черные шапки взрывов. Черноиваненко некоторое время молча смотрел в эту сторону. Там находились село Усатово и ход в катакомбы, куда ему вечером предстояло спуститься со своей группой.
Машина стояла в дальнем углу небольшого пустынного дворика с фонтаном посредине. Очевидно, в дворик недавно обвалился кусок стены соседнего дома. В воздухе еще стояла тонкая пыль известки. Упавшие камни почти докатились до автомобиля. Один из них даже сделал вмятину в крыле. На пилотке и на плечах водителя лежал густой слой желтой ракушечной пыли. Этот автомобиль был той самой машиной, на которой Колесничук привез отца и сына Бачей с аэродрома на свою «виллу». Каким образом автомобиль попал к Черноиваненко, понять нетрудно. После того как машину вместе с ее водителем и конструктором Святославом мобилизовали в армию, она несколько раз переходила из рук в руки, пока, наконец, не попала в автобазу военного отдела обкома, откуда ее и получил в свое распоряжение Черноиваненко.
Конечно, он мог бы выбрать себе что-нибудь более приличное. Но он выбрал именно эту машину. Решающую роль в выборе сыграла не машина, а человек. И в этом проявилась одна очень важная черта Черноиваненко — постоянная уверенность в преимуществе человека над вещью, хотя бы даже такой умной, как автомобиль. Ему с первого взгляда понравился Святослав. Черноиваненко проникся доверием к этому молодому человеку с невозмутимым, даже несколько высокомерным выражением мальчишеского лица. Он сразу почувствовал в нем что-то неуловимо родственное, почти сыновнее. Черноиваненко, разумеется, ничем не выразил своего чувства. Внешне он остался равнодушен, как и подобало настоящему черноморцу. Он только отпустил несколько иронических замечаний по поводу машины, и она вместе со своим водителем Святославом поступила в полное распоряжение Черноиваненко, который не ошибся в выборе. В умных руках Святослава машина работала в те критические дни замечательно. А сам Святослав превзошел все ожидания. Он оказался не только превосходным водителем и механиком, но главное — неутомимым, преданным помощником Черноиваненко.
В эти дни все рабочие и служащие перешли на казарменное положение, то есть жили при своих предприятиях и учреждениях, неся круглосуточное дежурство каждый на своем посту. Святослав жил в машине. Он всегда был молчалив, подтянут, несколько сух и, как это ни странно, всегда чисто вымыт, выбрит «с одеколоном» и причесан. Он был в военной форме, с противогазом, и его винтовка была аккуратно приторочена к внутренней стороне брезентовой крыши автомобиля. На нем была летняя, всегда чисто выстиранная пилотка, выгоревшая добела, но очень аккуратная и надетая на правую сторону, но не ухарски, а ровно настолько, насколько это предписывалось правилами. Его грудь теперь скромно украшал лишь один маленький комсомольский значок. В общем, он имел вид аккуратного и старательного молодого солдата, каковым он на самом деле и был.
Что касается самой машины, то она имела подчеркнуто военный вид. Она была закамуфлирована под цвет окружающей местности. Святослав сам раскрашивал ее, проявляя при этом необыкновенную изобретательность и недюжинный талант пейзажиста. Первый раз, летом, он расписал ее кудрявой зеленью акаций и резкими тенями домов. На брезентовой крыше он изобразил в ракурсе щели улиц, чешуйчатые площади, памятник Воронцову, черепичные крыши, синие куски моря. Осенью он внес соответствующие поправки; появились охра и киноварь листопада. Святослав готовился к зиме, приготовляя белила, бирюзу и жженую кость для изображения оголенных деревьев, но это было уже не нужно.
Когда Черноиваненко вошел во двор, Святослав сидел в машине и читал книжку, развернутую на баранке руля. Резким движением подобрав под себя пальто, Черноиваненко уселся рядом со Святославом и с силой захлопнул дверцу. Он некоторое время молчал, поглощенный какими-то расчетами. Он раскладывал в уме в строгом порядке, по степени важности, все вопросы и дела, которые предстояло решить и сделать в ближайшие же часы. Наконец он очнулся и сказал:
— Поехали.
Среди множества больших и малых дел, которые Черноиваненко предстояло переделать, было два очень серьезных дела, отмеченных в записной книжке: одно фамилией «Синичкин», другое — «Колесничук».
Товарищ Синичкин, или, как он теперь назывался, Синичкин-Железный, один из первых подал заявление о своем желании в случае необходимости перейти в подполье. Обком включил его в группу Черноиваненко. Для Черноиваненко это был золотой, незаменимый человек. У него был громадный революционный подпольный опыт. Черноиваненко должен был решить вопрос, брать ли с собой Синичкина-Железного в катакомбы или оставить его наверху, в городе, для связи с населением района… Откладывать решение этого вопроса Черноиваненко больше не мог.
Другой вопрос касался Колесничука, при помощи которого Черноиваненко предполагал устроить в центре города явку под видом комиссионного магазина. План этот, одобренный и утвержденный обкомом, Черноиваненко разработал уже довольно давно. За последние дни он несколько раз встречался с Колесничуком, и тот в принципе дал свое согласие. Но дело осложнялось тем, что до сих пор еще не эвакуировалась жена Колесничука, а в ее присутствии трудно было что-нибудь предпринять. Теперь, по расчетам Черноиваненко, она уже, вероятно, уехала. Нужно было не откладывая повидаться с Колесничуком, окончательно договориться.
Черноиваненко велел Святославу сперва ехать к Синичкину-Железному, на судоремонтный завод.
Проезжая по Пролетарскому бульвару, Черноиваненко увидел дом, где находилась его квартира, в которую он не заглядывал уже месяца полтора. Нужно было непременно зайти, взять кой-какие необходимые вещи и уничтожить ряд документов. Но в последнюю минуту он передумал. Это можно сделать потом, на обратном пути. И он проехал мимо, заметив, что на его балконе в ящике еще цветут запоздалые настурции и что одно из окон распахнуто, сломанная рама косо висит на одной петле и ветер треплет вылетевшую наружу полотняную портьеру.
Воздух по-прежнему все время содрогался от звуков артиллерийской пальбы. По небу гряда за грядой шли серые, низкие тучи; летели желтые листья; на перекрестках стояли пикеты. Но прибавилось еще что-то новое, грозное. Черноиваненко не сразу понял, что это такое. Неуловимая подробность, которая все время тревожила напоминанием о наступающей беде. И вдруг он понял: это были новые, белые, только что расклеенные по городу листки последнего воззвания обкома к населению.
Все вокруг носило следы обороны: разрушенные дома, обгорелые стропила, согнутые взрывами трамвайные столбы, заросшие бурьяном скверы и палисадники, наконец, баррикады поперек улиц, сложенные из мешков с землей, из брусчатки разобранных мостовых, из опрокинутых трамвайных вагонов. На Дерибасовской улице баррикада из наваленной конторской мебели — тяжелых столов, диванов, книжных шкафов, кожаных массивных кресел. Витрины угловых магазинов были наскоро заложены кирпичом, с узкими амбразурами для пулеметов. В иных местах высокие насыпи баррикад поросли бурьяном, и наверху были уже протоптаны пешеходные тропинки. Всюду блестели кучи битого стекла и черепицы. Требовалась большая сноровка, чтобы проехать через город. То и дело Святославу приходилось объезжать траншеи, прыгать по ухабам развороченной мостовой, вести машину через проходные дворы с высохшими фонтанами, поломанными внутренними галереями, кадками фикусов и цветущих нежно-розовых олеандров, с рядами пустых ведер, бидонов, банок и бутылок возле сухих водосточных труб, в которые население собирало дождевую воду, так как Беляевская водопроводная станция давно уже была захвачена врагом. И все это в соединении с резким ветром, темным, низким небом, как бы движущимся над обгорелыми крышами беспрерывной утомительной канонадой, сотрясавшей в домах остатки стекол, — все это имело для Черноиваненко уже совсем другой, новый смысл.
Черноиваненко знал, что именно сейчас, в эти последние часы, во всех районах города незаметно совершается переход на подпольное положение множества групп и отдельных людей, которые, по законам конспирации, ничего не знают и не должны знать друг о друге, но которые призваны делать одно и то же благородное дело.
Машина въехала во двор — громадный, пустынный, заваленный ржавой заводской рухлядью, обрезками металла и старыми станками, не вывезенными во время эвакуации. В это время в самом отдаленном углу двора, за инструментальным цехом, раздался не слишком сильный взрыв, вылетело желто-белое облако дыма. Из-за угла цеха выбежали несколько человек, среди которых Черноиваненко узнал нескладную, длинную фигуру старика Синичкина-Железного. Его лицо было запачкано копотью, рукав старого черного пальто разорвался по шву, люстриновая кепка с пуговичкой покрыта кирпичной пылью. Покрасневшие, опухшие глаза сухо блестели.
— Поразительное головотяпство! — сказал он глухим, как из бочки, голосом и тяжело, неодобрительно откашлялся. — Оборудование вывезли, а всю электропроводку и трубы компрессорной установки оставили. Вторые сутки режем в цехах провода и подрываем ручными гранатами сеть для подачи сжатого воздуха… Вы ко мне?
— Да. Сегодня ночью состоялось решение обкома по нашему вопросу. Группа утверждена как подпольный райком. Что касается персонально вас, то я, как первый секретарь райкома, должен безотлагательно решить, как вас использовать наиболее толково. Хочу с вами посоветоваться.
— А именно? — подозрительно нахмурился Синичкин-Железный. — Неясно.
— Имеется два предложения: либо вы сегодня ночью переходите с нами в Усатовские катакомбы, либо временно остаетесь в городе для связи с населением и сбора информации. И то и другое очень важно. Ваше мнение?
Синичкин-Железный еще более нахмурился, испытующе, исподлобья посмотрел в глаза Черноиваненко, спросил:
— А ваше?
— Буду говорить с вами совершенно прямо, — решительно сказал Черноиваненко.
— Думаю, что никакого другого разговора между коммунистами в данной обстановке и быть не может, — поспешно сказал Синичкин-Железный.
Черноиваненко достаточно хорошо знал прямой характер Синичкина-Железного, не признававшего в отношениях между людьми ничего неясного, недоговоренного. В первых же словах Черноиваненко он почувствовал какую-то неясность и сразу насторожился.
— Буду говорить совершенно прямо, — повторил Черноиваненко. — Вы необходимы и в катакомбах, и здесь, наверху. Мне кажется, что в катакомбах вы даже более необходимы.
— Так в чем же дело?
— Дело в том, — сказал Черноиваненко терпеливо, стараясь быть как можно более деликатным, но в то же время и не терять твердости, — дело в том, что вы человек уже, так сказать, немолодой, не вполне здоровый…
— То есть, вы хотите сказать… — играя скулами и сдвинув брови, перебил его Синичкин-Железный.
Но Черноиваненко уже довольно решительно заметил:
— Позвольте мне кончить мою мысль. Я хочу сказать то, что я говорю. Вы человек больной, у вас слабые легкие, на вас может пагубно отразиться долговременное пребывание в сырых и темных штреках. Больше я ничего не имею в виду.
Синичкин-Железный некоторое время молчал, сердито покашливая, и лицо его становилось все более и более мрачным.
— Так вот что, дорогой товарищ Черноиваненко, — наконец сказал он, глядя в сторону, вниз. — Во-первых, спасибо за откровенность. А во-вторых, вы не правы во всех отношениях. И я не позволю!.. — вдруг крикнул Синичкин-Железный, но сделал над собой усилие, взял себя в руки и успокоился. — Я еще не собираюсь переходить на социальное обеспечение. Как вам известно, я еще пока работаю, и, говорят, работаю неплохо. Да, неплохо. Во всяком случае, командование вынесло мне благодарность за ремонт танков и за выпуск бронепоезда. А что касается моего здоровья, то это сильно преувеличено. Слабые легкие! — воскликнул он. — Мало ли что! Действительно, легкие были слабые. Но за последнее время подлечился. Вот у Максима Горького тоже были слабые легкие. Ну и что ж из этого? Горел, а не жил! А вы мне толкуете — легкие! Нет, уж это вы, будьте любезны, оставьте.
Черноиваненко смотрел на него, испытывая чувство восхищения. Что могло остановить такого человека, сломить его дух, заставить перестать работать и бороться?..
Вся жизнь Синичкина-Железного была связана с революцией. Несколько раз он сидел в тюрьме, бежал из ссылки. Его били в участках, на пересыльных пунктах. Он дрался за Советскую власть с гайдамаками, интервентами, немцами, Деникиным, Врангелем. Некоторое время он был членом революционного трибунала. Тогда к его фамилии прибавилась кличка — Железный. В то время его называли только Железный, без Синичкина. Товарищ Железный. Это была эпоха суровых и ясных слов: «Беспощадный», «Зоркий», «Бдительный». Он был Железный. Это имя очень подходило к нему. Даже в его внешности было много сходства с железом: высок, худ, темен лицом, как бы вечно покрытый синеватой окалиной. Даже чахоточный румянец сумрачно светил под этой синевой, как светится в кузне остывающая подкова. Даже его волосы, крутые, тяжелые, зачесанные крыльями, были серовато-синие, железного оттенка. Он был весь как бы выкован из железа.
Вдруг слабая лукавая улыбка скользнула под его усами. Он посмотрел на Черноиваненко через поднятое плечо одним глазом и сказал:
— Впрочем, суть дела не в том. Возможно, что климат Усатовских катакомб действительно не вполне полезен для моего здоровья. Но какие у вас основания, уважаемый товарищ секретарь, думать, что моей жизни будет угрожать меньшая опасность на поверхности земли, так сказать, в климатических условиях фашистский оккупации? Еще неизвестно, где найдешь, где потеряешь. Однако я надеюсь, что мы с вами отнюдь не обсуждаем здесь вопрос, как бы нам уклониться от риска умереть тем или другим способом, а наоборот — решаем вопрос, как бы заставить умереть возможно большее количество наших врагов. Партия призывает нас именно к этому. Так, знаете ли, давайте лучше решать с позиций не личных, а государственных, общенародных. Говорите: где я принесу наибольшую пользу делу?
Чувствуя в душе необыкновенное волнение и нежность к этому старому упрямому человеку, Черноиваненко обнял его за плечи и сказал приблизительно то же самое, что сказал ему самому на прощание секретарь обкома:
— Не мне вас учить, Николай Васильевич, старого большевика, опытного подпольщика. Решайте сами.
— Решать будете вы, — серьезно, даже строго произнес Синичкин-Железный. — Но если вам угодно выслушать мое мнение, то извольте. Руководить кадрами — это правильно. Но так как наши будущие кадры находятся главным образом именно здесь, на Пересыпи, на Молдаванке, в порту, то я считаю, что первое время мне необходимо остаться наверху. Тут я буду более полезен для дела. Я буду вашим, как бы сказать, полномочным представителем. Я буду вашими глазами, вашими ушами… А ежели понадобится, то и вашими руками, — прибавил он с серьезной улыбкой и, вытянув перед собой худые длинные руки, сделал пальцами крепкое, сжимающее движение. — Остальное — в зависимости от сложившейся обстановки, которую предсказать не берусь. Буду вам систематически докладывать о положении в городе, в особенности на Пересыпи и в районе порта. Годится?
Черноиваненко немного подумал и решительно сказал:
— Принято. Действуйте!
— Ну, вот видите, — миролюбиво заметил Синичкин-Железный. — А вы говорите — легкие!
Черноиваненко встал и протянул ему руку:
— Попрошу вас прибыть сегодня после наступления сумерек к северной стене Хаджибеевского парка. Там мы уточним явки, и я покажу вам ход в свое хозяйство. До свиданья.
Черноиваненко пошел к машине. Обернувшись в воротах, он увидел длинную фигуру Синичкина-Железного, шагавшего против ветра через двор, к сборочному цеху, за которым темнела полоса моря. Несколько человек — вероятно, его «кадры» — что-то делали возле стены цеха.
Свидание с Синичкиным-Железным возбуждающе подействовало на Черноиваненко, и он весело, бодро крикнул Святославу:
— На квартиру к Колесничуку!
11. Колесничуки
Дом, где жили Колесничуки, был пока цел, но недалеко разорвалась фугаска, и все стекла, а кое-где и рамы были наскоро заделаны картоном или фанерой. Дверь в переднюю Колесничуков была открыта настежь; по-видимому, ее нельзя было закрыть, так как она треснула и сорвалась с верхних петель. Несколько беспорядочных белых следов вело с площадки, расписанной помпейским орнаментом, в квартиру. Она казалась пустынной. Это была большая коммунальная квартира в старом, дореволюционном доме, из числа тех «доходных домов» конца XIX века, которые строились для богатых жильцов, состояли из «барских» квартир и были отделаны с претензией на роскошь. Вешалка была пуста. Очевидно, все жильцы уже выехали. Сквозняк гонял по зашарканному, нечищеному паркетному полу сор, обгорелые бумажки, стручки акаций.
— Кто-нибудь есть? — спросил Черноиваненко громко.
Ему никто не ответил. Он прошел, гулко стуча сапогами, вглубь темного пустынного коридора со старым велосипедом на стене — туда, где на повороте, рядом с ванной и кухней, находились две смежные комнаты Колесничуков. Замка на двери не было. Черноиваненко распахнул дверь жестом хозяина.
Первый, кого он увидел при свете коптилки в сумраке этой неприбранной, запущенной комнаты с окнами, занавешенными черными бумажными листами, был сам Колесничук. Он сидел в шинели и фуражке перед столом без скатерти и быстро ел из котелка суп. На резном дубовом стуле с высокой плетеной спинкой висели полевая сумка, противогаз и пистолет. При виде этой знакомой, всегда такой аккуратной и уютной, а теперь такой жалкой, разоренной комнаты, где знакомые вещи и вещицы — приданое Раисы Львовны — были разбросаны, разбиты или сломаны, где на столе не было скатерти, где валялись окурки и обгорелые бумажки, где чадил дымный огонек коптилки и при особенно сильных взрывах сыпалась с потолка известь, сердце Черноиваненко на мгновение сжалось от острого чувства беды.
— Здорово, Жора! — быстро сказал он, не подавая Колесничуку руки, чтобы не отрывать его от еды.
— Здравствуй, — сказал Колесничук, с неестественным равнодушием взглянув на приятеля. — Присаживайся.
Черноиваненко спихнул со стула узел с приготовленными вещами и сел, положив перед собою на стол шапку.
— Супу хочешь? — монотонным голосом произнес Колесничук.
Черноиваненко посмотрел на него с удивлением:
— Что ты, милый человек, какой может быть суп? Я пришел окончательно договориться. Ты еще не раздумал? Твоя кандидатура уже утверждена директивными органами. Раису отправил?
— Тише! — прошептал Колесничук, сделав испуганные глаза, и показал головой на дверь в соседнюю комнату. — В том-то и дело, что Рая еще не уехала.
— А что случилось? — понижая голос, спросил Черноиваненко.
— Ничего не случилось. Что ты, женщин не знаешь? — сказал Колесничук одними губами. — Не хочет без меня уезжать.
— Так надо было ее уговорить! — с раздражением сказал Черноиваненко, чувствуя, что дело может сорваться.
— Попробуй уговори!
— Прямо удивительно!..
— Тише!
— Георгий, с кем ты разговариваешь? — послышался из соседней комнаты голос Раисы Львовны, и вслед за тем в дверях появилась она сама.
Ее голова была закутана теплой шалью. Виднелась лишь половина бледного, заплаканного лица с черным глазом. Она держалась одной рукой за висок, а другую прижимала к горлу. Увидев Черноиваненко, она быстро подошла к нему, с отчаянием протянула руку ладонью вверх и заплакала.
— Ты видишь, Гаврик, что делается? — сказала она, не здороваясь и судорожно глотая воздух. — Ты видишь?
— Три дня взрывал свои склады, — по-прежнему монотонно сказал Колесничук, как бы продолжая разговор. — Сегодня утром кончил. Ничего больше не осталось. Чисто. Ночью будем грузиться на транспорт.
— Да… — неопределенно заметил Черноиваненко.
— Извини, я даже забыла с тобой поздороваться, — сказала Раиса Львовна, продолжая смотреть на Черноиваненко неподвижным, заплаканным глазом. — Ты понимаешь?.. Ты понимаешь?..
— Я понимаю, — ответил тихо Черноиваненко и опустил голову.
Можно было понять все и без слов. Он понял, что это последний обед Колесничуков в родном доме. Он понял их душевное состояние. Он понял, как больно, как мучительно трудно они переживают оскорбительную необходимость бросить на произвол судьбы все, к чему они привыкли, и уйти из города, где они родились, где они любили, где были могилы их родителей и их умерших детей. Он понимал и те сравнительно маленькие, но все же такие законные и сильные человеческие чувства, ту обиду, которую испытывали они, в особенности Раиса Львовна, от необходимости расстаться со своим имуществом, честно нажитым за всю их долгую совместную жизнь.
— А я думал, что ты уже давно уехала, — после тягостного молчания сказал Черноиваненко.
Раиса Львовна подошла к Колесничуку, положила голову на его плечо и вдруг тревожно, подозрительно посмотрела на Черноиваненко.
Черноиваненко понял, что дело осложняется.
— Раечка, — сказал он как можно более мягко и вместе с тем твердо, — выйди на некоторое время из комнаты. У нас важное дело.
Увидев серьезное лицо своего мужа и решительное Черноиваненко, Раиса Львовна вдруг почувствовала всем своим существом приближение какой-то большой новой опасности, значения которой она еще не понимала, но уже твердо знала, что эта опасность угрожает и ее Жоре, и ей, и всей их жизни.
— Ничего подобного, — сказала она быстро. Она слишком давно и слишком хорошо знала Черноиваненко. Она не могла не понимать, что внезапное появление его в эту роковую минуту в их доме означало нечто очень значительное и очень грозное. — Ничего подобного, — сказала она, глядя прямо и вызывающе в глаза Черноиваненко. — Я не признаю никаких секретов. Можешь говорить при мне. Я его жена.
Она еще ближе придвинулась к Колесничуку и обняла его за плечи. Черноиваненко понял, что уговаривать ее бесполезно, на это должно уйти слишком много времени, а сейчас была драгоценна каждая минута. Но не в характере Черноиваненко было отступать. Он прошелся туда и назад по комнате, остановился перед Раисой Львовной и сказал решительно:
— Хорошо. Согласен. Ты его жена, и ты имеешь право до конца делить жизнь со своим мужем. Ты этого требуешь, и, если хочешь знать, я тебя за это крепко люблю и уважаю. Но пойми, Раиса, что бывают такие обстоятельства, когда…
— Постой, — быстро перебила она его, — ничего больше не говори. Ты правильно понял. Я требую. Именно — требую! Это мое право! И я никуда отсюда не уйду. Как угодно! Или, может быть, ты мне в чем-то не доверяешь? — спросила она, продолжая пристально всматриваться в лицо Черноиваненко.
Сказать, что он ей не доверяет, значило бы оскорбить ее. Оскорбить грубо, а главное — совершенно незаслуженно. Черноиваненко давно знал Раису Львовну, знал всю ее жизнь, знал, что она хороший, честный человек, и он не имел никаких оснований ей не доверять.
— Нет, я тебе доверяю, — несколько помедлив, сказал Черноиваненко, как бы взвешивая каждое слово. — Я тебе доверяю. Надеюсь, ты понимаешь, что` я этим хочу сказать?
Раиса Львовна посмотрела на Черноиваненко, и ее обдало холодным предчувствием.
— Понимаю, — тихо проговорила она. — Что же тебе от нас надо? Что ты с ним хочешь сделать?
— Он должен остаться в городе, — сказал Черноиваненко твердо.
Одним движением она скинула с головы платок.
Черноиваненко подошел к окну и потянул за черную бумажную штору светомаскировки, изношенную и изодранную, державшуюся на двух гвоздях. Штора оторвалась и упала. В комнату влетел ветер и погасил коптилку.
При белом, дневном освещении комната со старым пианино, отодвинутым от стены, с пустой этажеркой, с вазочками, статуэтками и книгами, которые в беспорядке загромождали грязный паркет, имела еще более отчаянный, как бы неприкаянный вид. Среди этого беспорядка и странной тишины особенно зловеще звучал мрачный рокот артиллерии, и до оскомины омерзительно, точно кто-то все время тупо, с нажимом, писал на мокром стекле пальцем большое, прописное «О», где-то высоко в небе визжали на разные лады — от самых высоких, нестерпимо острых, до низких, тошнотворно басовых — истребители.
Теперь то, что сказал Черноиваненко, приобретало новый смысл — гораздо более глубокий, обширный и грозный, чем это казалось минуту назад, при темном свете коптилки и сумраке пустой, брошенной жильцами коммунальной квартиры. И Раиса Львовна совершенно ясно поняла этот смысл. Она поняла, что в их жизни происходит резкая перемена, что они стоят на пороге какого-то совершенно нового бытия, ничего общего не имеющего ни с этой квартирой, ни с этими привычными вещами, ни с привычными представлениями о самих себе, — одним словом, ни с чем прошлым. Со всей глубиной и ясностью она поняла, что это к ним вошел не просто Гаврик Черноиваненко, старый их друг, а это к ним пришла сама партия, сама родина, которая сказала Колесничуку так же просто, как она сказала тысячам и миллионам людей в эти страшные дни: «Ты мне нужен. Я тебя беру». И сказала не только это, а как бы сказала еще: «Я беру тебя потому, что ты старый, верный друг, потому, что я верю тебе, потому, что на тебя можно положиться».
— Он должен остаться в городе, — повторил Черноиваненко.
— Георгий, это правда? — еле слышно спросила она.
— Ты же слышала, Раечка, — совсем просто сказал Колесничук.
Она стояла близко возле него, сильно побледневшая, перебирая ледяными пальцами бахрому платка, упавшего на стул.
— Он же беспартийный, — с робостью сказала она.
— Вот это именно нам и требуется, — ответил Черноиваненко. — Нехай беспартийный. Тем и лучше. Бухгалтер, беспартийный, русский, — стал он загибать пальцы, — немолодой, окончил гимназию до Октябрьской революции, бывший прапорщик, ничем, с их точки зрения, не запятнанный…
Черноиваненко вдруг замолчал, пораженный выражением лица Раисы Львовны. Оно было неподвижно. Открытые глаза, несмотря на всю свою черноту, казались прозрачными и смотрели будто сквозь предметы в какую-то таинственную, неизмеримую даль. Горькая, сухая, но решительная складка лежала вокруг ее распухших губ.
— А я? — сказала она очень ровным, почти монотонным голосом, не изменяя выражения неподвижного лица. — А меня куда вы денете?
— А ты — на военном транспорте… В тыл.
Ни направление ее прямого взгляда, ни выражение лица не изменилось. Она по-прежнему стояла совершенно неподвижно, как каменная.
— Значит, Жора останется здесь, а я уеду на военном транспорте? — сказала она тем же голосом — монотонным и ужасным в своей безжизненной монотонности.
— Ты же сама понимаешь… — смущенно пробормотал Колесничук и покраснел.
Да, она понимала. Она слишком хорошо понимала, что остаться с мужем в городе, занятом фашистами, для нее невозможно. Хотя она и носила фамилию Колесничук, но все же она была еврейка, и скрыть это было невозможно. Сделав усилие, она сбросила с себя оцепенение и очень пристально посмотрела в глаза мужу.
— А как же иначе? — осторожно сказал Колесничук, беря ее за руку. — Как же иначе, Раечка?
Она с силой отняла свою руку, отошла на шаг назад и вдруг рванулась вперед, обхватила и стиснула его голову.
— Вы не смеете… ты не можешь… никто не смеет!
Она беспорядочно забормотала, выкрикивая отдельные слова, не имеющие между собой никакой связи. Интендантская фуражка свалилась на пол и покатилась. Раиса Львовна покрывала поцелуями взъерошенную голову Колесничука, его поредевшие волосы.
Черноиваненко слишком хорошо знал ее характер, чтобы не ожидать сопротивления, но он никак не мог предположить, что в этой добродушной женщине может оказаться столько страсти, столько сумасшедшего упорства. Он сразу понял: перед ним встало непреодолимое препятствие женской любви и верности. Но и здесь он не захотел отступать.
— Успокойся, Раиса, — терпеливо, почти ласково сказал он. — Сейчас мы это все обдумаем… Сядь, успокойся.
Он отвел ее от Колесничука и почти силой заставил сесть.
В конце концов она, так же как и Колесничук, была его старым другом, еще со времен гражданской войны. Она вышла замуж за скромного, солидного, лишенного фантазии Колесничука. Они очень любили друг друга. И они прекрасно жили простой, обыкновенной, даже, может быть, немного скучноватой человеческой жизнью. Были в их жизни радости, были и печали.
Гаврик любил ее так же, как он любил ее мужа. Он ей верил. Он знал, что она попросту и без всяких хитростей «хороший человек». А это в глазах Гаврика было, быть может, самое ценное качество. И, немного подумав, Черноиваненко принял смелое решение.
— Слушай, — сказал он и озабоченно наморщил лоб, — если хочешь, я тебя тоже оформлю. Конечно, мы тебя не оставим наверху, а ты пойдешь в другое место.
Он энергично повернул свою маленькую крепкую руку, выставил большой палец, взвел его, как курок, и ткнул им вниз, в пол.
— Вниз, — сказал он со значением, с нажимом. — Понятно? Как ты на это смотришь?
Она ничего не ответила, только прикрыла глаза выпуклыми, порозовевшими веками с лазурными жилками и черными густыми ресницами, на которых еще переливались капельки. В эти тягостные, торопливые, последние дни перед эвакуацией хорошие люди научились понимать друг друга с полуслова, с одного взгляда. Если не умом, то сердцем Раиса Львовна тотчас поняла не только то, что Черноиваненко сказал, но также и то, чего он не сказал, не имел права пока сказать прямо, на что только намекнул. Может быть, она поняла даже больше того, что понял Колесничук. Она поняла, что в этот миг в ее жизни совершился решительный, неизбежный поворот и к прошлому уже дороги нет. И с этого мига она перестала бояться. Теперь, когда все стало ясно и определенно, ее душа как-то вся расширилась, окрепла. Раиса Львовна с облегчением почувствовала полную готовность делать то, что от нее требовалось, хотя она и не вполне еще понимала, что именно она должна была делать. С этого мига ее воля радостно и охотно подчинилась воле Черноиваненко. Она с легким сердцем оглядывала комнату, как бы прощаясь со своей прежней жизнью, с кафельной печкой с гипсовым серо-зеленым медальоном посредине, со старыми вещами и вещицами, с мебелью — со всем тем, что уже потеряло в ее глазах всякое значение и чего ей уже было не жаль.
12. Последняя ночь
Черноиваненко побывал на Одессе-товарной, где для его группы грузилось продовольствие, заехал затем на военный склад и лично проследил за получением боеприпасов, взрывчатки и шанцевого инструмента, получил в штабе Приморской армии обстановку, оформил оставление в тылу интенданта третьего ранга Колесничука и красноармейца Святослава Марченко в своем распоряжении, позвонил секретарю обкома по поводу перехода в катакомбы Раисы Львовны, переделал еще множество менее важных дел и в пятом часу вечера, наконец, подъехал к своему дому, поднялся на третий этаж, где находилась его квартира.
В темной лестничной клетке, на площадках, стояли ящики с песком, и на стенах, выкрашенных масляной краской под зеленый мрамор, висели громадные железные щипцы для борьбы с зажигательными бомбами, а также брезентовые пожарные шланги и пустые ведра. На дверях большинства квартир висели замки. Некоторые двери были распахнуты настежь, и сквозной ветер крутил в пустых комнатах, мел по коридорам клочки обгорелой бумаги и сор.
Из покосившегося ящика для писем торчало несколько старых номеров «Правды», журнал «Большевик» и клочок пожелтевшей бумаги, исписанной тупым карандашом. Он сразу узнал крупный, беспорядочный почерк своей племянницы Матрены Терентьевны Перепелицкой, или, попросту говоря, Моти, заходившей в его отсутствие. По-видимому, записка торчала здесь уже довольно давно. Он взял ее и, на ходу читая, вошел в квартиру. Мотя писала в своей обычной манере, торопясь передать лишь самое главное и пропуская подробности:
«Забегала к вам, хотела повидаться, понятно — не застала дома. У нас сейчас живет сынок нашего Петра Бачея, тоже Петя. Мы его вытащили из воды, покамест он болеет воспалением легких, но, будем надеяться, скоро поправится. Не знаю, как дальше поступить с ребенком. Сейчас на моих руках шаланды, сети, колхозные котлы. Шаланды, весла, паруса и все оборудование мобилизованы военным командованием и находятся на колхозном причале под моей ответственностью. В случае если придется отступать, жду приказа все это уничтожить, чтобы не попало в руки фашистов. А пока сидим у моря, ждем погоды, переживаем с Валентиной тяжелые дни, она вам кланяется, ужасно выросла за последние месяцы, возмужала, вы ее не узнаете. От Акима Петровича и мальчиков ничего не имею, надеюсь, что они живы и успешно сражаются за родину, но на каких фронтах, не знаю. Пожалуйста, дядя, если выберете свободный день, заскочите до нас повидаться, а то когда еще встретимся, неизвестно. Ах, какое тяжелое время, дядечка! Ну, желаю вам всего хорошего, а я уже побежала. Ваша Мотя».
Он сунул в карман это явно запоздавшее письмо и грустно улыбнулся. У него не было своей семьи. Он был однолюб, и он никогда не мог забыть свою Марину. Он был верен ее памяти. Семья Моти Перепелицкой — это, собственно, и была его настоящая, единственная семья, к которой он был привязан всем сердцем.
С нежным чувством он представил себе на миг Мотю, Валентину и всех других Перепелицких. Что касается упоминания о больном мальчике Пете Бачей, которого вытащили из воды, сыне друга его детства Петра Васильевича, то это хотя и заинтересовало его, но ничуть не удивило.
Между тем уже начинало темнеть. Надо было торопиться. Он вошел в свою комнату, выдвинул ящики письменного стола и стал отбирать бумаги, которые следовало уничтожить. Он разрывал их и бросал на кровать, с тем чтобы потом сжечь на кухне, в плите. На тумбочке возле кровати, рядом с электрическим никелированным чайником и будильником, стояла красивая широкая рамка с очень маленькой старой фотографической карточкой-молнией, на которой была снята совсем молоденькая темноглазая девушка, почти девочка, в шубке с потертым меховым воротником, в круглой финской шапочке, из-под которой выбивались кудрявые волосы.
Черноиваненко вынул эту карточку из рамки и прочитал на обороте: «Дорогому другу, любимому мужу Гаврику Черноиваненко, навсегда твоя Марина, Петроград, 1917 год».
Он поцеловал карточку и положил ее в записную книжку.
Некоторое время он смотрел в распахнутое окно. Далеко, за облетевшими садами, под темной дождевой тучей угрюмо светилась мутно-красная полоса заката, на фоне которой чернел силуэт Ботанической церкви со стаей грачей, поднимающейся и опускающейся, как сеть, над ее куполом. Артиллерийских залпов уже не слышалось. Над городом стояла странная тишина. Но с переднего края все же изредка еще доносилась довольно сильная ружейная и пулеметная стрельба.
Он быстро сбежал по лестнице вниз, в пустую котельную, при свете ручного электрического фонарика закопал книги и бумаги, завернутые в простыню, возле стены, забросал место шлаком, сел в машину.
Приближалась ночь — тревожная, непроглядная, со всей молчаливой неурядицей города, оставляемого эвакуирующейся армией.
Черноиваненко вместе с Колесничуком успел побывать в городском ломбарде, где на полках и столах во тьме при свете электрического фонарика и при зареве пожаров, светящихся в готических окнах, блестели и дрожали от взрывов самовары, швейные машины, патефоны, посуда, стенные часы с ноющими, трясущимися пружинами, как будто у них было сердцебиение, и множество тех предметов домашнего обихода, которые всегда кажутся незаменимыми и красивыми дома и которые приобретают в ломбарде и на толкучке жалкий вид никому не нужной рухляди, — отобрать вещи, необходимые для комиссионного магазина, наконец, в последний раз проверить подготовку материальной части, записать в книжечку количество винтовок, патронов, гранат, пистолетов, различного шанцевого инструмента, килограммов взрывчатки, — и в сгустившихся сумерках приказал Святославу ехать за город, в сторону Хаджибеевского парка.
В то время как одни люди вносили на плечах и пропихивали в узкую щель подземелья ящики, чемоданы, корзинки, жестянки, узлы, пакеты, бочки, оружие, несгораемый шкаф и прочее и складывали все на первых порах вдоль стен первой пещеры, рассчитывая потом перебазировать вглубь катакомб, — в это время солдаты комендантского взвода быстро и споро выносили из пещеры наверх штабное имущество, сматывали провода и снимали со стен висящие на колышках кожаные телефонные аппараты. Одни советские люди уходили, другие оставались. Это напоминало смену караулов.
— Товарищ секретарь, — сказал Святослав решительно, — разрешите обратиться!
Только сейчас Черноиваненко вспомнил о своем водителе. Святослав стоял перед ним по стойке «смирно», подобрав живот, с напряженным лицом и блестящими глазами. Решетчатая тень «летучей мыши» легонько двигалась вперед и назад по его стройной фигуре. Все его тело было немного наклонено, как бы готовое лететь по первому слову начальника. Черноиваненко сразу понял, что творится в душе этого юноши, который за последнее время стал ему так симпатичен, даже дорог. Вопрос о том, оставлять Святослава или не оставлять, был уже решен давно. Он так привык к этому решению, что даже как-то забыл сообщить о нем Святославу. Все казалось само собой понятным. Теперь же он увидел, что Святослав ждет от него словесного приказания.
— Разве я тебе не сказал? Странно. Значит, просто забыл. Так вот… стало быть, я тебя забираю из армии. Остаешься со мной… Рад?
Святослав глубоко набрал в себя воздух. Его грудь расширилась. Глаза блеснули. Он хотел ответить как можно спокойнее, но его голос по-мальчишески сорвался.
— Так точно! — сказал он хрипловато и перевел дух. — Не сомневайтесь, товарищ секретарь… я оправдаю.
— Ладно, не горячись, — заметил Черноиваненко, улыбаясь. — Действуй! — прибавил он, с особенным удовольствием выговаривая это энергичное, серьезное слово, которое в последние дни так часто на все лады повторялось множеством советских людей, готовившихся к борьбе с врагом, входившим в город.
Но Святослав продолжал неподвижно стоять перед Черноиваненко.
— По-моему, все, — сказал Черноиваненко.
— Товарищ секретарь, — ответил Святослав, — я, конечно, понимаю, что это… как бы сказать… не полагается, тем более что в городе такая острая ситуация… но…
Черноиваненко нахмурился:
— Ну?
— Но, знаете, у меня тут остается родная мать. И я бы хотел, если возможно, заскочить на пару минут попрощаться.
Черноиваненко нахмурился еще больше:
— Когда вспомнил!
— Так вы же сами знаете, товарищ секретарь, что я уже целый месяц нахожусь на казарменном положении, безотлучно при автомобиле.
— Все-таки надо было раньше соображать, — сказал Черноиваненко решительно. — Теперь я даже не знаю…
Святослав потупился:
— Виноват.
Вслед за тем он сделал усилие, как бы стараясь стряхнуть со своей души тяжелый груз, но не сумел его стряхнуть, а только еще больше вытянулся и прямо посмотрел в глаза своему начальнику:
— Разрешите заниматься своим делом?
— Подожди.
Черноиваненко задумался, помолчал.
— Мама твоя далеко живет?
— Да господи же! — закричал Святослав, забывая на миг всякую субординацию. — Рядом! На хорошей машине туда и обратно двадцать минут.
— Где именно?
— За Пересыпью. В самом начале Лузановской дороги. Разрешите?
Хотя при настоящей неопределенной обстановке отпускать человека по личному делу из отряда в город и противоречило всем правилам конспирации, тем не менее, увидев так отчаянно и так просительно блестевшие глаза Святослава, Черноиваненко не мог лишить его свидания с матерью, которое в конце концов могло оказаться последним свиданием. Тем более что отсюда до Лузановской дороги было действительно совсем недалеко. Черноиваненко это хорошо знал, так как в тех же местах жила зимой его племянница Мотя Перепелицкая.
Подумав о Матрене Терентьевне, Черноиваненко тут же вспомнил ее записку. Что сейчас делает Матрена Терентьевна? Вернее всего, она уже эвакуировалась из города на каком-нибудь транспорте вместе с Валентиной и Петей. Тогда все в порядке. А что, если она, до последней минуты охраняя имущество рыбколхоза, задержалась, не сумела пробиться в порт с детьми и вещами? Это тоже легко могло случиться. Черноиваненко слишком хорошо знал всю непрактичность Моти, когда дело касалось устройства своих личных дел, — черта, свойственная всем Черноиваненкам. Он представил себе ее, растерявшуюся, беспомощную, не сумевшую своевременно достать пропуск в порт и обеспечить себе транспорт. Как он не подумал об этом раньше! Он почувствовал сильнейшее беспокойство.
Однако Гаврик не мог проявить и слабость.
— Подожди, — сказал он и, шагнув к фонарю стал не торопясь перелистывать записную книжку. Он перелистал ее раз, потом еще раз, постукивая по страницам карандашиком и все более и более хмурясь.