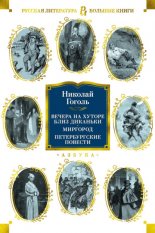Репортер Семенов Юлиан

Так я тебе и расслаблюсь, подумала я. Отец учил меня напрягать мышцы спины, когда становится трудно и настроение могильное. Стойка, говорит он, это костяк человека, в жизни самое важное ритм и стойка.
Тамара положила свою пухлую ладонь на мою руку, придвинувшись еще ближе.
А я смогла подумать: «Она чего-то боится. Она очень испугана». И подумала я об этом отчетливо и совершенно спокойно, и после этого до конца убедилась в правоте слов Ивана, что сейчас мне надо ей подыгрывать, я обязана стать податливой и медленно, чуть вяло, но в то же время четко отвечать на все ее вопросы. А в том, что она начнет меня спрашивать, я не сомневалась. И — не ошиблась.
— Ты уснула, девочка, — еще тише сказала Тома, — тебе спокойно и тихо, скажи мне теперь, маленькая, что у тебя на сердце камнем лежит?
— Любимый…
— А как его зовут?
— Иван, — ответила я очень медленно.
— А по профессии он кто?
— Репортер…
— Иван, говоришь? А фамилия у него какая?
— Варравин.
Я ощутила, как дрогнули толстые пальцы Тамары. Она придвинулась еще ближе:
— Яночка, птаха моя, так ведь он не любит тебя. Он только себя любит, бессердечный он, злой, выкинь его из памяти, не рви себе душу… Ты небось и домой к нему ходишь, да?
— Хожу.
— Принеси мне, что он пишет, я его почерк посмотрю да отведу от тебя, бедненькой.
— Принесу.
— А как батюшку твоего зовут?
— Владимир Федорович.
— Кто, ты говоришь, он по профессии?
— Врач.
— Значит, тебя как с именем-отчеством величать?
— Янина Владимировна…
— А матушка твоя где?
— С ним, где ж еще…
— В Томске?
— В Тобольске…
— А ее как зовут?
— Ксения Евгеньевна…
— Ты на кого больше похожа?
— На мать, — ответила я после некоторой паузы, потому что мне хотелось сказать ей правду, но отчего-то мне казалось, что именно эту правду я открывать ей не вправе.
— У тебя кто до Ивана был?
— Никого…
— Ах ты, бедненькая моя рыбонька, — Тома утешала меня деловито и заученно, не отводя тяжелого взгляда от моих зрачков. Она словно бы входила в меня своими глазами, не зря не люблю людей с мерцающим взглядом, в них есть что-то властное, демоническое. — Ничего, мы твоему горю поможем, мы накажем того, кто надругался над твоей чистой и доверчивой любовью… Твоя боль сразу стихнет, свободной себя почувствуешь… Хочешь стать свободной?
— Хочу, чтоб он со мной был.
Тома подошла еще ближе, так близко, что я ощутила тепло ее лица:
— А зачем ты себя Яной называешь, деточка, когда ты есть Лиза Нарышкина? Тебя кто этому подучил?
И я ответила:
— Иван Варравин.
XV
Я, Тихомиров Николай Михайлович
Самым сильным впечатлением моего детства был тот день, когда нам дали большую светлую комнату в квартире доктора Вайнберга. Это произошло на седьмой день после того, как немцы вошли в наш Свяжск и расстреляли всех евреев. Квартиры, где раньше жили райкомовцы и энкавэдисты, они заняли под офицерскую гостиницу, в исполкоме стала комендатура, в милиции разместилось СД, а квартиры евреев бургомистр Ивлиев распределил между теми, кто лишился крова после бомбежек.
Мы жили в бараке около станции, но он сгорел. Выкопали землянку. Там умер младший брат, Арсений, — воспаление легких, сгорел в три дня, лекарств не было, аптеки закрыты, больницу взяли под солдатский госпиталь, к кому обратишься?!
После землянки двадцатиметровая комната, обставленная красным деревом, казалась мне сказочным замком, я даже по паркету ходить боялся, не только башмаки снимал, но и носки, ступал на цыпочках.
Второй раз я испытал потрясение, когда бургомистр Ивлиев открыл занятия в школе. Нас построили на лужайке, где раньше стоял гипсовый бюст пионера. Ивлиев пришел с офицером, который понимал по-русски, и стал говорить с нами как с друзьями, не кричал и не делал замечаний.
— Вот мы и начинаем с вами учиться в школе, которую предоставили наши дорогие немецкие освободители, принесшие нам спасение от большевистского ига. Вы еще маленькие, вы не понимаете, какой ужас пришлось пережить вашим родителям, бабушкам и дедушкам в ту пору, нашей многострадальной Родиной правили большевики, масоны и евреи. Раньше вас учили, что каждая нация, мол, хорошая, все люди братья, и все такое прочее. Да когда же русскому человеку жид пархатый был братом?! На занятиях в новой школе вы узнаете, что после октябрьского переворота на шею русскому человеку сел большевик, латыш, китаец и еврейский комиссар! Так или не так, дети?!
Света Каланичева пискнула:
— А у Марины папа комиссар, но ведь она русская…
— У какой Мариночки папа комиссар? — сразу же спросил немец.
— У Марины Цветковой, ее вместе с евреями расстреляли в овраге…
— Значит, не Цветковы они, — заметил Ивлиев, — а обыкновенные Блюмины… А по-неме… По-еврейски «блюмен» — значит «цветы»… Они маскировались, чтоб скрытно править народом… Сколько таких было «Рыбкиных», а они на самом деле «Фиши», всяких там «Горных», а они самые что ни на есть «Берги»…
— «Берг» — немецкая фамилия, — заметил немец. — Это не типично для евреев. Эйслеры, Фейхтвангеры, Левитаны, Чаплины, Пискаторы, Эренбурги, Блоки — понятно любому, — евреи, лишенные права на жизнь… Мы, солдаты великого фюрера Адольфа Гитлера, не боимся правды, потому что сражаемся за свободу человечества, за новый порядок на земле… Да, мы не боимся правды, и поэтому я скажу вам, дети, что мы знаем о тех разговорах, которые пока еще идут среди ваших родителей. Мы терпеливая нация, мы умеем ждать, но не очень долго. Понятно?
Ивлиев зааплодировал:
— Понятно, понятно! Ясней ясного, господин майор! У нас детишки смышленые! Ну-ка, дети, похлопаем нашему гостю…
Никто хлопать не стал, всех нас сковал холодный ужас, — хлопать фашисту, немцу проклятому…
Ивлиев подскочил к старшеклассникам, они стояли справа от нас, и стеганул пощечину Васе Кобрякову:
— Начинай! — крикнул Ивлиев. — Самый старший, а ума ни на грош!
Майор сказал:
— Не надо бить детей, господин бургомистр… Они были отравлены заразой интернационального большевизма… Их надо перевоспитывать лаской. До свиданья, дети. Я не обиделся на вас. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете нашу правоту…
…Потом в нашем городе стала выходить газета на русском языке. Редактором немцы привезли Григория Павловича Довгалева, он был раньше нашим соседом, работал на мясокомбинате. За месяц перед тем, как началась война, его посадили. Моих родителей вызвали на допрос, следователь здорово их трепал, — не перегружали ли они возле нашего барака по ночам мясо с одной полуторки на другую. Мама сказала, что скрип тормозов слыхала, а видеть ничего не видела. С милицией лучше дел не иметь, держись от власти подальше.
Потом выяснилось, что Довгалев хранил пятьдесят тысяч в сарае тети Глаши Чубукиной, под старыми дровами, собака нашла, милицейский пес с черной полосой на загривке.
Через десять дней после того, как пришли немцы, Довгалев вернулся домой как «политический», рассказал, что сражался против большевиков в подполье, вскоре исчез (говорили, в рейх, на курсы), а приехал через четыре месяца, чтобы издавать «Новое слово России».
В первом выпуске газеты он рассказал о героическом пути, пройденном великим фюрером Адольфом Гитлером, о его беспримерной борьбе против мирового большевизма, который есть демоническое зло, ниспосланное на землю злыми силами. Он писал о том замечательном порядке, который царствует в рейхе, как там дружно трудятся рабочие, предприниматели и крестьяне, — полная свобода и равенство, никаких тебе колхозов, и в лесу урночки для мусора стоят, не то что наши хляби.
На второй странице газеты Довгалев напечатал две главы из «Протокола сионских мудрецов» — тайный заговор евреев, желающих завоевать весь мир.
В послесловии — мама эту газету читала вслух, очень тихо, вечером, когда мы забирались под одеяло с Пашей Крупенковым (его бабушка работала в депо по ночам, оставляла внучка нам, дом не топили, буржуйки ставить не разрешала комендатура, только одна надежда на то, чтоб согреться под одеялом, а сверху еще дедову доху набрасывали), — Довгалев учил: «Наши предки, погубленные ленинскими большевиками, патриоты «Союза русского народа», уже в девятьсот десятом году писали: «Надо лишить жидов технических знаний, ремесленных, медицинских, фельдшерских, зубоврачебных, юридических и преградить им всякую возможность получать образование…» Мы этого сделать не смогли, и нас постиг разрушительный ужас революции… Это сделал Адольф Гитлер, спасший Европу от жидомасонов, мечтавших о мировом господстве… Посмотрите, как было построено фойе в нашем Дворце культуры? В форме шестиугольной звезды. Чей это знак? Жидов. Кто строил Дворец культуры? Архитектор Федоров, а на самом деле Федер, масон. А кто превратил в склад церковь на Успенье? Жидовские комиссары, кто же еще?!» Я помню, как мама охнула:
— Господи, да ведь это довгалевский племяш Юрка в ней склад обустроил! Чего ж он такое порет, господи?!
Все эти статьи, политинформации на уроках шли как бы мимо нас, были вчуже. Я горько плакал ночью по Вовке Какузину и Лене Сорц, которых убили с родителями в лесу, а я с ними дружил, тетя Лиля, мать Вовки, угощала нас леденцами, жили мы в одном бараке, двери напротив, ничего в них особенного не было, люди как люди, только мы сладкие творожники любили, а они — соленые, вот и вся разница.
А потом было еще одно потрясенье, когда немцы и полицаи нашего батюшку, отца Никодима, расстреляли, — он у себя в подвале трех евреев прятал и раненого комиссара Демьянченко.
После этого-то мы с Герой Куманьковым и написали на листочках старой бумаги — тетрадок не было, нам три штуки в месяц выдавали — «Смерть фашистским изуверам» и расклеили по заборам, когда шли с занятий. Темнело рано, но комендантского часа еще не было. А через два дня нас с Куманьком забрали в полицию.
Там нас сильно били, но физическая боль была не столь ужасной, сколь дикой казалась возможность завтра пойти по улицам босиком, через сугробы, как батюшка Никодим, и стать перед строем черных.
Потом заявился немец, обер, что ли, наших полицаев разогнал, только одного оставил, в немецкой форме со значком «РОА» на рукаве, и на своем жестяном русском — лучше б уж по-своему говорил через переводчика — тихо произнес:
— Тихомиров, ты обречен, но сначала на твоих глазах будет расстреляна мать.
В голове у меня зазвенело, тело резко потянуло вбок, потом почернело в глазах, и я обвалился в обморок.
Привели меня в себя нашатырем. Фашист сидел в той же позе, по-прежнему рассматривая свои квадратные ногти, а русский в немецкой форме был рядом со мной, поглаживал голову…
— У тебя есть спасение, — сказал он. — У тебя и твоей несчастной матери. Ты готов сделать то, что мы тебе скажем?
И я ответил:
— Да.
— Молодец, — сказал немец. — Умница.
Мне тогда исполнилось четырнадцать лет, сорок четвертый год, февраль.
Сразу после того как немцы бежали, мать подхватила меня, и мы пошли по большаку на восток, чтобы быть подальше от тех мест, где немцы меня опозорили перед нашим городком. Куманька расстреляли, потому что он отказался говорить на площади и подписать для газеты, что это его комиссары из лесу понудили сделать, а я…
Под Энгельсом у нас была родня, там мы и осели, благо стояло много свободных домов, с тех еще пор, как раскассировали республику и всех немцев выселили в Казахстан.
Когда пришло время получать паспорт, мать-покойница, пусть ей земля будет пухом, пошла со мной в отделение: «Отец нас бросил, когда я еще беременная была, прошу дать юноше мою фамилию». Так я и стал Тихомировым, а то быть бы мне Крыловским, а ведь батя мой с рыбацкой шаландой в Турцию ушел, с тех пор ни слуху ни духу…
Он не был — мать говорила — ни антисоветчиком каким, ни белым, ни кулаком, просто хотел работать так, как умел, а ему не давали: сюда сунешься — «представь справку», туда — «а кто разрешил?». Запил мой батя, которого я и в глаза не видел, а потом жахнул шапку оземь да и ушел за счастьем, обещал: если обустроится, даст знать, но весточек от него не было, а может, не передавали их нам, время-то крутое, начало тридцатых, массовая коллективизация, карточная система, голод, нехватка жилья — по три семьи в одной комнате ютились, такое из памяти колом не вышибешь. Вообще-то детское — самое что ни на есть въедливое в человеке, неистребимое… С тех пор, например, как «тарелка» — мы так репродуктор называли — сообщила о перелете Валерия Чкалова через Северный полюс, я заболел мечтою стать летчиком. Неважно каким — военным, полярным, гражданским, — но только б поднимать в небо аэропланы.
И когда я кончил школу — а кончил я ее с серебряной медалью, — сразу же отправил документы в летное училище.
Меня вызвали на собеседование. Седой майор Левантович Михаил Григорьевич спросил, отчего я так хочу в небо, летал ли когда на самолете, видел ли хоть один авиапарад, кого из дважды Героев Великой Отечественной — сталинских соколов — могу назвать по памяти (я назвал всех), дал заполнять анкеты. Я вышел из классной комнаты счастливым, сел в зал, где толпились абитуриенты, и, подвинув себе чернильницу, стал писать ответы на вопросы… И сразу же споткнулся: «Меняли ли фамилию, если «да», то где, когда и с какой целью». Я почувствовал, как у меня кровь прилила к щекам, а пальцы, наоборот, похолодели. Перелистав пятистраничную анкету, понял, что пропал, увидав такие вопросы: «Имеете ли родственников за границей, если «да», то где, с какого времени они там проживают, подробный адрес и профессия» и «Находились ли вы на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками, если «да», то с какого времени и подробный адрес проживания».
Я скатал анкету в трубочку и выскользнул из гудящего зала: пошел в парк культуры, что на берегу реки, купил за тридцатку «эскимо», сел на скамейку, крашенную зеленой масляной краской. Кто-то положил газеты, их смыло дождем, но остались целые строчки и заголовки на дереве. Один я прочитал: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц!» — и крепко задумался.
Любопытно, сейчас уже, анализируя себя со стороны (этот прибабашенный Штык, по словам Никитича, парит, рассматривая предметы с высоты, мы с ним похожи в этом), я пришел к странному выводу: наша особость проявляется в том, что мы разнимся даже от предков, арийцев седой старины. Праотцы жили вне понимания важности прошлого: при том, что они славились математиками, философами, архитекторами, их совершенно не интересовало то, что было перед ними. Поэтому ни Греция, ни Рим не знали такой, например, науки, как археология. Там не существовало и устремления в будущее: летосчисление вели только по Олимпиадам, да и это было данью плебсу, который жаждал зрелищ. Практически время для древних не существовало, и, когда Цезарь решил создать свой календарь, его противники увидели в этом скрытый ход к установлению в Риме династической империи, а ведь любая империя прежде всего чтит время, потому что в нем выражена идея длительности правления династии. Кстати, именно из-за этого убили Цезаря, — нельзя дерзать на традиции. Даже если они не канонизированы, все равно в душе каждого живет высшая тайна нации…
Видимо, опыт, заложенный в генетический код определенными периодами нашей истории, угоден будущему, поскольку учит вдумчивой осторожности, толкает к тому, чтобы семь раз отмерить, прежде чем резать. Прав Бисмарк: «Русские медленно запрягают, да быстро едут».
Я удостоверился в исторической правоте нашей неторопливой постепенности сравнительно недавно, когда впервые в жизни уверовал в то, что достиг наконец состояния длительной надежности. Поскольку миром правит один процент мыслящих особей, остальные — инструментарий, ими пользуются, то, следовательно, лишь в нас, состоявшихся, заключена движущая сила общества… Но свою идею надо открывать не сразу и, конечно, не всем, но лишь интеллектуалам, связанным единством крови и принадлежностью к одной почве.
Но, увы, правда такова, что даже среди этого процента избранных далеко не все гении. А что такое гений? Провидец. Толкователь неизвестного доныне. Нет гениев среди историков — они устремлены в прошлое, обращают его к своей честолюбивой выгоде, и лишь те, что вырываются в сферу политики, могут использовать факты прошлого для утверждения своего, видимого им, будущего. Такова же участь филологов и искусствоведов. Возможность приближения к гениальности дана математикам, литераторам, живописцам, химикам, архитекторам, физикам, политикам. Все. Остальные — побоку. Следовательно, из нашего процента к высшим пикам бытия могут прорваться тысячи, не более. Но эти тысячи начинают восхождение с отрицания привычного, — такова жестокая логика развития, и как ни беспощадна была доктрина Гитлера, в ней существовало свое здравое зерно. Если бы он смог пересилить себя и, как хотел вначале, отправил всех евреев на Мадагаскар — пусть бы грелись себе на райском острове, — если бы не понастроил Освенцимов, если бы не грешил против славян, которые не менее арийцы, чем немцы («руссы» — «пруссы», очевидное братство крови), неизвестно еще, чем бы кончилась вторая мировая…
…Так вот, именно там, в парке культуры на берегу Волги, в маленьком Вольске, я понял, что мне дороги в будущее нет, пока — во всяком случае. Власть не обманешь, особенно нашу, которая пуще всего радеет о проверке; дело для нее вторичное, главное, чтоб все по графам сходилось. Риск, с которым связаны ложные сведения в анкете, бесполезен и кончится ссылкой — в лучшем случае.
…Я вернулся домой в Энгельс и устроился на завод. Я зажался, жил тихо, нигде не возникал, взносы за комсомол платил исправно, самообразовывался — читал что ни попадя, особенно историю. Я ощутил приближение перемен, когда начали бить изменников-космополитов, литературных критиков еврейской национальности, а потом, после расстрела членов Еврейского антифашистского комитета, объявили, что еврейские врачи травили русских людей. Нам немцы рассказывали, как до революции Бейлис в Киеве резал русского ребенка, чтобы пустить христианскую кровь в свою пасхальную мацу. Неважно, что его оправдали, оправдать все можно, а врачи, агенты «Джойнта», действовали научно, потаенно, — значит, верно Ивлиев говорил: «Тайный заговор против нации»? Тогда-то я и выступил на заводском собрании, потребовав открыть молодежи историческую правду о еврейском заговоре против нашего народа.
Было это в январе пятьдесят третьего, а в апреле, после смерти Сталина, врачей реабилитировали, оповестив в газетах, что все это была клевета и покушение на дружбу народов, — доктора Лидию Тимошук, которую славили за бдительность — ей орден дали за то, что евреев разоблачила, — смешали с грязью, да еще заместителя министра безопасности Рюмина арестовали…
В тот же день я уехал из Энгельса, подался сначала в Сибирь, оттуда на целину, заработал медаль, а уж после этого поступил на искусствоведческое отделение.
Никогда не забуду, как в конце шестидесятых, когда из Польши начали выселять евреев, объявив их сионистами, один старик, видимо, из партийных ветеранов, горестно рассуждал в поезде: «Ну, ладно, евреи во всем виноваты — так и в царской России было, так Генри Форд считал, так Гитлер проповедовал, — по их милости рабочие мало получают и продукты дороги, но где гарантия, что, выселив их, мы получим вдосталь мяса и автомобилей, не проведя революционные реформы в экономике?! Ведь если жизнь трудящихся и после выселения не улучшится, тогда народ обвинит коммунистов и рабочую власть в том, что они не компетентны! Кто за это будет в ответе? На кого тогда валить вину за наши неудачи? На нас, русских?! На коммунистов?!»
Тогда-то я и понял до конца свою линию. Мне от этой власти ничего, кроме страха, не досталось, все свое взял горбом, ей наперекор. Пусть себе эта власть телепается, как хочет. Управимся без нее, рецепты есть.
…Преподаватель по истории искусства Мария Францевна Гирш — в аспирантуре она опекала меня, как крестная мать, — говорила: «Заметьте себе, Миша, что человечество, в массе своей, трагически беспамятно. Говорят, «Иваны, не помнящие родства». Это русофобия. Джоны родства не помнят, Пьеры тоже, не говоря уж об итальянцах… Разве что только иудаисты и мусульмане чтут память… Да, да, не спорьте! Когда итальянцы вспомнили о речах Цезаря, Катилины и Цицерона? Тысячелетия прошли! Очнулись лишь после крушения инквизиции! А Эль Греко? Он стал достоянием человечества в конце прошлого века. Когда цивилизация устает от прогресса, когда выступает бессилие после очередного взрыва новаций, тогда лишь люди обращаются к прошлому, ища в нем вечность и спокойствие… А еще мы тщимся обрести в ушедшем успокоение непрерываемости рода… Но, повторяю, это наступает в пору усталости человечества, после катаклизмов и открытий, когда утвердилась новая форма мышления… Именно в такие годы забытые — древность, старина — становятся самыми дорогими акциями, вложением капитала с получением невиданных процентов, беспроигрышно! Будь я стяжательницей да имей еще деньги — все бы вложила в старинную живопись, иконы, книги! Выставьте на аукцион записку Плутарха! Вам уплатят десять миллионов, не меньше! И ваше имя войдет в историю, вас назовут хранителем памяти человечества, простят корыстный интерес, станут чтить, как нового Мецената… Но, увы, все это сопрягаемо с политикой, с честолюбивыми устремлениями несостоявшихся художников или пророков… Да, да, не спорьте… Гитлер запретил удобный и понятный современный алфавит, понудив немцев вернуться к готическому… Он отринул блистательную литературу двадцатого века и заставил нацию оборотиться к рунам и былинам, считая, что только великое прошлое — даже если его и не было — приведет к еще более великому будущему… Это, кстати, свойственно всем малообразованным людям, лишенным серьезного знания и интеллигентности… Личностное честолюбие приводит к краху человека, а национальное, обретшее форму мессианства, грозит существованию нации. Да, не спорьте! Именно имперские амбиции Древнего Рима привели его к крушению. А Карфаген? Византия? Национально-мистические претензии Испании? А Польша — «от моря и до моря»?! А наша война против Японии в девятьсот четвертом году? «Шапками закидаем»?! Вот и закидались… А как отомстил Гитлеру его национальный мистицизм?! Не Гитлеру — немцам?! Прошлое — инструмент будущего, Миша… Не каждый умеет работать с таким взрывным материалом… Если вы будете строго следовать правде, факту, истине, вас предадут анафеме и лишь потом, по прошествии столетий, вспомнят с благодарственной памятью. Если же вы решите получить сиюминутную отдачу, следует забыть о хирургичности предмета истории и обернуть факты к собственной выгоде… Вас вознесут… Высоко вознесут… Но потом низвергнут, и вашим потомкам станет трудно жить на земле, их станут чураться, как Ирода…»
Слушая ее, я, пугаясь самого себя, думал: «После нас — хоть потоп… Да и детей у меня не будет — голод и страх так просто не проходят… А не справедливее ли получить то, что можно, при жизни? Не уповая на благодарственную память тех, кто придет спустя столетия? Да и придут ли?»
Как сейчас помню, разговор этот состоялся в декабре шестьдесят четвертого, вскорости после того, как свалили Никиту. Люди настороженно присматривались к тому, что происходит. Включив на полную мощность приемники, обсуждали возможные изменения в стране, строили догадки. Несчастные мы, ей-богу, словно одеялом придушены, — главное, чтоб все было тихо, благообразно и величаво.
…Поняв, что дерзостным начинаниям Хрущева пришел конец, я и спросил себя: «Что ж мне-то, Михаилу Тихомирову, делать? Раньше жили страхом вперемежку с восторгом перед гением Сталина, потом поверили в перемены Никиты, а теперь как?» И я ответил себе: «Сам думай, подсказки ждать не от кого». Ответ я нашел не скоро, но — нашел.
…Когда разгромили авангардистов, все и всех позапрещали, внезапно появилась талантливая поросль суздальских художников: живопись яркая, сочная, голубая, очень русская. Но и этих ребят стукнули: «Слишком много церквей и седой старины, где радость свершений сегодняшнего дня?!» Ребята были крутые, хорошего закала, — не дрогнули, муку приняли гордо, гнули свое, перебиваясь с хлеба на воду.
Вот тогда, памятуя о беседе с Марией Францевной, я и пошел на риск: организовал их выставку в Институте, устроил распродажу, поделился с ними по-братски — вот он, путь: ставить на тех, кто умеет держать удары, чист в позиции и понимает, что связь времен неразрывна: без прошлого нет будущего.
Каждому — свое. Господь лишил меня дара писать или ваять, но умом — не обделил.
И — постоянно думая о своем будущем — я обратился к прошлому, посвятив кандидатскую диссертацию теме «Традиция и искусство».
После того как отменили графу про то, был ли ты в оккупации (не моя вина, не я, а власть допустила немца до Москвы и Сталинграда), решился поехать в первую туристскую поездку. И такая меня обуяла тоска и боль за несчастную Россию, когда я попал к побежденным немцам и увидел, как они давно живут, каков их достаток и уважительность друг к другу, что подумал: «Никогда нам из дерьма не выбраться и нечего ноздри раздувать, что, мол, богоносцы, избранные! Прокляты мы богом, истинно так! За то, что легко своих Перунов сожгли, за то, что в семнадцатом церкви рушили и памятники валили, за то, что легко прощали зло! Не отмыться нам вовек!»
Вот тогда-то, опираясь на опыт с суздальцами, я и решил: только деньги могут дать человеку истинную духовную свободу, все остальное — иллюзия… Тогда же появились Витя Русанов и Кузинцов, тогда и начал крутиться бизнес с художниками, тогда и ощутил наконец надежность. Матушке дачку купил, себе кооператив построил, жил как хотел… Найди художника, помоги ему — он отблагодарит, внутри они чистые, хоть и шельмы…
А тут — на тебе, новое время! Права личности. Определенные послабления в линии. Свобода слова, газеты распоясались, гласность, будь она трижды неладна! И — как следствие — рушатся надежно отлаженные связи, рождается страх, что вновь грядет нищета.
Народ — что? Народ дурак. Ему надобно постоянно втолковывать: кого — любить, а в ком видеть затаенного ворога, однако не всегда просто вести такую работу: и среди тьмы есть головы. Умные сразу просекут, что в конечном-то счете речь идет о рынке, заработках, — в первооснове всех людских начинаний сокрыт золотой телец, никуда не денешься, греховны… А вот поди, скажи открыто, что если у своего берешь — он снесет, наш человек все стерпит, а попробуй у чужого выдери?!
…Врать можно другим, себе — преступно. Если сейчас проиграем, все будет кончено: как-никак шестой десяток, начинать сначала поздно. Удержание достигнутого — сродни войне. Или — они, или — я, третьего не дано. Индивидуальный труд, кооперативы, поддержка личной инициативы, право на заработок — есть то объективное зло, которое рушит нашу цепь, где каждый, разрешающий, обязан получить свое. А если разрешать не надо? Если в Конституцию запишут параграфы о том, что дозволено всем? Сидеть разрешающим на свои двести рублей и дома топор точить?! С топором на танк не выйдешь… Право для всех — гибель нам, элите, избранным, тем, кто достиг высшего блага властвования: не позволить, запретить, умучить справками, бумажками, доверенностями… Мы лучше знаем, что нужно нашему народу несмышленышу… Столетия должны пройти, прежде чем он научится демократии, не для нас это, мы силе покорны, а не праву, кнуту, а не закону.
…Кузинцову сказал лечь на грунт, Русанову строго-настрого запретил ездить к Чурину на дачу, слишком повадился, про Завэра забыть всем — наверняка сгорит. Старик не понимает, что времена изменились, связи не помогут, скорее наоборот.
Терпение, только терпение! Именно сейчас и надо перенести центр борьбы за себя в клубы, на дискуссии организованной нами «Старины»: власть припугнуть — великое дело. Случись какая беда, есть отговорка и обращение к общественности: «Мстят за слова правды!» Пусть попробуют тронуть, ныне скандалов не хотят — демократия! Главное — точно определить врага, от которого художника могу сберечь я, один я и никто больше. Сюзерен невозможен без феодала. Понятие «благородность» связано со словом «поддержка», «защита», «протекция», ничего в этом зазорного нет.
Вот пусть Русанов и рванет Варравина на своей мине. Томка уже Глафиру Анатольевну подготовила, — напишет заявление, слава богу, персоналочку у нас до скончания века будут чтить и холить, без нее нельзя: у тех, на Западе, светская хроника, а у нас открытое собрание, все вблизи, страсти наружу, лобное место, где еще такое есть?!
Кашляев парень с головой, подготовит почву в своей редакции, турнут этого Варравина коленкой под зад, пополнит ряды неудачников — вот к нам и придет, больше-то некуда…
…О том, что с каждой сделки, заключенной Русановым, он получал пятую часть, Тихомиров запрещал себе и думать. Тем не менее подстраховался: сберкнижки «на предъявителя» завещал после смерти активистам своей «Старины», мол, не о себе радею, о нашем общем деле. Пройдет смутное время — переписать книжечки не поздно, пять минут делов. Постоянно повторял: «Мы работаем в рамках советского законодательства, никаких отступлений не потерплю, как и от норм пролетарского интернационализма. Наши враги — сионисты и масоны, и не наша вина, что все они относятся к лицам известной национальности».
…Нет, говорил он себе, я — неуязвим! Линия защиты абсолютна, выдержка и еще раз выдержка. Главное — переждать смуту, потом мы свое возьмем, главное — сохранить цепь: идея (я), поиск художников (Русанов), подготовка почвы (Кузинцов), подписание заказа на роспись зданий (Чурин), бриллиантики для дополнительных услуг (Иуда Завэр и Румина), «Старина» (страховка предприятия общедоступной идеей). Все четко, точно и отлажено. Так держать!
XVI
Мы, Лизавета, Иван и Гиви
Самое удобное время зайти в кафе — причем мало-мальски пристойное, а таких в Москве раз-два и обчелся, — утро.
Лениво прикрывая рвущийся в зевоте рот, официант (их тут пять, вот дурство-то, проклятие штатного расписания, держали б двух, платили зарплату за четверых, было б обслуживание) спросил, чего желают гости. Иван ответил, что желает счастья. Официант посмотрел на него с недоумением, которое сменилось обидой:
— Вы со своими приятелями шутите, со мной не надо, я нахожусь на работе.
Когда он принес кофе (времени на это ушло минут десять), Иван сказал:
— Я не убежден, что Гиви скоро управится, Лисафет. Волшебница по телефону звонить не станет: они пугливые, боятся, что их подслушивают, кино понасмотрелись, значит, отправится к кому-то сообщать о тебе, поэтому расскажи еще раз — самым подробнейшим образом, — все, что там произошло…
Лиза с тоской посмотрела на табличку, запрещавшую курить.
— Ты никогда не думал, отчего в нас заложена страсть делать друг другу неудобства? Ну почему не открыть кафе для курящих? Нет! «Нельзя» — и вся недолга! Дисциплина — разумна, а бестактность, тяга к казарме, границ не знает… Ладно… Словом, поначалу мне не было страшно, я даже почувствовала к ней какую-то бабью симпатию… Вам это не понять, мы ж несчастнее вас, поэтому в чем-то едины, — Лиза усмехнулась, — некие, знаешь ли, бабомасоны… Но у нее резко изменилось лицо, когда она стала меня колоть… Она обладает навыком гипноза, это точно… Думаю, я ей сказала только то, что мы обговорили… Я помню, как она испугалась в конце… Я не убеждена, что на какой-то миг не потеряла над собою контроль, — отец объяснял про гипноз достаточно подробно… Гитлеризм начался с массового гипноза, с обращения к национальному инстинкту, поиску общего врага, от которого все «беды»… Я дрогнула, когда она, уверившись, что овладела моей волей, спросила, отчего я называю себя Яниной, а не Лизой Нарышкиной… Мне страшно стало… Но я постоянно держалась — как за спасательный круг — за наш с тобой давний разговор: отчего царская семья, последние Романовы, не делали ни одного шага без подсказки ясновидящих? То им месье Филипп давал указания, то Распутин. Помнишь?
— Я все помню, Лисафет, — ответил Иван и погладил ее по щеке.
— А чего ж тогда меня бросил?
— Считаешь, что любовь сродни воинской присяге? Раз и навсегда? На всю жизнь? Как же тогда быть со свободой? С правом личности? Другое дело, были бы у нас дети… Да и то… Анна Каренина… Увлечения Пушкина… Жизнь Анатоля Франса… Тот же Хемингуэй… Ведь не только мужчины перестают любить… Женщины тоже увлекаются другими…
— Много реже, Ваня… Как правило, увлечение другим наступает после того, как у женщины возникли подозрения, в чем-то изуверилась, показалось, что ее мужчина перестал быть таким, как прежде, менее внимателен, неласков, замкнут… Вот тогда мы и пускаемся в рейд, — она вздохнула, — по далеким тылам врага… Но ведь мы слабей вас…
— Значит, равноправие — фикция? Не может иметь равные права заведомо слабый и утвержденно сильный? Это идеализм, выдача желаемого за действительное… Я беседовал с интересным ученым, биологом, так он утверждал, что женская физиология не сопрягается с теми нагрузками, что мы на вас взваливаем. Он, например, вместе с математиками просчитал, что оптимальный вариант рабочего дня женщины — пять часов. После пяти часов бедненькая перестает приносить пользу общественному делу, потому что думает, чем накормить мужа, как вовремя взять ребенка из детского садика, где занять очередь и купить мяса подешевле и без костей, поэтому общественное дело проходит мимо ее внимания…
— На журналисток это не распространяется, — заметила Лиза, вздохнув.
— Распространяется, — отрезал Иван. — Если есть муж и дети…
Лиза снова с тоской посмотрела на пачку сигарет. Иван, однако, не заметил этого ее взгляда, продолжал устало:
— Женщина не может себя переломить: верх берет инстинкт материнства и дома… Нонешние радетели национального духа из «Старины» винят всех, кого ни попадя, в том, что у нас падает рождаемость, но не желают проанализировать статистику: шестьдесят процентов американских и бельгийских женщин не ходят на службу, а занимаются домом, воспитывая детей и ублажая кормильца! Может быть, нам лучше подумать, как увеличить заработную плату отцам трех детей? Так, чтобы наши женщины могли посвятить себя дому? А вопли про то, что у нас намеренно «спаивают» народ?! Бесстыдно это и преступно по отношению именно к народу… Ведь тот, кто хорошо зарабатывает, — не пьет! На машину копит, на дачу, путешествие! Пьют от безнадеги, Лисафет, дураку ясно… «В вине истина» — это выражение не масоны придумали, издревле идет, надо серьезно изучать первоисточники, исследовать историю — объективно, компетентно… Истерика с историей несовместимы, хоть и пересекаемы… Это я, между прочим, так отвечаю на вопрос — отчего царской семьей управляли кликуши… Да потому, что даже Романовы были лишены гарантированного права на новые мысли и целесообразные поступки… Царь был бесправен, Лисафет!
— Ой ли?! Почему?
— Потому что слово «конституция» приводило его в ужас! «Верховный хранитель традиции», переписывавшийся с женой на английском или немецком, не на родном, — был неуч, университет не посещал, методике мыслительного анализа приучен не был: что ему вдолбили наставники, вроде серого кардинала Победоносцева, то он и повторял: «православие, самодержавие, народность». А что это за «народность», когда народ был лишен права на мысль, слово и дело? Романовы не хотели принять даже ту помощь, что шла от умеренных монархистов, — а ведь Гучков с Милюковым держали большинство в Думе и мечтали о сохранении трона, сделав его конституционным… Но государь не мог принять помощь снизу, — ведь он был не коронован на царство, а помазан, вот он и хотел получать советы сверху, потому и верил в чудо, прозрение, а в себя и свой народ верить не мог — по традиции. Некрасова наши нынешние правые пока еще не очень-то подозревают в чужекровии, а ведь он писал, мол, мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь… Страсть к порядку — а он в нашем огромном государстве необходим — выродилась в жестокость, Лисафет… Делом державу объединять боялись, — народится слишком много сильных. Вот и держали тотальным страхом да запретом… А какой порядок можно навести, запрещая все и вся? Я почитал дискуссии тех, кто за индивидуальный труд и семейный подряд, с теми, кто боится «обогащения»… Зачем нянчится с дремучими представлениями? Не проще ли распубликовать, сколько миллиардов долларов мы уплатили одной лишь Америке за зерно, а в Штатах, — Иван усмехнулся, — кроме семейного подряда иного не существует… Ну, и кто обогатился в результате того, что фермерская семья возделывает землю? Государство, Соединенные Штаты, кто же еще… Реформе об индивидуальном труде противятся болтуны-бездельники, неучи, для которых социализм — это молочные реки и кисельные берега… Старые контролеры и маразмирующие догматики вопят: «Если человек живет в хорошем достатке — значит, он враг социализма!» А что, социализм — это общность нищих?! Кому такой социализм нужен? Социализм — это братское содружество мыслящих, свободных и обеспеченных людей, в этом я вижу истинный смысл равенства… С дураком и лентяем равняться не хочу. Есть право на заработок — для всех без исключения, — пусть и зарабатывают! А не болтают!
— Ты чувствуешь, — сказала Лиза, — как страна поляризуется на тех, кто за реформу и ее противников? А мы не научены действовать, растворяем себя в кухонных дискуссиях… А надо действовать, Ваня! Надо предпринимать что-то! Дремучая, консервативная кодла едина, а мы? При нашей постепенности мышления, пристрастии к старым догмам все может случиться…
— Что ты имеешь в виду?
Лиза снова с тоской поглядела на вывеску, предупреждавшую о запрете на курение, потом медленно, с какой-то школьной безнадежностью, подняла руку. По прошествии нескольких минут официант разрешил себе заметить ее; подошел, по-прежнему позевывая.
— Товарищ, у меня к вам просьба, — Лиза достала из кармана курточки трояк, — принесите пепельницу, а? Пока ведь в кафе никого нет…
Парень трешницу смазал в карман, лицо помягчело.
— Не я этот дурацкий запрет вывесил, девушка… Сыпьте пепел в блюдце… Но если кто придет, я маленько поругаюсь, не взыщите…
Когда парень отошел, Лиза посмотрела на Ивана:
— А если б мы с тобой были из общепита? Если б провоцировали этого парня? Такого рода провокация законом не запрещена, наоборот, поощряема… Что тогда с ним будет?
— Ты здорово осунулась.
Лиза улыбнулась:
— От страха.
— За полчаса так похудеть?
— Некоторые перегорают за десять минут… Стресс на каждого по-своему действует… Как Оля?
— Там плохо. Ей впору менять фамилию Варравина на царицыну — Романова… Она и думать-то перестала: что Тома скажет, то и сделает…
— Хочешь, я с ней поговорю?
— С ума сошла… Она твоего имени не может слышать, белеет…
— Она не верит, что у нас все кончилось?
— Не верит.
— Ты ее по-прежнему любишь?
Иван достал «Яву», тщательно размял сигарету, с ответом медлил, потом, собравшись, молча кивнул и, словно бы пересиливая нечто, ответил:
— Да.
— Ты это сказал мне? Или себе?
— Не знаю. Меня объял ужас, когда Оля и ее мать получили сообщение от этой самой Томы, что ты ворожишь над ее фотографиями… Нельзя любить человека, если не веришь ему… И его друзьям…
— Я не друг… Я — женщина.
— Что, женщина не может быть другом?
Лиза закурила новую сигарету и, подняв на него свои серые глаза, спросила:
— Думаешь, мне легко быть твоим другом?
— Хорошо постриглась.
— Ты же любил, чтобы я стриглась коротко…
— Времена меняются, Лисафет… Почитай стихи…
— Новые?
— Да.
Лиза читала очень тихо, как бы рассказывая:
- Ты исчез очень рано,
- Ты ушел на рассвете.
- Негатив неудачи
- Майским солнцем засвечен.
- А костюм Коломбины
- Брошен был на кровать,
- Ночь исчезла бесследно,
- Но не хочется спать.
- Если с каждой потерей
- Мы теряем по сну,
- Я отныне, наверно,
- Никогда не усну.
Иван вздохнул:
— Поедем на вокзал, а? Там пол-литра можно у таксистов купить… Так захотелось жахнуть, что просто сил нет…
— Когда Оля должна рожать?
— Я по-вашему считать не умею…
— Наверное, в сентябре, — сказала Лиза. — У меня такое предчувствие.
Иван снова погладил Лизу по щеке. Она круглолицая, щека словно отлита для его ладони. Лиза мучительно оторвалась от его руки, попросила у официанта еще чашку кофе, достаточно неестественно глянула на часы, поняла, что Иван заметил это, усмехнулась:
— Знаешь анекдот про безалкогольную свадьбу?
— Нет.
— Встает тамада, обращается к молодым: «Дорогие супруги, милые гости, ну-ка, нащупаем вены… Нащупали? Приготовим шприцы! Готовы? Горько!»
— Могильный юмор.
— Да уж, не Джером К. Джером… Где же Гиви?
— Я тоже начинаю волноваться…
— Не знаю почему, но мне кажется, что эта самая Тамара и те, кто с ней связан, готовы на все. Ты нащупал какое-то средостение и, незаметно для самого себя, скорее всего неосознанно, ступил ногой в гадючник… Когда Тамара сказала: «Доченька, ты посоветуй своему дружку: не стоит меня замать, это ему горем обернется», — мне стало не по себе…
Иван досадливо махнул рукой:
— Что она может сделать?
— Тебе — ничего. А Ольге?
Иван положил на край стола спичечный коробок и, резко поддев его большим пальцем, посмотрел, какой стороной упал.
— Сходится, — сказал он. — Порядок… Если я не смогу вернуть Ольгу, попрошу тебя снова стать моей подругой… Слово «жена» у меня теперь прочно ассоциируется с понятием «несвобода».
— У меня тревожно на душе, Иван… Честное слово… При всех моих недостатках — флегма, лишена склонности к истерии, — я ощущаю в воздухе что-то тревожное…
И как раз в это время пришел Гиви.
— Люди, тут дают что-нибудь поесть? — спросил он. — Я намотался за эти два часа, как олень…
— Яичницу, думаю, сделают, — сказала Лиза. — Рассказывай скорей, что было…
…Тамара поехала в Мытищи, там зашла в клуб культуристов, поговорила с тренером Антиповым и, не отпустив такси, вернулась домой. Бросив занятия, Антипов отправился на Красноармейскую, в дом сорок, в квартиру, где живет Бласенков, Виталий Викентьевич. Пробыл у него минут десять и вернулся к себе. Когда Гиви попросил записать его в члены клуба культуристов, Антипов ответил, что здесь принимают только местных, «да и потом, в вашем народе наш спорт не популярен, не выдержите нагрузок».
После этого Гиви поехал в милицию. Заместителем начальника угрозыска, по счастью, был однокашник, капитан Хмелев, он-то и помог справкой: Бласенков Виталий Викентьевич, пенсионер, привлекался в сорок пятом по недоброй памяти пятьдесят восьмой статье, пункт первый, измена родине. Судила, однако, не тройка, а трибунал. С сорок третьего по сорок пятый Бласенков служил у Власова, был инструктором в пропагандистском лагере Дабендорф Русской освободительной армии, освобожден по амнистии в пятьдесят третьем…
Гиви говорил громко, жестикулируя, уплетал глазунью из трех яиц, и ни он, ни Иван с Лизой не обратили внимания на двух молодых людей, которые устроились возле двери, попросив кофе и пирожных. «Наполеоны» ели сосредоточенно, а вышли — расплатившись заранее — лишь после того, как убедились, что беседа трех друзей закончилась.
(Молодые люди были культуристами Антипова. Старшему было двадцать четыре года, Антипов Игорь, брат тренера. Младшему только что сровнялось двадцать, Леня Шевцов. Оба работали грузчиками в гастрономе.)
XVII
«ВЧграмма
Подполковнику Вакидову
угро МВД Узбекистана
Прошу предъявить к опознанию подследственному Рахматову фотографию Кузинцова. По нашему мнению, его внешность близка тому внешнему портрету, который дал Рахматов на очной ставке с подследственным Чурбановым.
Полковник Костенко».
«ВЧГрамма