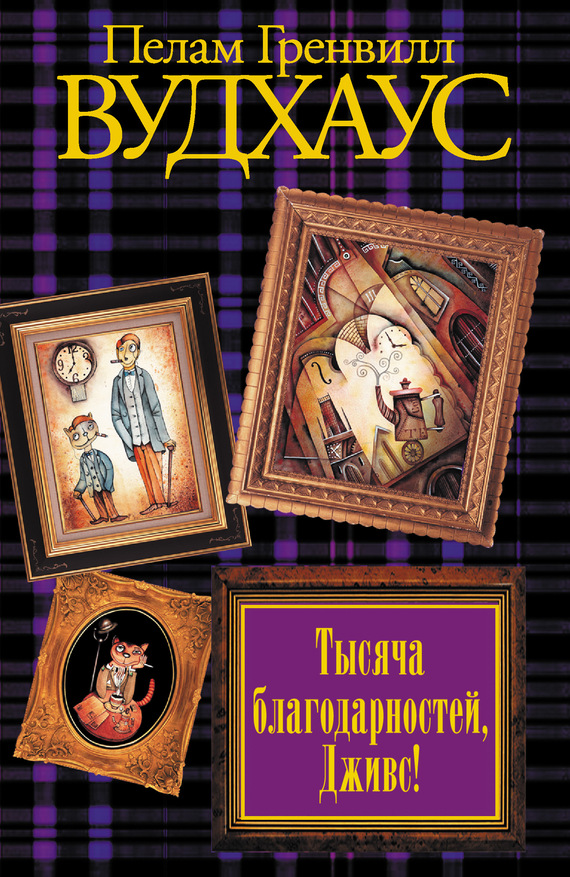Вавилонская башня Семенова Мария
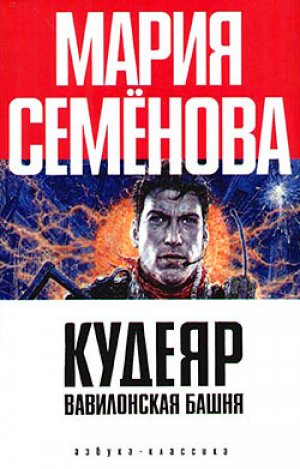
Женя Корнецкая прижала ладони к вискам…
«Дедушка!..»
«Наверх, думме мэдхен! Скорее наверх! Время подходит!»
Туманный меч в руках Кратаранги пел песню смерти, ему вторили два маленьких стропореза.
Лабораторный зал – место Большого Взрыва[57] местных масштабов – занимал почти целый этаж, и для обычного взгляда здесь было тихо и пусто. Ну разве что как-то странно кружилась посередине старая копоть, поднятая сквозняком. Даже ставшего обычным радужного сияния здесь не было заметно. Для Жени Корнецкой всё выглядело совершенно иначе. Отступившая дымка собралась здесь в большой плотный кокон, всё отчётливей принимавший форму гриба, и шляпка уже готова была отделиться. Между двумя половинами сновали расплывчатые формы, что-то уже разделилось надвое и обрело самость, что-то ещё не успело этого сделать…
Да. А ведь если бы не теория Звягинцева, никто бы так и не понял, что здесь происходило. Отметили бы странную флуктуацию поля – и стали бы с интересом ждать, какой фокус оно выкинет ещё…
«Пора, девочка. Бей!»
И Женя ударила. В этот миг для неё не было ни жизни, ни смерти, ни победы, ни поражения. Только гармония пронизанной светом Вселенной, чей изъян она должна была устранить. Незримая нить между нею и дедом раскалилась добела, превратившись в сверкающее оружие. Она ощутила, как его подхватило множество рук, протянувшихся неведомо откуда… История, хорошо ли, худо ли сотворённая миллиардами жизней, нипочём не желала становиться питательным кормом для одноклеточных. Она заносила свой скальпель, и Женя была его остриём. Сверкающее оружие полоснуло по самой тонкой части «гриба», рассекая и вспарывая раковую опухоль бытия.
Многотонная громада «Гипертеха» содрогнулась от первого этажа до последнего. Простейший организм, застигнутый на уязвимой стадии первичного деления, распался на две половинки, не успевшие сделаться жизнеспособными. Они забились, агонизируя, плюясь клочьями скрученного пространства. Верх, низ, лево-право – всё заваливалось под немыслимыми углами, плывя в вихрях искажённого времени…
Женя Корнецкая, правда, этого уже не видела. Для неё сработал эффект спицы, воткнутой в электрическую розетку. Удар скальпеля вызвал сокрушительную отдачу. Женю пронизало огненным током, швырнуло, отбросило… выкинуло за пределы этой реальности…
«Леонтиск? Это я, я иду к тебе, Леонтиск…»
«Погоди, дитя моё. Ещё не время… не время…»
Когда внизу драться сделалось не с кем, Скудин помчался наверх. Полуторасаженными прыжками, как когда-то во сне. Нескончаемыми лестницами и коридорами… При этом на глаза ему попались ещё двое ополоумевших котообразных, и это было их большое жизненное несчастье, потому что любую задержку, даже секундную, Кудеяр сейчас склонен был воспринимать как личное оскорбление и действовал соответственно.
Он чуть притормозил только на пятом этаже, где Кратаранга с Фросенькой извлекали из-под кучи вражеских трупов окровавленного Гринберга, а Натаха, сидя у стены, ощупывала голову и без конца повторяла:
– Юрка, ты, что ли? Обросший какой… Ритка, а ты здесь откуда?
Поняв, что ситуация пребывала под контролем, Кудеяр снова устремился вперёд.
…Дальше вверх, вверх, бешеными скачками через четыре ступеньки…
Вылетев в лабораторный зал на седьмом этаже, он увидел Корнецкую, лежавшую, точно сломанная кукла, возле дальней стены. Виринея стояла над ней, воздев руки в неописуемо грозном повелительном жесте, и на пределе голоса тянула одну рычащую горловую ноту. А перед ней…
Перед ней гуляли вихри, вертелась жирная копоть, облетавшая потревоженными хлопьями с потолка и со стен. Сквозь решето, в которое давний огонь превратил верхние этажи, заглядывали Ригель и Бетельгейзе.[58] В середине зала, где помещалось самое ядро, самый корень ампутированной опухоли, медленно возникал, проявлялся из недр высших измерений прозрачный пузырь. Внутри пузыря плескалось оранжевое пламя, там что-то рушилось, метались тени людей…
– Маша, – выдохнул Кудеяр. Удивительно или нет, но полчаса жестокого рукопашного боя и взлёт на седьмой этаж не отозвались ему ни малейшей усталостью, породив лишь неистовую готовность разогнанных мышц.
И он сделал то, что всегда делал во сне: без раздумий, с разбегу пошёл на таран стеклянной стены. Он точно знал, что она неминуемо отбросит его, обрывая дыхание, но знал и то, что повторит попытку снова… и снова…
Он врезался в преграду с силой, достаточной, чтобы вынести из креплений железную дверь…
Барьер четвёртого измерения встретил его, как удар сжатого воздуха. И это было всё, что он оказался способен противопоставить. Какие Силы сейчас осеняли Своим крылом Кудеяра, доподлинно знала, наверное, одна только Виринея. Стеклянная стена треснула, лопнула и пропустила его, и он вылетел прямо в пожар – тот самый, многомесячной давности, по-прежнему бушевавший здесь, под осенним утренним небом. Языки пламени, вполне материальные и очень жгучие, жадно обвились вокруг ног…
– Ваня?.. Ваня!
Прямо перед ним был рухнувший лабораторный шкаф. Марина стояла на нём на четвереньках и наотмашь хлестала рабочим халатом, отмахиваясь от огня. Рядом с ней ещё двое сотрудников тщетно пытались привести в действие огнетушитель. Кудеяр всей шкурой ощущал неустойчивость пузыря, лишившегося подпитки: тот был готов в любой миг схлопнуться и уйти в небытие со всем своим содержимым. Сшибая огненные языки, Иван сделал последний прыжок, сгрёб на руки Машу и заорал на сотрудников:
– За мной!!!
Помните, читатель? «Если человеку, спокойно моющему окно на восьмом этаже, в подобном вокальном режиме рявкнуть „Прыгай!“ – он прыгнет…» Метод не подвёл. Маринины лаборанты бросили бесполезный огнетушитель и ломанулись за ним. Ломанулись в прямом смысле этого слова, следом за Кудеяром сквозь стеклянный барьер, кажется, здорово ослабленный его штурмом…
…И все вместе выкатились в сквозную зимнюю ночь, в дырявые промороженные развалины «Гипертеха». Позади них раздался громкий хлопок: это приказал долго жить кокон четвёртого измерения. Пространство и время очищали себя, входя в обычные рамки… Подскочили Буров с Капустиным и принялись гасить горевший комбинезон Кудеяра.
Майор Собакин высунулся в окно и, пошарив в необъятном кармане, пустил в небеса зелёную ракету. Её, как и самого Собакина, было отлично видно с крыши общественного сортира и из-за пределов периметра, где сразу пришла в движение армейская техника. Понемногу наступало утро двадцать седьмого января – дня освобождения города от блокады…
Четыре свадьбы и одни похороны
Марина не успела ещё понять и сообразить абсолютно ничего – начиная от того, с какой стати вместо ранней осени вдруг воцарилась зима, и кончая тем, откуда в лабораторном зале вдруг появился муж, которого она два часа назад самолично проводила на самолёт, причём муж изменившийся, поседевший, переживший что-то ужасное… Военная техника между тем обломала весь кайф Вене, жаждавшему прогуляться через периметр по воздуху, – могучие бронированные машины просто смели и американскую сетку, и наш бетонный забор. С самого первого танка, показавшегося в проломе, соскочил Лев Поликарпович Звягинцев, где-то по дороге благополучно потерявший свою инвалидскую трость. И бросился к дочери, почти не припадая на левую ногу:
– Маша! Мариночка!..
– Папа, – ахнула она, потому что папу минуту назад сбил отброшенный взрывом железный шкаф с оборудованием, и тем не менее вот он был живой и целый, приехавший почему-то на танке и не поймёшь, постаревший или помолодевший…
– Мне пора с вами прощаться, – проговорил Кратаранга. «Перстень силы» на пальце хайратского царевича тревожно пульсировал, предупреждая: времени осталось в обрез.
– Дедушке привет передавай, – сказал майор Собакин. – Тому, из музея.
Кратаранга покачал головой.
– В свой круг времени я уже не вернусь, – ответил он внешне спокойно. – Мне предстоит, как у вас принято выражаться, дорога в один конец. Всего на тридцать пять веков в прошлое, к диким кочевникам. Мой сын, рождённый в любви, скажет им Слово о справедливости и доброте. Через девять месяцев и четырнадцать дней на землю должен прийти человек, которого назовут Заратуштрой… Его отец останется в летописях под именем Поурушаспы из рода Спитама. – Кратаранга усмехнулся. – Ведь я же в изгнании, и моё имя должно остаться в Арктиде.
– Счастья тебе, – едва слышно пробормотала Фросенька. Она стояла в сторонке, не поднимая глаз.
Кратаранга вдруг повернулся к ней и протянул руку.
– Пойдёшь ли ты со мной, бесскверная дева, поселившаяся у меня в сердце?
– Товарищ командир, да как же это, – ахнула Фросенька, – товарищ полковник… Иван Степанович… как же так?
Тем не менее за руку Кратаранги она ухватилась своими двумя.
– Старшина Огонькова, – строго произнёс Кудеяр, – командирую вас в прошлое с товарищем Кратарангой… И смотрите там у меня!
Фросенька кинулась к Ивану, подпрыгнула, расцеловала. Кратаранга обнял её, Атахш прижалась к их ногам…
– Ну вот, теперь получается, что и Заратуштра из русских, – скорбно вздохнул Женя Гринберг. Виринея перевязывала ему голову. – А ещё говорят – повсюду евреи!
Перстень Кратаранги вспыхнул двойным огнём, по оплавленной бетонной стене у него за спиной побежали радужные змейки, заклубился туман… Атахш вскинула голову, оглянулась на Чейза и жалобно заскулила.
Чейз, беспокойно вертевшийся около Риты, вдруг всхлипнул и припустил к подруге. Сперва шагом, потом во всю прыть. Понимая, ЧТО сейчас должно было произойти, Рита уже открыла рот удержать кобеля, что-то в его побежке подсказывало ей – он всё же мог послушать её… остановиться… вернуться…
Она обеими руками захлопнула себе рот и не издала ни звука. Хрональный туннель уже начал поглощать Кратарангу, Фросеньку и Атахш, когда Чейз могучим прыжком преодолел границу миров, приземлившись чуть не на грудь хайратскому принцу… Полыхнула ослепительная вспышка, и клочок земли под стеной опустел. Остались только следы на закопчённом снегу.
Вот тут Рита рухнула на колени и неконтролируемо разревелась. Жизнь была кончена, она своими руками отправила неведомо куда самое дорогое ей существо.
– Я его предала, – икая и всхлипывая, рыдала она в объятиях Джозефа Брауна. – Я его предала, как же он там один, он же меня искать будет…
– Во дают чуваки, – сказала Натаха. Бывшая блаженная озиралась по сторонам, всё-таки год с лишком беспамятства, это вам не хухры-мухры. – Юрка, может, хоть ты объяснишь наконец, что тут вообще происходит?
– Дедушка… Ганс Людвиг, – пробормотала Женя Корнецкая. Она медленно приходила в себя на руках у Глеба Бурова, вынесшего её наружу. – Дедушка?
– Женечка. – Ладони, которые могли принадлежать только Эдику (или всё-таки Леонтиску?..), гладили её лицо, убирали со лба мокрые волосы. – Женечка, милая, он… Он ушёл от нас. Он говорил, может получиться очень сильный обратный разряд… Собирался принять его на себя… Женечка, он не мучился. Он просто улыбнулся и…
У неё тотчас встала перед закрытыми глазами последняя улыбка Леонтиска.
«Дедушка!!! Ганс Людвиг!!! Дедуля!!!»
«Да, девочка моя. Я тебя слышу».
«Дедушка, они сказали, что ты…»
«Я всегда буду с тобой, родная моя. Смерть ничего не значит. Я всегда буду с тобой…»
…Ну а дальше жизнь потекла своим чередом, хотя, конечно, ничто уже не могло быть в точности как прежде. Бывший Ленинград, переживший вторую блокаду, на полном серьёзе намеревался учредить звание «Герой Питера», ибо этим прозвищем покрывались все исторические названия города, – и по большому счёту поплёвывал, что станут думать ревнивцы в Первопрестольной. Физическим воплощением награды должна была стать Золотая Звезда, увенчанная адмиралтейским корабликом. Самым первым кандидатом на присвоение нового звания по всеобщему и единодушному согласию называли бесстрашного майора Собакина. Вторым – немецкого интернационалиста фон Трауберга, ценой своей жизни обеспечившего решительный штурм. Единичные голоса усомнившихся смолкли после того, как стало известно: германский учёный завещал развеять свой прах над старой линией обороны. В отношении последующих кандидатур мнения расходились. Кто-то называл командира танкистов, чья машина первой проломила институтский забор, ещё кто-то выдвигал девятизвёздочного генерала Владимира Зеноновича…
Аэропорт «Пулково» снова беспрепятственно принимал самолёты, от громадных аэробусов до маленьких частных. Их по-прежнему встречали у границы ярко-красные истребители и вели до самой посадки, но теперь это был скорее почётный эскорт.
Данный конкретный самолёт, пробежавший по пулковской полосе, ничего выдающегося собой не представлял, так, средненькая машина каких-то занюханных авиалиний. Другое дело, его пассажиров прямо на лётном поле встречали весьма неординарные люди. В частности, генерал армии Владимир Зенонович (скромно взявший решительный самоотвод в отношении десятой звезды) и генерал-майор Кольцов. Из шушеры помельче – полковник Скудин, американский полковник Браун, майор Гринберг… и уже вконец штатская публика: Женя Корнецкая, Ангелина Матвеевна и Рита. Эта последняя натурально потеряла дар речи, увидев среди встречающих своего доброго знакомого Олега Вячеславовича, оказавшегося хотя и не адмиралом в отставке, но тоже не слабо – полковником от контрразведки.
Вот смолк рёв турбин, и самым первым на российскую землю на специальной платформе спустилось инвалидное кресло, в котором сидел широкоплечий мужик с абсолютно гангстерской рожей.
– Она!!! Мама дорогая, это она! – полностью забыв о субординации и протоколе, немедленно заорал «гангстер». – Джон, да отстёгивай же эти чёртовы лямки!
И, как только кресло освободилось от крепёжных ремней, ухарски взвыл электромотором, выруливая туда, где стояла Женя Корнецкая. Правду молвить, физиономия безногого головореза показалась ей смутно знакомой…
А российский майор Евгений Додикович Гринберг во все глаза смотрел на человека, который помогал спускаться из самолёта офицеру УППНИРа. В этом поджаром горбоносом красавце с лихой проседью в вороных волосах проницательный читатель наверняка сразу узнал бы скромного шерифа из провинциального американского городка – Джона Мак-Рилли.
– Папа!!! – завопил Гринберг, не памятуя о присутствии невозможно высокого для Питера генералитета. – Папа!!!
И, на ходу размазывая слёзы и сопли, кинулся через лётное поле. Владимир Зенонович с отеческой улыбкой проводил его взглядом, ведь для этого, собственно, всё и затевалось. Джозеф Браун взял за руку Риту, и вместе с бабушкой Ангелиной Матвеевной они пошли следом за Гринбергом, чтобы воссоединение семьи стало уже полным.
А больше в аэропорту ничего примечательного в этот день не произошло, так что и рассказывать особенно не о чем. Тем более что некоторых наших героев там не было вовсе, хотя они собирались поехать. Жизнь, как всегда, внесла свои коррективы: рано утром в квартире профессора Звягинцева раздался телефонный звонок.
– Это из ожогового центра беспокоят, – хмуро проговорил молодой врач. – По поводу вашего больного…
Лев Поликарпович и Марина разом схватились за параллельные трубки. «Вашим больным» мог быть Маринин первый муж, несчастный Володя. Несколько месяцев ему становилось то лучше, то хуже (чаще второе), страшные ожоги упорно не заживали, он пребывал в стерильных условиях и только поэтому был ещё жив, но теперь, по мнению доктора, надвигался финал.
– Три дня назад он потребовал бумагу и карандаш и всё пишет, пишет что-то без остановки. Никто ничего не понимает… – Действительно, более чем странно для бессмысленного растения, в которое превратил Володю тот якобы бытовой взрыв. – Вы бы, может, подъехали?
Звягинцев сразу перезвонил Юркану.
– Юра, вы нас не отвезёте?
«Какие вопросы, Лев Поликарпович». Через пятнадцать минут у парадного затормозил глазастый перламутрово-изумрудный «Мерседес», а ещё через полчаса отец с дочерью, облачённые в стерильные бахилы и балахоны, стояли у стеклянной перегородки в Институте скорой помощи имени Джанелидзе.
Володя не увидел и не узнал их, во-первых, потому, что у него не имелось глаз, а во-вторых, потому, что давно потерял способность кого-либо узнавать. А ещё Звягинцев и Марина заметили посетительницу, почему-то допущенную за перегородку, к самой его постели. Это была Виринея. Молодая ведьма поддерживала подушку, на которую он опирался спиной, и по щекам, впитываясь в марлевую повязку, текли слёзы.
И… Володя в самом деле писал. Забинтованные руки вслепую хватали очередной лист, лихорадочно делили его вертикальной чертой и с нечеловеческой скоростью покрывали левую половину маловразумительной тайнописью. Потом переносились на правую сторону – и быстро-быстро заполняли её расшифрованным текстом…
«Рукописи не горят!» Лев Поликарпович мгновенно узнал бумаги отца. Он посмотрел на Виринею, их глаза встретились…
Приглушённые блики на стекле вдруг сложились в чёткие очертания человеческих лиц… Рядом с Виринеей стояла бабушка Тамара Григорьевна. Она гладила Володю по голове. А у другого плеча несчастного математика прозрачной тенью светился фон Трауберг. Льву Поликарповичу показалось, будто старый мистик с интересом заглядывал в воскрешённые рукописи. Надо же, мол, выяснить наконец, чем там занимался его русский коллега?..
В это время Володя поставил последнюю точку, и его рука безвольно упала. Сразу тревожно заверещали приборы на стеллаже, по коридору побежали врачи, и Льва Поликарповича с Мариной без особых церемоний выставили вон.
«Смерть ничего не значит, дитя моё…»
Три светящихся облачка поднимались над Питером всё выше, всё выше…
Ещё через два месяца Рита, успевшая сменить доставшуюся от мужа паспортную фамилию на девичью и настоящую – Гринберг, объявила Джозефу Брауну о своей беременности. К её изумлению, матёрый спецназовец разволновался и расчувствовался так, будто и не сам только что убеждал её в некомпетентности медицинского приговора. В ближайшую субботу он подогнал к двери джип, позаимствованный у её брата:
– Поехали.
– Куда?
– На собачью выставку. Может, щенка тебе подберём.
«Ну, если щенка…» Рита в самом деле подумывала о скорейшем приобретении нового питомца, и посещение выставки представлялось адекватным шагом на этом пути.
Какое счастье оказалось просто ехать по городу, не рискуя провалиться в дыру или наступить на невидимое пятно, превращающее живого человека в мумию! По городу, на всех квадратных километрах которого единолично хлюпал недотаявшим снегом нормальный питерский март!.. Рита смотрела в окошко машины и улыбалась неизвестно чему. Может, солнцу, совершавшему астрономически правильный путь в небесах, а может, просто оттого, что жизнь продолжалась…
Выставка происходила на Васильевском острове, в комплексе «Ленэкспо», в двух больших павильонах. Джозеф и Рита прибыли как раз к рингу ротвейлеров и сразу побежали смотреть. Как-никак, родительская порода, а вдруг?..
К большому Ритиному унынию, бегавшие по рингу псы оказались сплошное разочарование. Эксперты могли сколько угодно цокать от восхищения языками и диктовать описания одно круче другого, однако Рите гладкие выставочные красавцы больше напоминали не в меру откормленные сардельки. Ни один из кобелей не мог сравниться с Чейзом ни мощью, ни атлетизмом сложения, ни спокойным достоинством взгляда. Не говоря уж о том, что всех этих диванных героев он бы попросту разогнал.
Около ринга стояли металлические загородки, там висели рекламы питомников и ползали симпатичные пузатенькие щенки, но Рите не хотелось туда даже заглядывать.
– Ну ничего, – подбодрил её Джозеф. – Не последний раз. Пошли просто так погуляем.
Они купили по фунтику горячего, только что обжаренного с пряностями сладкого миндаля и двинулись вдоль рингов, перешучиваясь и соревнуясь, кто медленнее опустошит свой кулёк.
– …Арийский молосс,[59] – донёсся с антресольного этажа, где располагалось кафе, усиленный динамиками голос зазывалы. – Первый в России помёт от собак, недавно вывезенных из Ирана…
«Арийский молосс?» Рита ощутила укол праздного любопытства. Каких-каких только справочников она за последнее время не перечитала, но этой породы в них не было.
– Пойдём посмотрим? – оглянулась она на Джозефа.
– Конечно. – И он повёл её наверх, ловко лавируя в толпе и присматривая, чтобы подругу никто не толкнул.
– Любимая собака Заратустры,[60] – продолжал зазывала. – Порода описывается в священных книгах Авесты, а это значит, что ей никак не меньше трёх с половиной тысяч лет. Зороастризм, кстати, признаёт собаку вторым по святости существом после человека. Вы знаете, что священные тексты подробно расписывают заботы и ответственность жителей деревни, в которую забрела беременная сука?..[61]
«Любимая собака… ЧТО???»
С некоторых пор Рита числила древнего пророка своим чуть ли не родственником.
Джозеф едва успел за ней уследить – она юркнула в толпу, собравшуюся кругом зазывалы, и мигом пробралась к самому ограждению.
Внутри верёвочного квадрата находился молодой человек с микрофоном и при нём две собаки – сука со щенками и кобель. Кобель, переливавшийся рыжим золотом, был громаден. За спиной этого охранника пребывали в безопасности и хозяин, и собачья мамка с детьми. Он ни на кого не бросался, но суровый взгляд маленьких глаз мгновенно урезонивал всякого, протянувшего над верёвками руку, заставляя поспешно отдёргивать её обратно. Если же рука тянулась в сторону щенков или указывала на них, в груди кобеля закипал тяжёлый глухой рык, который не перекрывали ни музыка, ни голос заводчика, вещавшего в микрофон.
Рита, впрочем, не слышала, что тот рассказывал. Она и кобеля-то почти не заметила. Она смотрела только на суку. Это была пушистая белоснежная красавица, очень похожая на среднеазиатскую овчарку, ну, может, с чуть более выпуклым лбом. В глазах светился несомненный разум. Рядом с матерью играли и кувыркались щенки – рыжий, белый и пегий.
– Атахш, – выдохнула Рита. – Атахш?!
Перепрыгнула ограждение и устремилась к собаке.
Кобель с рыком взлетел на ноги, подбираясь для сокрушительного прыжка, Джозеф, серея, бросил руку за пазуху, заводчик поперхнулся на полуслове… Неслышимый приказ суки остановил казавшееся неизбежным смертоубийство. Кобель сразу успокоился, зевнул и неспешно подошёл обнюхать Риту, со слезами обнимавшую далёкую внучку Атахш.
– А вот так наши собаки встречают друзей, даже когда те появляются неожиданно, – не растерялся находчивый зазывала. – Чувствуете, какая психика? – Потом наклонился к Рите и прошипел ей на ухо: – Девушка, вы что, спятили?.. Кстати, откуда вы знаете, как её зовут?
Белая красавица облизывала Рите лицо, стирая слёзы со щёк. В это время зашевелилась перевёрнутая картонка, служившая домиком щенкам, и оттуда, неуклюже переступая толстыми лапками, выбрался ещё один собачий ребёнок. Крупный, чёрно-подпалый и ужасно серьёзный. Выбрался и зашлёпал прямым ходом к Рите.
«Ну, здравствуй, что ли, хозяйка…»
Стены выставочного павильона закружились перед глазами. Рита подхватила тёплого щенка и прижала к груди, чтобы больше не отпускать.
– Здравствуй, Чейзик, – шептала она. – Здравствуй, малыш…