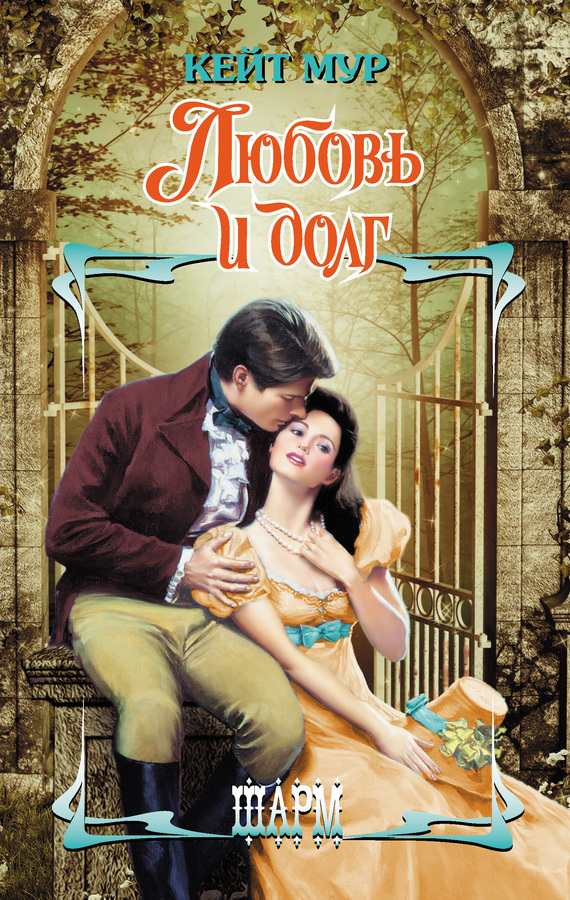…Ваш маньяк, Томас Квик Ростам Ханнес

— Примерно семь месяцев, — отвечаю я, думая о разговоре со Стюре.
— Семь месяцев? По сорок часов в неделю?
Боргстрём с недоверием смотрит на меня, когда я объясняю, что обычно работаю более сорока часов в неделю.
— Я просмотрел три дела, в которых участвовал, — Тереза, Аккаяуре и Леви, — говорит Боргстрём. — Когда я взглянул на свой счет, то увидел, что затратил на эти три дела тысячу часов.
— Тогда вы очень хорошо подготовлены, — одобрительно говорю я.
— Да, это означает, что я располагаю кое-какими знаниями.
Я решаю начать мягко и прошу Боргстрёма рассказать, как он стал адвокатом Квика.
— Он позвонил мне в разгар следствия по так называемому двойному убийству на Аккаяуре и спросил, готов ли я его представлять. Само собой, я ответил на этот вопрос «да». Затем получилось так, что я представлял его интересы в четырех судах в течение четырех лет.
Боргстрём рассказывает, не нуждаясь в моих вопросах, и вскоре подходит к специфике защиты серийного убийцы, который по собственному почину рассказывает о своих преступлениях.
— Для защиты эта ситуация не является уникальной, мне доводилось защищать и других людей, признававшихся в убийстве.
— Даже когда против них не было никаких подозрений?
— Обычно бывало так, что подозрения существовали, а потом следовало признание, — поясняет Боргстрём.
Клаэс Боргстрём тщательно подчеркивает, что одного признания недостаточно и оно должно подтверждаться иными доказательствами. В случае с Томасом Квиком дополнительными доказательствами являлось то, что он раз за разом рассказывал детали, о которых мог знать только сам исполнитель преступления. В качестве примера адвокат приводит убийство Терезы Йоханнесен.
В ответ я показываю Боргстрёму фото каменного мешка, каким является пригород Фьель и который Квик описал как деревню с разбросанными по большой территории низенькими коттеджами на одну семью. Затем показываю фотографию Терезы, с черными волосами и оливковой кожей, которую Квик описал как блондинку, затем — реконструкцию одежды Терезы на момент исчезновения.
— Почему Квик делал так много ошибок, когда пытался рассказать о своих убийствах? — спрашиваю я.
— Если вы просмотрите все материалы дела, то найдете гораздо больше ошибочных сведений, — отвечает Боргстрём. — Это всего лишь несколько примеров.
Квик сказал также, что на Терезе были розовые спортивные брюки и лакированные туфли, а также что у нее были большие передние зубы. Боргстрём смотрит на принесенные мной снимки Терезы на момент исчезновения: джинсовая юбочка, мокасины и дырка в том месте, где передние зубы должны были вырасти.
— Но ведь потом он изменил свои показания и сказал, что у нее темные волосы. И он рассказывал о застежках, которые были у нее на сандалиях. Он осужден потому, что сообщил сведения, которые при проверке оказались верными и которые невозможно объяснить иначе, кроме как тем, что он присутствовал при совершении преступления.
Клаэс Боргстрём явно человек умный, и мне хочется верить, что он честен в своих мыслях. Одержимый желанием прояснить ему ситуацию, я пытаюсь рассказать, как Квик получал информацию. Упоминаю серию статей в норвежской газете «Верденс Ганг», откуда Квик, что было доказано, черпал информацию для своего первого признания.
— Не всю информацию, — протестует Боргстрём.
— Всю, — говорю я.
— Но не об экземе на локтевых сгибах! — возражает Боргстрём.
— Нет, но эти сведения возникли много позже!
— Но вы говорите, что он получил всю информацию!
— Я сказал, что он получил всю информацию, необходимую ему для признания в убийстве, — говорю я с некоторым отчаянием. — Он говорит, что она блондинка! И описывает совсем другую одежду, чем та, что была на ней. Все неверно!
— Не все, — не соглашается Боргстрём. — Про заколки в волосах правильно — и про пряжки на обуви.
Факт заключается в том, что в момент исчезновения волосы Терезы были заколоты синей заколкой и схвачены резинкой. После восьми месяцев полицейских допросов Квик заявил 14 октября 1996 года, что у Терезы была повязка в волосах — то есть не заколка и не резинка — вероятно, оранжевого цвета. И еще через год следствия, 30 октября 1997 года, он продолжал утверждать, что на ней была повязка.
Я понимаю, что моя стратегия — представить обстоятельства и дать возможность интервьюируемому изложить свой взгляд на них — не срабатывает.
Каким образом Клаэс Боргстрём, выставивший счет на тысячу часов, может быть настолько плохо информирован? Возможно ли, чтобы он пропустил очевидный факт: Квик делал столько ошибок в своем рассказе, что такого же результата можно было бы достичь, называя все наобум?
Я оказался одним из тех мелких сутяг, которые обсуждают мельчайшие детали, понятные и интересные лишь узкому кругу людей. Это очень, очень плохое телевидение.
— Дьявол прячется в деталях, — говорю я себе под нос и упорствую в своих идиотских попытках объяснить, как СМИ снабжали Квика информацией.
Боргстрёму это неинтересно. Для него дело закончено, Квик осужден за восемь убийств, а сам он наверняка уже жалеет, что согласился дать интервью.
Я протягиваю письмо, которое Квик написал норвежскому журналисту Коре Хунстаду. Боргстрём читает:
«Я встречусь с тобой при условии, что получу 20000 крон (мои стереоколонки сломались, и мне нужны новые) и что ты, когда придешь, принесешь мне квитанцию, подтверждающую, что деньги занесены на мой счет. Клаэс об этом знает, так что тебе необязательно связываться с ним. Если тебя устроят эти условия, то обещаю тебе хорошее интервью — мне будут оплачены мои усилия, а ты получишь в обмен отличную историю».
Прочтя письмо, из которого явствует, что Боргстрём прекрасно отдавал себе отчет в коммерческой стороне признаний Квика, он смотрит на меня исподлобья и произносит с наигранным равнодушием:
— Насколько болен человек, это написавший? «Если мне дадут двадцать тысяч, я признаюсь в одном убийстве, которого не совершал». Чтобы оказаться за решеткой до конца своих дней. Те, кто считают, что он невиновен, на самом деле описывают человека настолько больного, как будто он совершил все эти преступления.
Кажется, адвокат приходит к выводу, что не имеет значения, виновен его клиент или нет, — судя по всему, он сумасшедший, независимо ни от чего. Рассуждения Боргстрёма невольно подталкивают нас к следующей теме.
— Вам известно, что Квик злоупотреблял бензодиазепинами в период всего следствия?
— Я не буду высказываться по этому поводу, — недовольно отвечает Боргстрём. — Но я знаю, что у него были проблемы со злоупотреблением, да. Но не тогда, когда он находился в Сэтерской больнице, — добавляет он.
— Да нет же, именно тогда.
— Злоупотреблял?
— Да. В Сэтерской больнице это называлось «экстренный прием лекарств». Он мог свободно выбирать среди нескольких видов бензодиазепинов, — говорю я.
— Я не принимаю этого утверждения!
— Это оценка тогдашнего главврача, а не моя, — поясняю я.
— Я не принимаю этого утверждения, — повторяет Боргстрём и тем самым ставит точку в обсуждении приема препаратов.
Я меняю тему и перехожу к обсуждению убийства Йенона Леви и поведения ван дер Кваста по поводу найденных очков, когда он проигнорировал мнение Государственной криминалистической лаборатории, чтобы получить заключение, делающее возможным объявить Квика виновным.
— Я не адвокат прокурора, но я не могу отделаться от ощущения, что это инсинуация, — что прокурор не удовлетворился, пока не получил заключение, говорящее в этом направлении, — говорит Боргстрём.
— Меня удивляет, что вы не использовали этот документ в зале суда.
— Да, я слышу, что вы удивлены, — отвечает Боргстрём с сарказмом. — Без комментариев!
Я вынимаю новый документ — таблицу, где отмечены восемнадцать обстоятельств, которые, по словам экспертов, противоречат рассказу Квика о Леви. Это весомые доказательства — наподобие того, что отпечатки шин на месте преступления не соответствуют той машине, которой, как утверждает Квик, он воспользовался. Квик сказал, что закатал тело Леви в собачье одеяло, но никаких собачьих волос или волокон одеяла на теле Леви обнаружено не было; следы крови на обуви Леви не совпадали с описанной Квиком последовательностью событий; пятна земли на одежде Леви происходят с места обнаружения тела, а не из того места, о котором говорит Квик.
Эксперт-криминалист Эстен Элиассон подводит итог таблице следующими словами: «В результатах исследования криминалистической экспертизы нет ничего конкретного, подтверждающего рассказ Квика».
— Вот здесь восемнадцать находок экспертов, опровергающих рассказ вашего клиента, — говорю я Боргстрёму.
— Да? А может быть, больше? — переспрашивает Боргстрём.
— Вы как-то использовали это?
— Как бы я мог это использовать?
— Я могу представить себе, что несколькими способами, но как адвокат вы знаете это лучше, чем я.
— Поскольку вы сами не можете сформулировать, как я должен был это использовать, то я не буду отвечать на этот вопрос.
Боргстрём полностью отрицает ценность того, что я ему предъявляю. По его словам, материалы следствия настолько обширны, что в них можно найти доказательства любой гипотезы. Даже если я найду девяносто неверных сведений и десять верных — это не имеет значения.
— Достаточно одной верной детали, — утверждает Боргстрём.
Я начинаю сомневаться, что правильно понял его, и переспрашиваю:
— Девяносто девять неправильных и одна правильная?
— Да, если эта правильная достаточно весома, чтобы привязать человека к преступлению. В конечном итоге это оценивает суд.
— Вы можете назвать такую деталь?
— Нет, я не намерен этого делать, но их достаточно много. Надо читать решения суда. Вот так обстоит дело.
Клаэс Боргстрём может спокойно сослаться на единогласное решение шести судов, установивших, что Стюре Бергваль виновен в убийстве восьми человек. Если Квик что-то указал неправильно в девяноста восьми или девяноста девяти случаях из ста, это не меняет главного: решение шведского суда неизменно.
— Канцлер юстиции говорит, что решения очень хорошо сформулированы. Они показывают, как суд размышлял, чтобы прийти к неоспоримому выводу. Мое мнение в данном случае не имеет никакого значения, это оценка суда, — скромно заявляет Боргстрём.
— В некоторых отношениях основания для принятия судом решения не отражают фактического положения дел, — утверждаю я. — Решения суда не дают исчерпывающей картины того, как выглядят доказательства.
— Может быть, не другие, как вы полагаете, сделали неправильную оценку, а вы сами? — возражает Боргстрём.
— Речь идет о фактах, которые легко проверить.
— Нет, — протестует Боргстрём. — Трудно проверить. Вы говорите о столь обширных материалах, что из них легко вырвать части, подтверждающие ту или иную гипотезу.
Интервью продолжается уже больше часа, и мы никуда не продвигаемся. Боргстрём уверен, что я выдумываю какие-то глупости, хотя и признает, что я хорошо подготовлен.
Однако я приберег самый драматический момент под конец, когда интервью уже подходит к завершению. Стараясь контролировать голос и выражение лица, я произношу:
— Ваш бывший клиент, Томас Квик, взял назад все свои признания и утверждает, что он невиновен.
— Да? Ну… возможно, он это и сделал, — растерянно бормочет Боргстрём.
Он пытается охватить смысл такого неожиданного поворота событий — мгновенно оценить возможные последствия для себя, а также столь же мгновенно выработать стратегию для продолжения интервью. Тот факт, что он сам разговаривал со Стюре Бергвалем всего за несколько минут до нашей встречи, наверное, никак не вяжется со всем остальным. Боргстрём щурится под челкой и спрашивает:
— Это его позиция сегодня? Что он невинно осужден?
Я подтверждаю, что дело обстоит именно так. Боргстрём напряженно думает, на лице его появляется чуть заметная улыбка, и к нему возвращается желание бороться.
— Не думаю, что вам следует так уж полагаться на то, что это его нынешняя позиция.
— Да нет, в этом я совершенно уверен, — говорю я.
Тревожная тень промелькивает по лицу Боргстрёма.
— Вы разговаривали с ним сегодня? — спрашивает он.
— Да, разговаривал.
— Когда?
«Теперь ты действительно хватаешься за последнюю соломинку», — думаю я.
— Я не хочу вдаваться в детали, — отвечаю я наконец. — Это не имеет значения. Я знаю, что это — нынешняя позиция Стюре.
— Типичный случай, — разочарованно говорит Боргстрём. — И вы, конечно, не связаны обязательством сохранять конфиденциальность?
Интервью переходит в режим разговора — вероятно, потому, что ни один из нас не в состоянии продолжать. Я рассказываю о приеме Квиком препаратов и об истинной причине того тайм-аута, который он объявил семь лет назад.
В точности как Кристер ван дер Кваст в интервью накануне, Боргстрёмперескакивает от большого уважения к вероятности того, что Квик осужден невинно, к отчаянной защите того правового процесса, частью которого сам являлся.
— Вне зависимости от того, какую позицию Томас Квик займет в будущем, ни вы, ни кто-то другой никогда не сможет дать ответ, как все было на самом деле. А пока решение судов неизменно.
И в этом он совершенно прав.
— Ваша совесть спокойна по поводу вашего участия в деле Томаса Квика? — спрашиваю я.
— Я не способствовал тому, чтобы кого-то осудили невинно, — отвечает Боргстрём.
— Это очень смелое утверждение, — говорю я.
— Хорошо, тогда я хотел бы добавить еще одно слово: я не способствовал осознанно тому, чтобы кого-то осудили невинно.
Боргстрём считает, что мне следовало бы подумать над тем, почему Томас Квик сделал то, что он сделал. Я отвечаю, что именно этому вопросу я посвятил много месяцев работы.
Адвокат сомневается, что это так, и напоследок хочет дать мне материал для размышлений.
— Квик попал в Сэтерскую больницу в тысяча девятьсот девяносто первом году, осужденный за разбой. Сейчас две тысячи восьмой — и его никогда не выпустят, даже если он добьется пересмотра дела.
— Разве этот вопрос не находится за пределами вашей компетенции? — спрашиваю я.
— Это так, но я могу дать свою оценку.
— Когда вы в последний раз встречались со Стюре?
— Давно.
«И тем не менее ты готов осудить своего бывшего клиента на пожизненное заключение», — думаю я, не озвучивая, однако, эту мысль.
Атмосфера в адвокатской конторе «Боргстрём и Будстрём», мягко говоря, ледяная, когда мы прощаемся.
Системная ошибка
Клаэс Боргстрём оставался для меня самой большой загадкой в деле Томаса Квика. Он слишком умен, чтобы не увидеть мошенничества, происходившего в течение многих лет, — с другой стороны, слишком честен, чтобы осознанно участвовать в таком правовом скандале, как этот.
Кто он такой? И какие мысли на самом деле скрываются под его мальчишеской шевелюрой?
Когда интервью с Кристером ван дер Квастом и Клаэсом Боргстрёмом записаны, до выхода передачи в эфир остается менее четырех недель. Теперь надо привести в порядок еще несколько деталей. Я делаю последнюю попытку вырвать фрагменты костей для независимой экспертизы, а Йенни Кюттим гоняется за пропавшими протоколами допросов.
Гюн, сестра-близнец Стюре, нашла дневниковую запись, где она указала, когда и кто ее допрашивал. Дело было утром в пятницу 19 мая 1995 года, и допрашивала ее Анна Викстрём вместе с полицейским из той местности, где Гюн тогда жила. Мы и ранее не раз пытались получить этот протокол — как и протоколы других допросов братьев и сестер Стюре, и теперь Йенни звонит Сеппо Пенттинену, чтобы, основываясь на точных данных Гюн, напомнить ему: намеренное сокрытие официальных документов карается законом.
Поздно вечером в тот же день протокол выползает из факсового аппарата в редакции шведского телевидения. Из протокола ясно, что он относится к следствию по делу об убийстве на Аккаяуре.
На следующий день я буквально набрасываюсь на этот документ.
Гюн начинает с того, что описывает состав семьи и жилищную ситуацию. Она говорит, что «школьные годы и время, проведенное с семьей, в целом были светлыми».
По словам Гюн, она всегда воспринимала Стюре как очень одаренного и знающего. Она упоминает также, что он всегда читал газеты, следил за новостями, что давало ему очень широкий кругозор. Она рассказывает также, что брат с юных лет начал интересоваться политикой.
Между тем Стюре не увлекался спортом, отчего мало общался с мальчиками из своего класса. По этой причине Стюре часто оказывался не принятым в компанию сверстников и общался в основном с Гюн.
Иногда Гюн казалось, что порой мальчишки дразнили Стюре и издевались над ним, — она вспоминает, как одноклассники один раз заперли его в деревянном туалете на скотном дворе.
Насколько Стюре страдал от тех издевательств, которые имели место, Гюн сейчас вспомнить не может.
Общение с другими членами семьи было интенсивным, и Гюн упоминает, что сама она в основном общалась с братьями.
Далее Гюн вспоминает, что в старших классах Стюре тратил много времени на выпуск школьной газеты.
Что касается семьи, то Гюн помнит свое детство в самых радужных тонах. Она отмечает, что отец бывал вспыльчив, и у нее сохранились воспоминания, что он несколько раз швырял кастрюли об пол. В чем была суть конфликта, она не помнит, но говорит, что все потом разрешилось.
В психотерапевтических беседах Стюре рассказал, что подвергался сексуальному насилию со стороны родителей, и Гюн комментирует, что эта информация вызвала у нее шок. По ее словам, ей представляется совершенно невероятным, чтобы в их семье происходило нечто подобное. Даже задним числом, анализируя свое детство, она не может себе представить, что такое могло иметь место.
Гюн дает также положительное описание пребывания в Йоккмокке, где они со Стюре учились в Саалеской народной школе. Однажды она обнаружила, что Стюре бродит вокруг общежития и кричит. Ей удалось успокоить его, но она так и не узнала, в чем была причина. Уже тогда она заподозрила, что он употребляет наркотики. Пребывание Стюре в различных лечебных учреждениях она также связывает с употреблением наркотиков.
В том, что касается признаний, сделанных Стюре, у Гюн есть много вопросов по тем сведениям, которые она получила в ходе следствия, а также по поводу того, что публиковалось в СМИ. Она говорит, что все действия, якобы совершенные Стюре в этот период, для братьев и сестер — сплошной знак вопроса. Причина кроется в том, что в семье они никогда не замечали ничего особенного в отношении Стюре, за исключением злоупотребления наркотиками, с чем, как все считали, он борется.
Ранее в допросе затрагивалась тема сексуального насилия родителей по отношению к Стюре. Гюн говорит, что это утверждение звучит для нее совершенно дико. И что должны существовать другие причины, почему Стюре совершил то, что ему вменяют в вину. Она упоминает, как сама размышляла по поводу нескольких случаев, когда Стюре падал и так сильно ударялся, что терял сознание.
Под конец Гюн просят кратко описать свою семью.
Мать Тюра. Заботилась о семье. Веселая, всегда готовая прийти на помощь.
Отец Уве. Немногословный и задумчивый, но всегда справедливый.
Старшая сестра Руна. Веселый и симпатичный человек.
Стен-Уве. Тяжелый характер, его трудно понять, он аналитик, иногда бывает вспыльчив, но добр.
Турвальд. Очень милый человек, живет своей жизнью.
Эрьян. Человек, который так и не стал взрослым, но всем желает добра.
Стюре. Симпатичный, открытый и умный человек.
Эва. Всегда воркует, веселая, открытая.
Для нас с Йенни документ является обнадеживающим знаком, что все протоколы допросов, которых мы недосчитались, все-таки сохранились и что они находятся у Сеппо Пенттинена. Правда, он послал нам только один из двух протоколов допросов Гюн Бергваль — тот, по поводу которого мы могли точно указать время и место его проведения.
Второго допроса, где она рассказывает о конфирмации и где содержится алиби Стюре на момент убийства Томаса Блумгрена, мы пока еще в глаза не видели.
Однажды утром, сидя в поезде по пути в Стокгольм, я по наитию набираю номер канцлера юстиции Йорана Ламберца. Спрашиваю, найдется ли у него время выпить со мной сегодня чашечку кофе, и он отвечает, что я могу прийти к нему в офис.
Стоит ясное зимнее утро, когда я иду от Центрального вокзала через мост на остров Риддархольмен в роскошный дворец канцлера юстиции. Ламберц принимает меня в своем пышно обставленном кабинете на втором этаже.
Служба канцлера юстиции — это учреждение, выполняющее множество разнообразных, нередко противоречащих друг другу функций.
Канцлер юстиции — главный уполномоченный правительства и адвокат государства. В этом качестве он или она является юридическим консультантом правительства и представляет государство в делах в суде. Например, если государство нарушило права гражданина, канцлер юстиции выступает как адвокат государства и защищает государство от гражданина. С другой стороны, канцлер юстиции осуществляет надзор за деятельностью государственных органов и судов от имени правительства, являясь главным гарантом правовой защиты и неприкосновенности граждан. Если государство совершило ошибку — например, приговорило невиновного к лишению свободы, — именно канцлер юстиции определяет уровень компенсации.
Короче говоря, это очень специфическая конструкция. Сам по себе канцлер юстиции является воплощением «доброго» государства, неподкупного шведского чиновника и мысли о том, что кто-то там, наверху, желает гражданам блага и стоит выше всех самых немыслимых конфликтующих интересов.
Перед запланированным уходом с этого поста Ханса Регнера в 2001 году министр юстиции Лейла Фрейвальдс захотела составить список кандидатов на эту должность. Задание было дано Йорану Ламберцу, главе юридического отдела Министерства иностранных дел, который много позднее рассказал:
— Я представил Лейле Фрейвальдс несколько имен и назвал преимущества каждого кандидата. А затем закончил свою презентацию словами: «Но более всего мне бы хотелось самому занять этот пост».
Так и вышло, и Йоран Ламберц создал себе имидж борца за законность. Он открыто заявлял, что в тюрьмах сидит немало невинно осужденных, что полицейские лгут, выгораживая своих коллег, и что судьи порой бывают ленивы. К всеобщему удивлению, Ламберц занимался и отдельными делами — написал ходатайство о пересмотре дела для осужденного за убийство, который, по мнению Ламберца, был осужден ошибочно. В Швеции появился бесстрашный канцлер юстиции, часто выступавший в СМИ и не боявшийся идти против сильных мира сего. Можно с уверенностью сказать, что он завоевал всенародную любовь.
В мае 2004-го Йоран Ламберц начал «Проект правовых гарантий канцлера юстиции», и два года спустя вышел отчет «Ошибочно осужденные». Отчет строится на материалах пересмотренных дел, начиная с 1990-го, где тюремное заключение превышало три года и где осужденный был полностью оправдан при новом рассмотрении дела.
В отчете констатировалось, что ходатайства о пересмотре дела были до 1990 года исключительно редкими. Три из пересмотренных дел касались известных, много обсуждавшихся убийств. Прочие же превратили отчет в бомбу: восемь из одиннадцати случаев ошибочного осуждения касались преступлений на сексуальной почве, большинство из которых были к тому же направлены на детей и подростков.
Во многих случаях девочки-подростки в беседах с психологами и психотерапевтами обвиняли своих отцов или отчимов в сексуальном насилии.
Множество независимых юристов, в том числе Мадлен Лейонхювуд и Кристиан Дисен, давно и активно участвовавшие в борьбе против сексуальных преступлений по отношению к детям, сурово критиковали этот отчет и требовали отставки Йорана Ламберца.
Тут уместно будет сказать, что сам я в данном случае отнюдь не беспристрастен, так как два из пересмотренных дел в отчете канцлера юстиции стали результатом дела, которое я проверял и о котором делал репортажи. Это были оба мужчины из «дела Ульфа», где дочь во время психотерапевтической беседы в реабилитационном центре рассказала об исключительно драматичных сценах сексуального использования с сатанинскими моментами, а также о ритуальных убийствах, в то время как большое количество доказательств, подтверждающих, что девочка говорила неправду, были скрыты полицией, прокурором и главным прокурором.
Основная линия фронта в дебатах вокруг отчета канцлера юстиции — какие свидетельские показания считать достоверными? какова роль психотерапевта и прокурора в правоохранительной системе? — во многом совпадала с линией фронта по приговорам Томаса Квика, и те участники дебатов, которые стояли на стороне Ламберца в спорах о правовых гарантиях, очень часто критически относились и к делу Квика.
Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что в начале своего срока в должности канцлера юстиции Йоран Ламберц нередко высказывал серьезные сомнения в том, что Томас Квик виновен в тех убийствах, за которые был осужден. Родители Юхана Асплунда встречались с Йораном Ламерцем и испытали ощущение, что впервые столкнулись с представителем власти, который понял их и воспринял их слова всерьез.
— Канцлер призвал нас подготовить материалы, чтобы он мог провести проверку всех восьми приговоров против Томаса Квика, — рассказывает мне Анна-Клара.
Написать заявление было поручено адвокату Пелле Свенссону, который являлся юридическим представителем Асплундов, когда они в 1984 году выступили с частным обвинением против бывшего сожителя Анны-Клары. 20 ноября 2006 года Свенссон подал канцлеру юстиции свое заявление на 63 страницах, а в дополнение к нему — несколько коробок, содержащих все решения судов, материалы следствия и прочее.
За заявлением, составленным Пелле Свенссоном, стояли Анна-Клара и Бьерн Асплунд, а также брат Чарльза Зельмановица Фредерик, который никогда не верил в виновность Квика.
Когда неделю спустя канцлер юстиции сообщил свое решение по поводу Томаса Квика, все были ошарашены. Неужели он действительно успел и ознакомиться со всеми материалами, и написать решение всего за неделю? Решение звучало так:
«Канцлер юстиции не начинает рассмотрения дела и не принимает никаких иных мер по данному делу».
Решение канцлера юстиции состояло из восьми страниц и заканчивалось таким резюме:
«Приговоры суда, оглашенные Томасу Квику, в главном очень хорошо написаны и проработаны. Среди прочего в них содержится подробный отчет об оценке доказательств, проведенной судом».
Ламберц похвалил также Кристера ван дер Кваста и Сеппо Пенттинена:
«С учетом той серьезной критики, которой подвергли составители заявления прокурора и следователя, я хочу особенно подчеркнуть, что материалы следствия не дают оснований для иного вывода, чем тот, что эти лица выполнили свою работу на высоком профессиональном уровне».
Решение положило начало различным догадкам и рассуждениям по поводу истинных мотивов Йорана Ламберца, заставивших его так быстро и легкомысленно отказаться от рассмотрения дела Квика. Особенно удивительно прозвучали положительные отзывы о прекрасной работе полиции, прокурора и судов в этом непростом деле.
На тот момент Йоран Ламберц сам держал оборону, поскольку нажил себе врагов в полиции, прокуратуре и судейском сообществе. Сюда следует добавить часть журналистского сообщества, поскольку он обвинил главного редактора «Экспрессен» в нарушении свободы слова, и несколько групп, посвятивших себя борьбе с сексуальными преступлениями. Иными словами, его дальнейшее пребывание на посту канцлера юстиции было под вопросом.
Сам Йоран Ламберц категорически отрицал, что учитывал чьи-либо посторонние интересы. Я сам относился к тем, кто недоумевал по этому поводу, и теперь мне выпала возможность лично задать канцлеру вопрос, что же он успел изучить, прежде чем принять столь поспешное решение.
— Я прочел только решения судов, — признается он. — Я прочел их два раза, второй раз — с красным карандашом в руке.
В остальном канцлер положился на своих помощников, которые ознакомились с материалами, — по крайней мере частично. Во время своего визита я встречаю одного из этих помощников, на которых так полагался Ламберц. Судя по виду, он только что окончил университет и наверняка счел «дело», представленное Пелле Свенссоном, совершенно скучным. Когда мы сталкиваемся с молодым человеком у кофейного автомата, Йоран Ламберц весело окликает его:
— У вас обоих есть один общий интерес!
Мы пожимаем друг другу руки, и молодой юрист холодно произносит:
— Да, но мы придерживаемся разных точек зрения.
— Именно, — соглашаюсь я. — Давайте вернемся к этому разговору спустя несколько лет — тогда и посмотрим.
Мне становится немного жаль его. Максимум пять рабочих дней было у него, чтобы составить представление об этих исключительно объемистых и запутанных материалах. Его куда более опытный коллега Томас Ульссон потратил несколько месяцев труда на то, чтобы просмотреть только одно из многочисленных дел. Но проблема заключалось в том, что именно этот юный розовощекий юрист снабдил Ламберца основаниями, легшими в основу его, без сомнений, самого фатального решения на посту канцлера юстиции.
Решение Ламберца забило последний гвоздь в крышку гроба, погасило луч надежды для Пелле Свенссона, Асплундов и многих других, кто верил: Ламберц наконец-то разберется в этом правовом скандале. С другой стороны, это стало козырем стороны обвинения во всех дебатах: вопрос был рассмотрен и одобрен самой высокой инстанцией. Сам я раз за разом наталкивался на этот аргумент: когда-то его выложил мне Губб Ян Стигссон в ходе нашей давней встречи в Фалуне, а в последний раз — Клаэс Боргстрём во время интервью в своем офисе.
Поэтому меня поражает, как легко Йоран Ламберц относится к вопросу, когда мы обсуждаем суть дела. Я рассказываю о своих находках, начинаю с первого приговора и объясняю, как я пришел к тому, что в деле нет никаких доказательств. Я показываю, что, напротив, существует множество фактов, доказывающих, что Квик не имел никакого отношения к исчезновению Чарльза Зельмановица, и демонстрирующих, как повел себя прокурор, чтобы обойти эту проблему.
Ламберц с интересом слушает, и встреча продолжается в духе открытости. Я рассказываю о том, что Стюре взял назад свои признания, и проговариваю одно дело за другим. Постепенно наступает время обеда, мне пора уходить. И тут Ламберц объясняет мне примерно следующее: все, что я рассказал, очень интересно, но никакого значения не имеет. Ибо главная загадка остается: как Квик смог рассказать о Трине и Грю? Как мог провести полицейских прямо до места находок?
Я вынужден признаться, что с этими делами я знаком хуже всего и потому не могу с ходу дать ответ.
С этой встречи я выхожу с чувством глубокого разочарования. Мне всегда нравился Йоран Ламберц, я считал его человеком чести. То, что я рассказал, должно было вызвать хоть какое-то раскаяние, но я его не наблюдаю.
В этот момент, когда я иду по улице, удаляясь от офиса канцлера юстиции, в сознании моем четко формулируются две мысли: во-первых, те силы, которые защищают непогрешимость правоохранительной системы, гораздо непоколебимее, чем я до сих пор считал; во-вторых, история с Квиком будет продолжаться до тех пор, пока в ней не исчезнет последний знак вопроса, а это означает, что моя работа далеко еще не закончена.
Документальные фильмы на шведском телевидении
Мои два первых фильма о Томасе Квике вышли в эфир на шведском телевидении в программе «Документ» 14 и 21 сентября 2008 года.
Что же за историю я рассказывал?
Примерно такую: судебно-психиатрическая клиника пичкала лекарствами пациента, помещенного на принудительное лечение, превратив его в наркомана. Затем его подвергли интенсивной психотерапии, которая вкупе со всеми прочими обстоятельствами и свободным доступом к наркотическим препаратам подвела пациента к тому, чтобы сознаться в тридцати убийствах.
Несмотря на то что пациента неоднократно ловили на лжи, прокурору, следователям, врачам, психотерапевтам и экспертам разного пошиба удалось довести восемь из его признаний до суда. По единогласному решению шести судов первой инстанции пациент признан виновным во всех случаях.
В моей передаче пациент взял назад все свои признания в убийствах и заявил, что никогда в жизни не убил ни одного человека.
Первые две передачи довольно подробно рассказывали о всяких странностях при расследовании убийств Терезы Йоханнесен, супругов Стегехюз близ Аккаяуре и Йенона Леви в Рёрсхюттане. Но самым главным новым обстоятельством являлось, конечно же, то, что Стюре Бергваль, серийный псевдоубийца, утверждал, что он невиновен.
Часть третья
Критика — сплошная чушь. Я не вижу ничего ошибочного в своих действиях, как бы громко ни излагалась аргументация.
Старший прокурор Кристер ван дер Квастновостному агентству «ТТ»20 апреля 2009 года
Ветер переменился
Содержание моих передач привело к тому, что дело Томаса Квика еще раз вышло на первый план в новостных программах и на первые полосы газет. Уже в воскресенье 14 декабря 2008 года, вскоре после того, как Стюре Бергваль взял назад свои признания в конце первой передачи, адвокат Томас Ульссон заявил «ТТ», что Стюре Бергваль намерен ходатайствовать о пересмотре дел по всем убийствам, за которые он осужден. Первое ходатайство — в отношении убийства Йенона Леви — должно было быть направлено в Верховный суд сразу после Нового года.
На следующий день на шведском радио, в «Студии 1», Кристер ван дер Кваст перешел в контрнаступление.
— Это необоснованные утверждения, — заявил прокурор по поводу того, что он и Сеппо Пенттинен ввели в заблуждение суд. — Все открыто показано в материалах следствия. Неверно, что мы снабжали Квика сведениями.
Кроме того, он утверждал, что по-прежнему верит в виновность Квика:
— Наиболее весомым было то, что в каждом конкретном случае он сообщил сведения, которые мог знать только исполнитель преступления. Эти сведения сопоставлялись, среди прочего, с другими данными и заключениями судмедэкспертов. В каждом деле существовали дополнительные доказательства к его признаниям.
Сеппо Пенттинен решил вообще не давать комментариев. «Сейчас начинается пересмотр дел, и я не хочу высказываться, пока этот процесс не будет завершен», — сказал он «ТТ». Такую же стратегию выбрали Биргитта Столе, Свен-Оке Кристианссон и Клаэс Боргстрём.
Юридические эксперты — такие, как адвокат Пер Э Самуэльссон и генеральный секретарь адвокатского сообщества Анна Рамберг, высказались по поводу возможности для Стюре Бергваля добиться пересмотра дела и сочли, что шансы невелики, поскольку отказ от признания сам по себе не является основанием для пересмотра: «Для того чтобы ходатайство о пересмотре дела было удовлетворено, должны выявиться новые обстоятельства, которые суд не имел возможности учесть во время судебного разбирательства», — сказала Анна Рамберг в интервью «ТТ».
Несколько дней спустя ван дер Кваст снова согласился дать интервью газете «Свенска Дагбладет». Там он назвал мою передачу «низкопробной продукцией» расследующей журналистики и отогнал всех репортеров, тщетно пытавшихся задать ему вопросы, утверждением, что они «понятия не имеют, о чем идет речь». Он заявил, что в деле вообще не появилось никаких новых сведений, помимо того, что Стюре Бергваль взял назад свои признания.
Сам ван дер Кваст ударился в рассуждения, которые представлялись в высшей степени странными — особенно для посвященного. То, что история с пропавшими мальчиками-иммигрантами показывает: Квик придумывал убийства, почерпнув информацию из СМИ, с точки зрения ван дер Кваста — полнейший нонсенс.
— Он начал рассказывать об одном из этих мальчиков еще шестнадцатого ноября тысяча девятьсот девяносто четвертого года, до того, как этим делом заинтересовались газеты.
Я буквально не верил своим глазам. 16 ноября 1994 года Сеппо Пенттинен посетил Сэтерскую больницу, чтобы принять то, что он в своем меморандуме назвал «ассоциативным материалом», который «скорее всего, имеет связь с реальностью». Там Квик рассказывает об убийстве мальчика «примерно в 1988–1990 году». Из меморандума: «В этой связи в его сознании всплывает географическое название Линдесберг. Мальчик не говорил по-шведски. Квик произносит славянское имя, звучащее как „Душунка“. Мальчик был одет в джинсовую куртку, болотно-зеленый джемпер и джинсы с отвернутыми брючинами, которые были ему явно велики. Он был черноволосый, южной внешности».
Как мог Кристер ван дер Кваст на полном серьезе утверждать, что это имеет отношение к истории с двумя африканскими мальчиками в Норвегии?
Он продолжал перечислять все те «уникальные детали», которые Квик сообщил во время следствия, подтверждавшие его вину: грыжу яичек у Юхана Асплунда и его особую родинку, экземы на локтевых сгибах Терезы Йоханнесен, а также что Квик «смог описать травмы, полученные жертвами на Аккаяуре, ранее неизвестные за пределами следственной группы». И под конец — козырная карта: что Томас Квик в деле об убийстве Терезы привел следователей к месту в лесу, где он расчленил и сжег тело, — месту, помеченному служебной собакой, — и когда на этом месте провели раскопки, обнаружили обгоревшие фрагменты костей.
Ван дер Кваст также сильно сомневался, что возможен пересмотр хотя бы одного из дел.
— То, что сейчас происходит, — просто журналистские штучки. Я рассчитываю на то, что суды не станут поддаваться эмоциям и никакого пересмотра не будет, — сказал он.
В потоке новостных статей, хроник и колонок главного редактора выступила и настоящая жертва Стюре Бергваля — тот человек, которого он чуть не зарезал в студенческом общежитии в Упсале. В заметке в «Ньюсмиль» мужчина описывал это ужасное событие и выражал разочарование по поводу моего поведения.
«Когда я увидел вчера по телевидению программу о Томасе Квике, я почувствовал в ней сильный перекос — создается впечатление, что он не виновен в тех убийствах, за которые его осудили. Мне, который едва не принял смерть от рук Томаса Квика, или Стюре Бергваля, как он тогда назывался, трудно поверить, что он „мелкий преступник“, как его именуют Ян Гийу и другие хроникеры. […] По семейным причинам я ранее не рассказывал о том, что произошло тридцать пять лет назад, хотя молчание далось мне нелегко. Но когда теперь я вижу тот искаженный образ Квика, который представляют некоторые журналисты, то чувствую: мой долг — рассказать свою историю. Программа Ханнеса Ростама и хроникеры вечерних газет вызывают у меня тошноту».