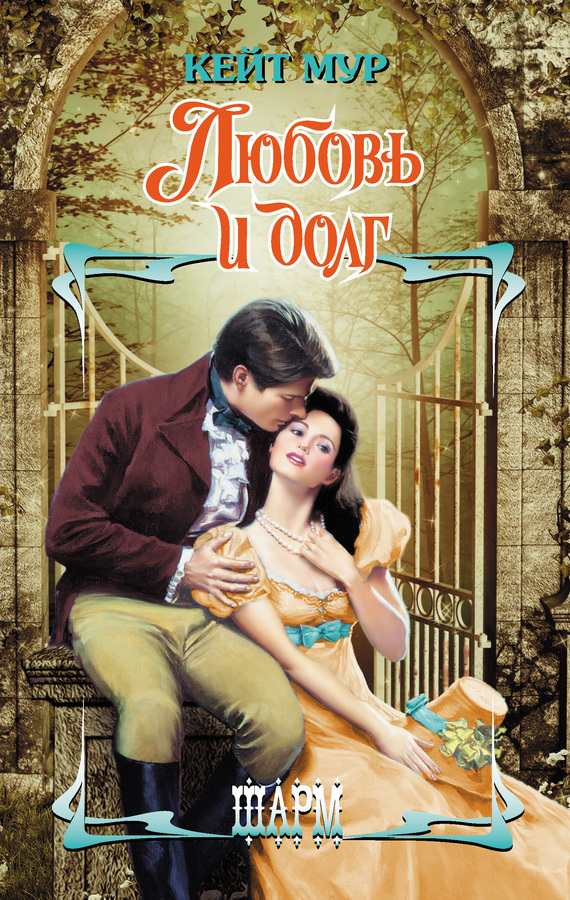…Ваш маньяк, Томас Квик Ростам Ханнес

Увлечение вытесненными воспоминаниями, воскрешенными на психотерапевтических сеансах, сейчас воспринимается с большим скепсисом, в том числе и в правоохранительных органах по всему миру, но в 90-е годы по этим теориям полностью выстраивалось лечение Томаса Квика и других преступников, находившихся в Сэтерской больнице.
Ни врачи, ни психологи ни на минуту не поставили под сомнение тот факт, что у Квика полностью отсутствовали воспоминания о совершенных им преступлениях, притом что он был самым ужасным серийным убийцей Швеции. Существовало распространенное мнение, которого все придерживались, что переживания такого рода настолько невыносимы, что воспоминания «диссоциируются» и скрываются в потайных уголках мозга. Никто не усомнился также в способности Столе вызывать эти воспоминания при помощи регрессии.
По мере того, как фрагменты воспоминаний начинали всплывать в памяти, подключался осознанный интеллектуальный процесс, где обрывки связывались — «интегрировались», — в то время как Биргитта Столе и ее странный пациент с ужасом обозревали открывающуюся перед ними картину — портрет серийного убийцы Томаса Квика.
Я знал, что Столе каждую неделю встречалась для консультации с гуру теории объектных отношений Маргит Нурель, обсуждая с ней терапию с Квиком, но ход их мыслей оставался тайной за семью печатями, как и то, каким образом строилась сама психотерапия. По поводу этого не сохранилось никакой документации — за исключением скудных и неподтвержденных воспоминаний Стюре Бергваля.
Биргитта Столе вела подробные записи каждой психотерапевтической беседы. После того, как Стюре в разговоре со мной взял назад все свои признания, он требует предоставить ему возможность прочесть эти записки, которые с юридической точки зрения являются частью его карточки.
Ответ потрясает: Столе утверждает, что она уничтожила все записи.
Стюре рассказывает также, что Маргит Нурель и Биргитта Столе написали книгу о Томасе Квике. Авторы выражали уверенность, что книга о психотерапии с Квиком станет эпохальным научным трудом того же уровня, что и «Случай человека-волка» Зигмунда Фрейда.[33] Но по неизвестным причинам книга так и не была опубликована. Мы со Стюре осознаем, что никогда не получим доступа к рукописи.
Таким образом, моим единственным источником информации по поводу десятилетней психотерапевтической работы Биргитты Столе с серийным убийцей Квиком является Стюре Бергваль — человек, занимающий последнее место в Швеции по уровню доверия к его словам.
После того, как Стюре Бергваль взял назад свои признания, руководство больницы применяет к заупрямившемуся серийному убийце ряд репрессивных мер. Среди прочего отменяются некоторые степени свободы — так, принимается решение снять жалюзи, защищающие его комнату от солнечного света и посторонних глаз, а также убрать те книжные полки, книги и диски, которые он в течение двух десятилетий держал у себя в комнате.
Когда Стюре упаковывает в коробку содержимое последней книжной полки, он находит в одной из них, под кучей старых виниловых пластинок, потрепанную папку без этикетки. Стюре открывает папку и с удивлением читает первые строки на первой странице:
«ВСТУПЛЕНИЕ
Цель данной книги — описать очень сложный и необычный психотерапевтический процесс, который я в качестве консультанта отслеживала в период с 1991 по 1995 год…»
Стюре не верит своим глазам — он обнаружил рукопись Маргит Нурель и Биргитты Столе, которую мы все считали утраченной. Он читает дальше:
«До того, как начался психотерапевтический процесс, Стюре не обладал никакими воспоминаниями детства до 12-летнего возраста. Контакт с теми убийствами, которые он совершил, — первое из них в 14-летнем возрасте — впервые установился в психотерапевтическом процессе. Он никоим образом не являлся подозреваемым в этих преступлениях со стороны полиции. Когда убийство и связанные с ним детали сделались достаточно отчетливыми в процессе психотерапии, Стюре сам попросил полицию приехать к нему для допроса и проведения следствия».
Несколько дней спустя я держу в руках вожделенную рукопись. Четыреста четыре страницы неотредактированного текста, местами нечитаемого из-за запутанности рассуждений и нагромождения специальной терминологии, однако это, несомненно, оно — описание терапии с Томасом Квиком, сделанное самими психотерапевтами.
Во время своих ранних сборов информации о Томасе Квике я часто наталкивался на понятие «иллюзия Симона». Я догадался, что это центральная тема в психотерапии, однако мне было сложно понять, какого рода иллюзия имелась в виду. Как только мне предоставляется возможность, я обращаюсь к Стюре за разъяснениями.
— Симон появился во время терапии с Биргиттой Столе. Он родился в связи с сексуальными посягательствами на меня со стороны отца и матери. Я уже не помню, что я рассказывал, но ему отрезали голову. Затем этого зародыша завернули в газеты, положили на багажник велосипеда, и мы с папой поехали и закопали этого мертвого ребенка возле Фрембю-удде.
Стюре было четыре года, когда он наблюдал убийство своего младшего брата, и зародилась идея, что Стюре пытается «починить Симона», снова сделать его живым и здоровым. Каким-то образом это представление трансформировалось в идею, что Стюре мог «овладеть жизнью», убивая сам. В терапии с Биргиттой Столе эти мысли переросли в объяснение тому, почему Стюре стал убийцей мальчиков.
Никто никогда не слыхал о Симоне, пока Томас Квик не рассказал о нем Биргитте Столе. По его словам, это фантазии чистейшей воды, созданные в психотерапевтическом кабинете.
Теперь же я держу в руках рукопись, в которой Столе своими словами описывает, как Томас Квик во время терапии пережил регресс и превратился в четырехлетнего мальчика, наблюдающего, как родители убили и расчленили его младшего брата Симона.
«Лицо перекошено от смертельного ужаса, рот открыт. Я, Биргитта Столе, могу разговаривать со Стюре, что доказывает, что он находится в глубоком регрессе, однако не потерял контакта с настоящим.
Первый удар ножа приходится на правую сторону тела и наносится матерью. Затем нож берет папа. Оболочка Стюре повторяет несколько раз: „Только не шею, только не шею“. Нож наносит удары по корпусу, затем отрезается правая нога.
М [мама] берет мясо Симона и засовывает в раскрытый от ужаса рот оболочки Стюре. Оболочка Стюре говорит: „Я не голоден“. Стюре говорит, что мама и папа обнимаются, и говорит, что ему это кажется отвратительным. Затем он протягивает руку, чтобы взять руку Симона. Обнаруживает, что она валяется отдельно. Говорит: „Я оторвал руку своему брату“».
Во время терапии рождение Симона и убийство его родителями воспринималось как правда. Пережитое ребенком Стюре убийство затем будет воплощаться в убийстве Юхана Асплунда, Чарльза Зельмановица и других мальчиков. Воспоминания были вытеснены, однако взрослый Стюре «рассказал» о своих переживаниях через убийства, оскверняя и расчленяя тела, как его родители поступили с его братом.
В книге мать Стюре называется «М» или «Нана» — это эвфемизмы, поскольку образ настолько исполнен зла, что его настоящее имя слишком пугает, чтобы Стюре мог произнести его вслух. В книге Биргитта Столе пересказывает и другие деяния злой матери.
«Стюре рассказывает отрывками. Нана только что сжала руками шею Стюре. Он чувствует ее руки. Теперь она направляется к Симону, где Стюре скрывается за его закрытыми глазами. Она стоит перед всем лицом Симона. Тело изуродовано, и Стюре старается сосредоточиться на лице, чтобы не видеть обезображенного тела. Стюре видит сжатую в кулак окровавленную руку Наны. Он замолкает, потом говорит: „Это красное — наверное, брусничный соус?“»
То, что Томас Квик подумал, будто кровь его изуродованного младшего брата — брусничный соус, было воспринято Маргит Нурель как доказательство тому, что он говорил правду. Она отмечает в рукописи:
«Откуда мы можем знать, что все, описанное Стюре, — действительно правда?
В отношении детских переживаний: детский язык, типичные детские реакции, сам процесс регрессии, выражения чувств — и все отчетливее проявляющиеся воспоминания.
В отношении вытесненных взрослых воспоминаний: реконструкции и их соответствие полицейским материалам и, наконец, связь между теми и другими».
Следователи тщетно искали зарытое тело Симона возле Фрембю-удде. Они запросили также из больницы Фалуна карточку матери, которая доказывала, что Тюра Бергваль в этот период не рожала ребенка и у нее не случался выкидыш. Никто из близких семьи не заметил никакой беременности, ничего не заметили и остальные шесть братьев и сестер Стюре. Однако, кажется, ни у кого из участников следствия не возникло ни малейших сомнений в подлинности рассказов Стюре. Ни у полицейских, ни у прокурора, ни у судей, ни тем более у Маргит Нурель:
«Стюре, как и все дети, стремился сохранить положительный образ родителей. В первую очередь это касалось отца, который иногда все же демонстрировал доброту — хотя и в сентиментальной форме. Между тем мать была для Стюре самым пугающим образом, и это выражается, среди прочего, в том, что он долго не желает вспоминать ее лицо или видеть его.
Когда поддержание позитивного образа становится невозможно — после смерти и расчленения плода Симона, — у Стюре происходит раздвоение образа отца. Теперь есть отдельно „П“ и Эллингтон, где Эллингтон выражает все пугающее и ужасное, злую часть в образе отца».
Во время регрессии Томас Квик излагает «полет во времени в 1954 год»: «П» покидает комнату после убийства Симона и вскоре возвращается в чистой рубашке. «Это какой-то дядька одолжил папину рубашку», — подумал ребенок Стюре и дал злой ипостаси отца имя Эллингтон. Во время сеансов Квик часто использует эвфемизмы «Эллингтон» и «П», но слово «папа» он может выговорить без проблем. А вот сказать «мама», когда он говорит о матери, не представляется возможным.
Это странная история. Но еще страннее развитие фигуры Эллингтона.
В процессе терапии Эллингтон из злого альтер эго отца превращается в личность, все чаще берущую на себя командование телом Квика. Биргитта наблюдала это превращение много раз, и один такой случай описан в рукописи.
«Уверяю тебя, то превращение, которое я наблюдала, было явлением самого Дьявола в человеческом образе, в самом буквальном смысле слова, и ответ на все это — Стюре. Он обнажает горло, а дальше следует отрицание на словах — нет, это не папа, это из него выскочила граммофонная пластинка, которая все произносит страшные слова.
А Дьявол сказал ему следующее: „Ты попробуешь вкус смерти“».
Различные роли Эллингтона в истории Квика — один из многочисленных примеров того, как образы в его рассказах постоянно меняют обличье. Ни одна личность не постоянна и символизирует кого-то другого. Эллингтон — образ отца, в которого трансформируется Квик, когда совершает убийства.
Те дела, которые были актуальны в первое время психотерапии с Биргиттой Столе, — это убийство Альвара Ларссона, Юхана Асплунда, Улле Хёгбума и мальчика, которого иногда называли «Дуска», а иногда — совсем другими именами. Последнее имя, добавившееся в список ранее, еще в эпоху Челя Перссона, — Чарльз Зельмановиц, и именно в этом случае на сцену вышел убийца мальчиков Эллингтон.
Чарльзу было пятнадцать лет, когда он пропал по пути с дискотеки в Питео в ночь на 13 ноября 1976 года. После возвращения Томаса Квика из больницы Векшё дело Чарльза всплыло как первейший приоритет для психотерапии и следствия.
Закрытые вопросы
Летом 2008 года, задолго до той драматичной встречи, когда Стюре при мне берет назад все свои признания, я посетил суд первой инстанции Фалуна, чтобы скопировать их материалы о юношеских прегрешениях Стюре Бергваля и убийствах Грю Сторвик и Трине Йенсен. В суде мне не только готовы помочь, но и очень разговорчивы. Молодой сотрудник рассказывает, что норвежская телекомпания заказала копии материалов двух следствий по убийствам Томаса Квика.
— Получив счет на сорок тысяч крон, они отказались платить, — говорит он.
Меня разбирает любопытство — и к тому же тревога по поводу конкуренции со стороны норвежских коллег, но вскоре я узнаю, что готовится серия документальных фильмов о составлении психологического портрета убийцы. Один из самых выдающихся мировых экспертов, бывший сотрудник ФБР Грегг МакКрери, составил психологический портрет того или тех, кто убил Терезу Йоханнесен, Трине Йенсен и Грю Сторвик.
Греггу МакКрери не предоставили протоколы допросов или иную информацию о Томасе Квике — лишь криминально-технические протоколы, допросы родственников и тому подобные материалы. Разумеется, ему не сообщили и то, что за все три убийства осужден один и тот же человек.
Я бесстыдно решаю попользоваться результатами своих норвежских коллег и договариваюсь об интервью с Греггом МакКрери в штате Виргиния, США.
В конце сентября он принимает меня в своей грандиозной усадьбе в охраняемом коттеджном поселке за высоким каменным забором с многочисленными охранниками. Для МакКрери совершенно очевидно, что три норвежских убийства, за которые осужден Томас Квик, совершили три разных человека. Ни один из его психологических портретов злоумышленника не имеет ничего общего с Томасом Квиком, кроме того, два из трех предполагают, что преступник хорошо знает местность.
Когда я рассказываю МакКрери о моих собственных изысканиях, он говорит:
— Единственное, что мы знаем точно, — он лжец. Ранее он сознался в убийствах, теперь он берет назад свои признания. Теперь остается установить, какая версия правдива. Возможно, он совершил некоторые из этих убийств — или виновен во всех. Однако по поводу тех трех, о которых мне более всего известно, я уверен, что он их не совершал. И по поводу остальных у меня очень сильные сомнения.
Он продолжает:
— Меня много раз приглашали для проверки допросов, когда подозревали ложные признания. Первое, что я делаю, — быстро пролистываю протокол допроса, чтобы определить, кто больше говорит. Должен наблюдаться значительный перевес в пользу подозреваемого, иначе существует риск, что следователь сообщает подозреваемому информацию.
Грегг МакКрери рассказывает об одном деле, над которым он работал, где выяснилось, что имело место ложное признание, хотя подозреваемый сообщил сведения, которыми могли располагать лишь полиция или преступник. Следователи, проводившие допросы, были совершенно уверены, что не раскрывали подобных сведений, однако после тщательной проверки протоколов допросов они убедились, что именно это и случилось. Это может происходить намеками или за счет постановки вопроса.
Следователь на допросе должен задавать открытые вопросы: «Что же произошло? Расскажи!» Если же он вместо этого задает закрытые вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», допрос проводится неправильно.
Квинтэссенция знаний МакКрери отозвалась во мне эхом раннего предупреждения, сделанного скептически относящимся к делу Квика полицейским Яном Ульссоном: «Подумай вот о чем: случалось ли ему хоть раз сообщить какие-либо сведения, ранее неизвестные полиции? Мне кажется, ты должен обратить на это внимание».
Исчезновение Чарльза Зельмановица
Чарльз Зельмановиц лежал на полу, в то время как младший брат Фредерик пытался помочь ему натянуть на его стройное тело суперузкие джинсы «Вранглер».
Фреде старался изо всех сил, тянул с двух сторон за пояс, Чарльз втягивал живот — и в конце концов ему удалось загнать латунную пуговицу в петлю. Стянутый и неповоротливый, он поднялся на ноги и потрогал ладонью джинсовую ткань, сидевшую на бедрах, как змеиная кожа. Книзу джинсы расширялись, полностью закрывая стопы.
Фредерику Зельмановицу было всего двенадцать лет, но он помнит вечер 12 ноября 1976 года — перед тем, как произошло непостижимое. Я встречаюсь с ним в его ресторане в Питео и обнаруживаю, что младший брат Чарльза сильно подрос — пышная шапка волос поредела и поседела, сменилась короткой стрижкой. Он отец семейства, скоро ему исполнится сорок пять. Он рассказывает об исчезновении Чарльза, которое навсегда оставило рану в его сердце:
— Я лишился лучшего друга.
Чарльз был тем, к кому Фредерик всегда обращался, когда в семье случались ссоры, когда возникали какие-либо проблемы. Последний вечер с Чарльзом прошел совершенно обычно. Фредерик помнит, что чуть раньше в тот день он швырнул в брата собачью миску с водой. После этого он помог ему натянуть новые джинсы, и инцидент с собачьей миской был забыт.
Чарльз и Фредерик скрепили свою дружбу кровью, приложив друг к другу большие пальцы, перед тем как покинуть дом, где они выросли, в Испании и вместе с семьей переехать в Питео, на север, где царят холод и тьма. На переезде из Фуенхиролы настояла мама Инга, уверенная, что в Швеции мальчики получат лучшее образование. Ее испанский муж Александер был хирургом, однако принял предложение устроиться врачом на лесопилке в Мунксунде.
Инга Зельмановиц всегда разговаривала с сыновьями по-шведски, так что у Чарльза не возникало проблем с языком, когда он начал учиться в Питхольмской школе. Лишь иногда он неправильно употреблял некоторые слова. Остальные ученики вскоре приняли его, и он стал одним из самых популярных в классе, чему, возможно, способствовали также его блестящие темно-русые волосы до плеч, красивые карие глаза и улыбка, обнажавшая безукоризненный ряд белых зубов.
Несмотря на все свои достоинства, для некоторых он по-прежнему оставался иностранцем, изгоем. Такова была ситуация в Питео в 1976 году.
В тот вечер Чарльзу напомнили, что его место в компании сверстников не является само собой разумеющимся. Его одноклассница Анна осталась на выходные одна, так что на огромной вилле ее родителей полным ходом шло гуляние. Все были там, однако никто не подумал о том, чтобы пригласить Чарльза.
Последний оценивающий взгляд в зеркало на джинсы, затем — надеть кожаную куртку, сшитую на заказ в Испании. В кармане горела бутылка «Бакарди», о которой не знал даже его родной брат, но о которой известно потомкам благодаря усилиям полиции, тщательно составившей схему последнего в его жизни вечера.
Набравшись смелости, Чарльз подошел к телефону. Анна сняла трубку, и Чарльз услышал, что вечеринка уже началась, хотя часы показывали только половину седьмого. Само собой, он может прийти, никаких проблем.
Вскоре Чарльз позвонил в дверь. Другие парни принесли с собой пиво, вино и водку, которыми угощали девочек. Чарльз достал свою бутылку «Бакарди» и уселся на пуфик.
К половине девятого почти все перепились, кто-то вызвал такси, в результате чего вечеринка внезапно и хаотично завершилась. Чарльз и другие, кто не поместился в такси, прошли пешком три километра до Питхольмской школы, где как раз начинались танцы.
Войдя в школьную столовую, Чарльз сразу же увидел Марию. А она увидела его. Они потанцевали, немного обнимаясь и целуясь, прежде чем выйти на улицу. Прихватив с собой ром, они отправились в укромное местечко. На улице было шесть градусов тепла. Едва начавшись, половой акт тут же и закончился. Мария явно была расстроена, когда они вернулись в школу.
Но Чарльз вскоре снова вышел на улицу. Там столпились все семнадцати-восемнадцатилетние местные ребята, которых не пустили на школьные танцы. Ром почти кончился, и Чарльз был пьян. Где Мария, он понятия не имел.
— Чарльз! — окликнул его Лейф.
Чарльз считал, что Лейф на редкость хороший парень. Ему было девятнадцать, он был приятелем Марии.
— Хочешь глотнуть? — спросил Чарльз, протягивая бутылку с последними каплями.
Лейф покачал головой и произнес:
— Мария все мне рассказала. Ты ее очень огорчил. И она сердится на тебя.
Чарльз допил последний глоток, ничего не ответив. Однако Лейф не сдавался:
— Нельзя же, черт подери, трахнуть девчонку и тут же задвинуть ее! Ты должен быть рядом с ней весь вечер! А уж потом — поступай как знаешь…
Чарльз так и не придумал, что ответить, и стоял молча, с пустой бутылкой в руке. Лейф еще раз повторил ему, как плохо он поступил, и оставил его одного в темноте.
Слух разнесся быстро: «Чарльз трахнул Марию!»
Как-никак она была самой красивой девчонкой в школе. Так считали даже восемнадцатилетние. Вскоре поползли слухи о том, что «Грек» ее изнасиловал.
Ларсу-Уве было восемнадцать, и он оставался трезвым, чтобы выполнять роль водителя. Увидев Марию, он поспешил к ней и предложил прокатиться. Они поехали в центр, но все получилось совсем не так, как ожидал Ларс-Уве: Мария была расстроена и говорила только о Чарльзе.
Чарльз вернулся на танцы в Питхольмской школе. Он искал Марию, пока не остался один в зале, — затем он быстрым шагом направился домой. Пройдя пару километров по улице Ярнвегсгатан, он увидел большую компанию школьников и почти припустил бегом, чтобы догнать их. Но Марии среди них не было.
Перекинувшись парой слов с приятелями, с которыми начиналась вечеринка, Чарльз поспешил дальше. В последний раз приятели видели его под фонарем на Т-образном перекрестке в конце Ярнвегсгатан. Никто не обратил внимания, куда он пошел по пересекающей ее улице Питхольмсгатан — направо или налево.
Домой он так и не вернулся.
Когда Чарльз скрылся в темноте, его младший брат Фредерик спал в своей кровати. Он не подозревал о произошедшем, пока не проснулся утром.
— На улице столпилась масса полицейских, и вскоре я узнал, почему они там. Поначалу мы думали, что он вернется, но время шло, и становилось все тяжелее.
Фредерик описывает исчезновение Чарльза как семейную катастрофу. Он пытается найти слова, чтобы описать невыносимую пытку неизвестностью, горе и надломленность родителей, телефонный звонок, когда кто-то сказал: «Привет, это Чарльз!» — и положил трубку. Он описывает глупую надежду на невозможное — что однажды Чарльз явится к ним и окажется, что он жив, и все будет как прежде.
— Ясное дело, хотелось верить, что он где-то есть. Но время шло. И жизнь все больше превращалась в хаос.
Фредерик ни на секунду не верил в версию самоубийства, в то, что Чарльз был болен или не решался прийти домой. Фредерик утверждает: он не может себе представить, чтобы Чарльз исчез по собственной воле.
— Кто-то сделал ему что-то плохое, это всегда было моим глубоким убеждением.
В воскресенье 19 сентября 1993 года в местечке Норра Питхольмен стояло прекрасное утро. Семья молодого охотника имела лицензию на охоту в этой местности, и он планировал провести большую часть дня в лесу.
Сжимая в руке дробовик, он прибавил шагу, чтобы не отстать от собаки, которая уже достигла просеки над склоном и лаем обозначила дичь. Глядя на солнце, охотник споткнулся о какой-то предмет, похожий на большой серый гриб, но твердый, как камень. Он был слишком крупный для звериной кости, слишком круглый для звериного черепа. Отковыряв носком ботинка мох, охотник взял предмет в руки — и понял, что держит человеческий череп.
Находка потрясла его. Тело никак не могло лежать в этом месте долгое время, оставаясь необнаруженным. Здесь охотники обычно шли цепочкой, загоняя зверя, — он проходил тут бесчисленное множество раз. Пару лет назад его отец вырубал лес в нескольких сотнях метров от этого места. Охотник еще раз посмотрел на череп, осторожно положил его на землю, запомнил место и поспешил за собакой.
Однако мысль о находке не оставляла его, и после часа безрезультатной охоты он вернулся, чтобы еще раз взглянуть на предмет. Он вспомнил мальчика, пропавшего без вести семнадцать лет назад, и осознал, что должен пойти домой и вызвать полицию.
Полицейский патруль констатировал, что на прилежащей территории находятся кости и сгнившие остатки одежды. Был обнаружен рукав, похожий на рукав коричневой кожаной куртки.
«Кому принадлежал череп, на сегодняшний момент неизвестно», — записал в своем рапорте инспектор криминальной полиции Мартин Стрёмбек, хотя абсолютно не сомневался в личности мертвого.
Отца Чарльза уже не было в живых, но Фредерик и его мама Инга вскоре получили сообщение, что кости Чарльза идентифицированы благодаря его карточке у зубного врача.
— Это была хоть какая-то ясность… Многие говорят, что родные испытывают облегчение, когда находят тело, но мне трудно это понять. Что означает тело? Я хочу знать, что с ним случилось. После стольких лет я уже смирился с мыслью, что его нет в живых. Когда обнаружили тело, осталась неизвестность: и что дальше? почему оно лежит там? что же на самом деле произошло с моим братом?
Прошло три месяца, и только в пятницу 10 декабря газеты сообщили о том, что найдены останки Чарльза Зельмановица.
Загадка исчезновения пятнадцатилетнего мальчика, таким образом, частично разрешилась. Семья получила письменное свидетельство того, что Чарльз мертв. Как он умер и каким образом оказался в лесу в Норра Питхольмен — на эти вопросы следствие ответить не могло, однако эксперты не обнаружили ничего, что указывало бы на насильственную смерть.
Через несколько дней после публикации статей о Чарльзе Зельмановице Томас Квик в психотерапевтической беседе с Челем Перссоном рассказывает, что он «вступил в контакт с новыми материалами». Он воскресил в памяти воспоминания о том, как убил мальчика в Питео в 1970-е.
Чель Перссон отвечает, что он только что читал заметку в газете как раз об этом случае: полиция нашла останки Чарльза в лесу в окрестностях Питео.
— Да? — удивленно произносит Квик. — А я это пропустил.
В восемь утра 9 февраля 1994 года адвокат Гуннар Лундгрен покидает свою роскошную усадьбу XVIII века в Даларне, чтобы сесть в «Хонду» и проехать пять миль, отделяющих его от Сэтерской больницы.
Лундгрену шестьдесят один год, и он самый знаменитый адвокат Даларны, известный тем, что защищал самых отпетых преступников, таких, как Ларс-Инге Свартенбрандт, имеющий на своем счету множество ограблений банков, массового убийцу Матиаса Флинка, а теперь и вероятного серийного убийцу Томаса Квика. Это человек, уверенный в себе, не стесняющийся открыто высказывать свое мнение, как в интервью «Афтонбладет», где он излагает свой взгляд на стоящую перед ним задачу в качестве защитника Томаса Квика:
— Квик признался в пяти убийствах, но полиция пока не уверена, правду ли он говорит. Я в этом уверен. Поэтому моя задача во многом будет состоять в том, чтобы убедить полицию — мой клиент действительно убил этих людей.
Всего час спустя Гуннар Лундгрен входит в музыкальный зал 36-го отделения, приветствует своего клиента и следователя Сеппо Пенттинена, прежде чем усесться в полосатое кресло напротив Томаса Квика. Когда они в последний раз собирались за этим столом, речь шла об убийстве Томаса Блумгрена, по которому к тому времени уже вышел срок давности.
Но теперь ситуация совершенно иная. Если есть правда в последнем признании Квика, против него будет возбуждено уголовное дело за убийство Чарльза Зельмановица.
Пенттинен включает маленький кассетный магнитофончик. Усевшись поудобнее, он поворачивается к Квику, который пытается собраться с мыслями перед предстоящим допросом.
— Ну что ж, Стюре, начнем с причин, по которым ты находился в тех местах в то время, когда вступил в контакт с этим парнем.
— Ну, с этим все так же, как и с другими поездками. Это была незапла… незапланированная, запланированная, незапланированная поездка. Э-э-э…
Квик рассказывает, что прибыл туда на машине.
— Тогда интересно было бы узнать, что это была за машина, — говорит Пенттинен.
Стюре рассказал мне, что в тот момент он вспомнил о проблемах с автомобилем, который якобы одолжил при убийстве Юхана Асплунда. Подобных осложнений он на этот раз хочет избежать любой ценой. Поэтому он кратко отвечает, что не может сообщить, какую машину использовал. Пока не может.
Пенттинен отключает магнитофон, пока Квик советуется со своим адвокатом. Квик сообщает Лундгрену, что он знает, на какой машине приехал, но по определенным причинам не хочет сегодня говорить об этом.
Событие некоторое время обсуждалось на сеансах психотерапии, по словам Квика, под кодовым названием «черноволосый мальчик». Затем всплыло имя.
Однако «черноволосый мальчик» — не очень удачное описание. Чарльз не был чернявым, кожа у него была светлая, а волосы — пепельного цвета. Это подтверждается также описанием полиции, распространенным в 1976 году, когда Чарльз числился в розыске: цвет его волос определялся как «темно-русый».
Квик утверждает, что волосы у Чарльза были недлинные, что совсем не вяжется с его волосами до плеч, расчесанными на прямой пробор.
— А что с его одеждой? — спрашивает Сеппо.
— Сегодня я предпочел бы сказать, что на нем была джинсовая куртка на подкладке.
Позднее в течение того же допроса Квик ссылается на воспоминания, согласно которым куртка была из гладкой ткани. По его предположению, черная куртка из непромокаемой ткани.
В момент исчезновения Чарльз был одет в очень заметную, дорогую, необычную длинную коричневую кожаную куртку, которую довольно трудно перепутать с джинсовой курткой на подкладке или с черной курткой из непромокаемой ткани.
Квик не помнит также исключительно узких джинсов Чарльза, хотя утверждает, что снял с него брюки.
— Такие парадные брюки, так сказать. Не знаю, как называется такой материал… э-э…
— Ты имеешь в виду не джинсы?
— Нет.
— Из более тонкой ткани?
— Да, и с крючком вот здесь, — говорит Квик и показывает на свой пояс.
Томас Квик пытается описать пару габардиновых брюк и к тому же говорит, что на ногах у Чарльза были бутсы, в то время как парень был обут в коричневые замшевые ботинки марки «Playboy». Он утверждает также, что закопал Чарльза, хотя могила и была неглубока. По этому поводу эксперты также могли сообщить четкие сведения после обследования места находки.
В резюме рапорта сказано: «Ничто не указывает на то, что находки были каким-либо образом закопаны в землю». Но и сам метод убийства Квика столь странен, что вызывает вопросы.
— Я использовал такой… такой маленький… э-э… э-э… металлический рожок для обуви.
Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила в останках Чарльза никаких признаков того, что он стал жертвой преступления.
Отдельные части тела Зельмановица были распространены по довольно большой территории, и эксперты констатировали, что кости вытащили из одежды дикие животные. Некоторые крупные кости полностью отсутствовали.
Учитывая, что раньше Квик рассказывал, как он расчленил тело Юхана Асплунда, следующий вопрос Пенттинена звучит логично:
— Имело ли место расчленение тела в какой-либо форме?
— Нет, не… это нет, — отвечает Квик. — Никакого отделения частей тела, в этом смысле, — поясняет он.
К вопросу о расчленении трупа Сеппо Пенттинен возвращается на допросе от 19 апреля. Сведения, данные Томасом Квиком по этому пункту, станут самым весомым доказательством его вины.
До начала допроса они обсуждают возможное расчленение тела и уточняют, брал ли Квик с собой какие-либо части с места преступления. Этот разговор происходит, как часто бывает в данном деле, без магнитофона, без свидетелей, без адвоката. Когда магнитофон включен, вопрос обсуждается путем предположения со стороны Пенттинена, которое Квик подтверждает.
Пенттинен: Ты говорил что-то по поводу того — в перерыве или перед тем, как мы начали этот допрос, — что взял с собой какую-то часть тела с места преступления. И потом в продолжение того разговора ты сказал, что это было что-то связанное с его ногами, а теперь, когда я это говорю, ты киваешь в знак согласия. Правильно ли я понимаю, что ты отделил одну ногу?
ТК: Да.
Пенттинен: Какого размера… Какую часть ноги в таком случае? Во время нашего разговора ты показал мне, что это было где-то возле колена?
ТК: Да.
Пенттинен: Обе ноги или это касается одной?
ТК: Больше всего одной ноги.
Пенттинен: Как истолковать твои слова, когда ты говоришь, что это касается больше всего одной ноги?
ТК: Э-э… п-п-пожалуй, обеих, но… да…
Пенттинен: Ты унес с собой оттуда обе голени?
ТК: Да.
Пенттинен: Ты снова киваешь в знак ответа.
Все это полностью соответствует результатам полицейского расследования. Однако несколько месяцев спустя эксперты снова вернулись на место находки для более детального обследования. 6–7 июня они обыскали более широко очерченную территорию и обнаружили одну из голеней, которую Квик, по его словам, прихватил с места преступления домой в Фалун.
Пенттинен присутствовал в Питео, когда обнаружились новые кости, и поспешил организовать новый допрос Квика, который и провел 12 июня 1994 года.
Когда я читаю протокол допроса, меня поражает то, что Сеппо Пенттинен, хотя Квик уже ответил, какие части тела он унес с места преступления, делает вид, будто они никогда раньше не говорили на эту тему.
Пенттинен: Есть ли какая-то часть тела, по поводу которой ты на сто процентов уверен, что ее нет на том месте?
ТК: Да.
Пенттинен: Можешь сказать, какая это часть тела?
ТК: Ноги.
Пенттинен: Одна нога. Правая или левая, ты можешь сказать это с какой-то степенью точности?
ТК: С точностью — нет, не-а.
Пенттинен: Но одна нога с голенью и бедром?
ТК: Да-да…
Пенттинен: Ее не должно быть на месте?
ТК: Не-а.
Пенттинен: Ты произносишь это с неуверенностью?
ТК: Бедро — точно нет.
Порядок восстановлен, сумма пропавших и найденных ног Чарльза снова равна двум. Но есть все основания задуматься, какие методы ведения допроса применялись, когда Квику удалось исправить свои ранее неверные показания.
Пенттинен не спрашивает, отсутствуют ли какие-нибудь части тела. Вместо этого он спрашивает, отсутствует ли какая-нибудь часть тела. В вопросе заложен ответ. Правильный ответ — одна часть тела.
Квик осторожно отвечает «ноги».
«Одна нога», — уточняет Сеппо Пенттинен и спрашивает, правая или левая. Затем он сам определяет, что это нога, состоящая из голени и бедра.
Уже при первом осмотре места эксперты констатировали, что к югу отсюда расположено немало лисьих нор. Большинство костей, найденных после того, как останки Чарльза были вывезены, располагались на обширной территории в форме веера в сторону лисьих нор. Эксперты, проводившие осмотр места, пишут по поводу находки кости руки: «Все указывает на то, что какой-то зверь вытащил ткань и кость из кожаного рукава».
Я беседую с экспертами, проводившими осмотр. Их мнение и по сей день таково, что лисы или иные дикие звери растащили кости по обширной территории, а некоторые кости могли попасть в лисьи норы — ничто не указывает на иное развитие событий.
Квик рассказал, что расчленил тело при помощи пилы — такой, которую используют для распиливания дров. Никаких следов пилы судмедэксперты на обнаруженных костях не заметили, зато много следов нападения животных.
Джинсы, которые Чарльзу в живом состоянии с таким трудом удалось натянуть на себя, Квик, по его утверждению, снял с него перед расчленением, к тому же он явно путает облегающие джинсы с габардиновыми брюками.
— Какая нога взята отсюда, так сказать, целиком? — спрашивает Сеппо. — Вся левая нога?
— Да, — отвечает Квик.
Но если бы Квик взял с собой какую-то из ног Чарльза, то это должна была быть правая нога. По словам судмедэксперта, на месте обнаружено бедро левой ноги.
Эксперты отметили на карте восемнадцать точек, где были найдены кости и части одежды, явно растащенные дикими животными. Те кости, которые найдены на максимальном удалении от исходного положения тела, — самые крупные, то есть тазовые, одно бедро и большеберцовая кость.
Если же проанализировать допросы по методике Грегга МакКрери, результаты ошеломляют.
На том допросе, где Томас рассказывает, что он расчленил труп и взял с собой ногу, задаются исключительно закрытые вопросы, где в самом вопросе содержится «правильный» ответ. В двух решающих частях допросов относительно частей тела на долю Пенттинена приходится более 90 % сказанного (142 слова), а на долю Квика — 10 % (15 слов). Во втором допросе распределение аналогичное: Пенттинен — 83 %, Квик — 17 %. Но самое компрометирующее — это то, как именно ставятся вопросы, ибо в вопросах Пенттинена раз за разом содержатся ответы, которые ему нужны.
Квику остается только сказать «да», кивнуть или пробормотать «угу», что он и делает.
Сам Стюре мало чем может помочь, когда я пытаюсь выяснить, что же на самом деле происходило во время следствия. Воспоминания о следственных экспериментах и допросах полностью стерлись из памяти — по мнению Стюре, из-за больших доз бензодиазепинов. Луч света промелькивает в темноте, когда я спрашиваю, как он впервые узнал о том, что Чарльз Зельмановиц пропал в Питео в 1976 году. Стюре полон энтузиазма, когда ему наконец-то выпадает возможность поведать о конкретном событии во время следствия.
— Я отчетливо помню, как сидел в комнате дневного пребывания 36-го отделения и читал «Дагенс Нюхетер». Тут мне на глаза попалась заметка о том, что нашли останки Чарльза.
Мой первый поиск имени Чарльза Зельмановица в базе статей «Дагенс Нюхетер» приносит разочарование — той статьи, которую, как утверждает Стюре, он прочел, там нет.
В подавленном настроении я звоню ему и сообщаю, что такой заметки нет. Может быть, он что-то перепутал?
— Нет-нет! Я даже помню, что заметка была расположена внизу левой колонки на странице газеты, — уверенно отвечает Стюре.
В конце концов Йенни Кюттим удается обнаружить статью вручную в архиве прессы шведского телевидения — она была опубликована в «Дагенс Нюхетер» от 11 декабря 1993 года, в левом нижнем углу страницы, как и говорил Стюре.
Заголовок звучал так: «Загадочное убийство 16-летней давности раскрыто».
Я отметил, что составитель рубрики неверно сосчитал количество лет. Когда писалась статья, с момента исчезновения Чарльза Зельмановица прошло не 16, а 17 лет. Самое интересное, что 1976 год в заметке вообще не упоминается.
Если эта заметка являлась для Томаса Квика единственным источником информации, то он должен был постараться вычислить, в каком году он «убил» Чарльза. Тогда он отсчитал бы 16 лет назад и остановился бы на осени/зиме 1977 года. Именно это он и сделал!
Квик уже обсуждал убийство со своим психотерапевтом в течение трех месяцев, когда был проведен первый полицейский допрос. Сеппо Пенттинен спросил, помнит ли Квик, когда это произошло.
— Через десять лет после истории с Альваром, — ответил Квик, намекая на убийство Альвара Ларссона на острове Сиркён в 1967 году.
— Через десять лет, — повторяет Пенттинен. — Стало быть, в тысяча девятьсот семьдесят седьмом.
— Да, — сказал Квик.
Томас Квик связал 1977 год еще и с тем, что в сентябре того же года умер его отец. Эта опора на фактические события увеличила достоверность его слов, но как бы складно ни звучала история, Пенттинен знал, что Квик ошибся на год.
— Это совершенно точные сведения, что все это было в семьдесят седьмом году? Может ли быть какой-то разброс?
— Когда это происходит, у меня возникают воспоминания об Альваре. И я подумал, что тогда мне было семнадцать, а теперь мне двадцать семь, — упорствует Квик.
Но тут вмешался адвокат Гуннар Лундгрен и спас ситуацию, предложив вернуться к вопросу о годе в другой раз.
— Сегодня это звучит как-то неуверенно, — сказал Лундгрен. — Я думаю, мы с тобой выясним это позднее.
На самом же деле они больше не возвращаются к вопросу о годе, а также к вопросу о том, почему Томас утверждал, что убийство произошло вскоре после смерти отца и через десять лет после убийства Альвара.
Сеппо Пенттинен, естественно, отдавал себе отчет в том, что признание Квика последовало вскоре после появления в средствах массовой информации отчета о находке в Питео, и задал неизбежный вопрос: