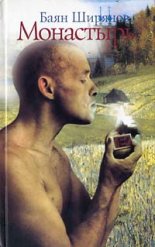Это невыносимо светлое будущее Терехов Александр
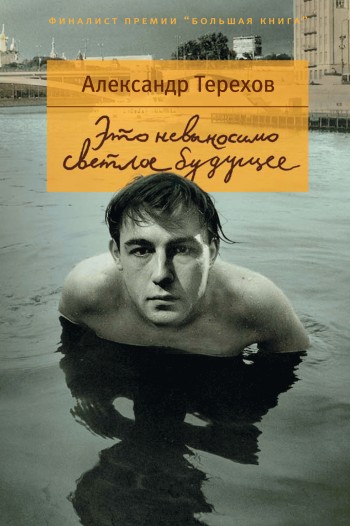
– К маме, значит.
– Я б только поглядел на нее. Два слова сказал бы и – всё.
– И что бы сказал?
– Не твое дело, паскуда!
– Так, – Попов стал кивать головой.
– У меня никого нет, кроме нее. Я бы сразу ушел. Чтоб она не видела, как меня… Сам бы в военкомат вернулся. Болеет она у меня. Мне бы только увидеть. Постучу – она откроет, а это – я!
– А это ты.
– Я не могу, ведь я…
Попов с содроганием втянул голову в плечи, не пуская в себя мучительный хоровод школьных тетрадок, солнечных школьных коридоров, фотографий мальчика в буденновке с красной звездой, звуков одиноких старческих шагов, единственного, материнского голоса и имени своего, ласкового, смешного, давно не слышанного имени…
– Я не могу, – выдавил Улитин, – и не буду. Отпустите меня. Куда угодно. Я не могу. Все равно вам теперь… что-то ведь будет.
Попов тяжело вылез из котлована и прислонился к столбу, подняв воротник шинели.
Ветер слабо гонял по затвердевшему насту пригоршни посверкивающей снежной пыли.
Журба тронул его за рукав и, тревожно заглянув в лицо, прошептал:
– Вот сморчок, прибить не жалко, да?
Попов повернулся и сказал:
– Может, отпустим?
Хохол ухмыльнулся и взял Попова за рукав:
– Юра, патроны, что у него остались, я переложу себе в магазин. Мы скажем – стрелял только он. А мы не стреляли. Хорошо?
Хохол повторил, как для заучивания:
– Мы не стреляли.
Попов медленно подправил его:
– Ты не стрелял.
Журба легко переиначил:
– Ну да, я не стрелял… Я тебя не прикрывал. Ему этого не простят, что бы там с ним в роте ни вытворяли. Под шумок все проскочит. Он ведь, скот, нас положить хотел. Пост бросил. С оружием! Мы так скажем. Рота нас в обиду не даст.
– И я так скажу?
– Конечно, а как же.
– Я не скажу этого, хохол.
– Как?
– Пусть будет все, как будет. Видно, судьба такая.
– Попов, щука, совесть, тварь паршивая, у тебя есть? Я же тебя прикрывал! Я же твою жизнь паршивую спасал! Я же шкурой своей, всем рисковал, я же…
– Ты за свою шкуру боялся.
Хохол замер, сжав губы.
А Попов улыбнулся с детской легкостью и посмотрел на хохла.
Улитин, не шевелясь, сидел в котловане.
– Юра, – наконец разжал губы хохол. – У меня дома сын.
– А, оставь, хохол, все это чепуха, – раздраженно сказал Попов. – Ты лучше послушай, что я тебе скажу, вот, понимаешь, злость прошла. Весь год последний продохнуть не мог – будто жгло все внутри. А вот сейчас – легко-легко. Как с парашютом прыгнул. Ты прыгал когда-нибудь с парашютом, хохол?
– Иди ты, – процедил хохол и слез обратно в котлован.
Попов постоял один и медленно сгорбился.
Журба с налитым отчаянием лицом вычистил шомполом стволы двух автоматов, аккуратно снял рукавицу, задумчиво рассмеялся и со всего маху вмазал Улитину пощечину. Потом еще! Еще!
– Хватит. Не трогай человека, быдло, – устало попросил Попов.
Улитин весь обмяк и уронил лицо на грудь.
– Хватит? Чего хватит? – быстро обернулся к Попову Жур-ба. – А вот нам на дембель надо было весной! А ведь и у меня мать есть. И жена у меня. И дитю полтора года – я толком его и не видал. А вот эта скотина меня убить хотела. – В горле у хохла что-то застопорилось, и он заглотнул воздуха: – Фашист! Скотина! – Хохол причитал перед Улитиным тонким бабьим голосом, рот его кривился, не закрываясь, веки подрагивали. – Ты, паскуда, ты думаешь, нас не мочили? Но мы же людьми пооставались! Честно отпахали – а теперь не вернемся домой. Мы! А о себе ты хоть подумал? Может, мать твоя сдохнет теперь вовсе от горя, а?
Из глаз Улитина по недвижному, заледенелому лицу медленно покатились крупные, редкие слезы.
– Я-а, я не мог… все-все… я ведь не…
– А теперь ведь нам – дисбат! Это нам. А тебе-то – тюрьма! Десять лет. И мать твоя от себя кусок станет отрывать, чтобы посылки тебе собирать, в конверты деньги последние совать, просить за тебя, идиота, ездить по столицам, а эти посылки к тебе и не попадут – там таких, как ты, не любят. Да тебя там вообще убьют, в параше утопят, да ты сам туда топиться полезешь, если в армии не выдержал, щенок!
Улитин не отвечал, он вообще не мог говорить – его душили рыдания.
Попов, наметившись, спрыгнул вниз, к ним, прикрыл лицо руками и привалился к стенке котлована, рядом с Улитиным, чуть придавив его плечом, – так казалось теплее, и тихо попросил:
– Не скули.
Хохол набил оставшимися патронами свой магазин, второй, пустой, сунул себе за пазуху. Лишние четыре патрона закинул в поле на четыре стороны.
Долго лазил на четвереньках, выбирая из снега красными мокрыми пальцами гильзы, дышал на пальцы, отогревая, собрав гильзы, со звонким шорохом высыпал их в бетонную трубу, врытую у основания столба. Потом огляделся, склонился за спину Улитину, сморщив простоватое крестьянское лицо, развязал ему руки и, еще раз оглядевшись, сел рядом с ними, подняв воротник, прикрыл глаза и привалился потеснее.
Улитин слабыми рывками, не с первого раза, вытащил руки из-за спины и осторожно просунул их в карманы.
Солнца не было, но все равно утро уже выбелило небо, нагнало легкий ветер на поле, и куст черной полыни покачивался на краю котлована, и на него сверху легкими, невесомыми касаниями опускались редкие крапинки снега, иногда ветер путался в голых верхушках невидимого леса, и тогда деревья шумели, как воздух, выдыхаемый сквозь плотно сжатые зубы. Сегодня была суббота. В клубе обещали фильм. Какой – никто не знал.
– Надо идти, – сказал хохол.
Попов первым неуклюже выбрался из котлована и измученно осмотрелся вокруг.
– Мишка, – неожиданно сказал хохол и притянул голову Улитина к себе, близко-близко. – Мы – гнилье. Но никому в тюрьму не надо. Всем надо жить. Мы – выродки. Но ты – останься хорошим. Мы все сделаем. Только ты не подкачай… Слышь? Ничего не было. Понял? Ты спокойно отстоял свое на посту. Не бегал. Не стрелял. Ничего, понимаешь, не было!
– В-вова, ну как, ты что-то… Ведь целый магазин, что я скажу! – так и впился в него глазами плачущий Улитин.
– Закрой рот! – рявкнул хохол. – Слушай меня! Там на горе, у твоего поста, ты видел где, есть параша. Там труба бетонная – от городской канализации, отвод, к реке есть сток оттуда. Там сверху дыра – часовые туда по нужде бегают, старшина про это знает, понял, да?
– Понял.
– Скажешь – ты слушай, – прихватило живот на посту. Туда ты и побежал. Сел на дырку, автомат держал между коленками. Магазин сдуру снял, в руке захотелось подержать – боялся курок сдуру нажать. Руки замерзли – магазин выронил. Прямо в парашу. С тобой все время что-то случается. Поверят! Поверят – куда им деться… Никто себе ЧП раскапывать не захочет. Поищут – а нету! Там же сток в реку – где там проверишь.
Журба перевел дыхание.
– Вова, я все запомнил. Все, все скажу так, – тараторил Улитин с разгоревшимися глазами, слезы у него мигом высохли. – Ты объясни все, я сделаю, да?
Попов слушал и ничего не мог понять. Он уже злился, что они до сих пор еще не идут.
– Придет майор-особист. Будет тебя мурыжить: что и как. Но это чепуха. Страшного ничего не сделают. В Сибирь служить ушлют – это ясно, но у меня там земляк служит – Хворостенко, я напишу ему, он тебе устроит клевую жизнь – пахать не будешь. Да и это ведь не тюрьма. Мы с Поповым скажем, что шли посты проверять, а ты из параши идешь и плачешь. Мы – на эту драную трубу. Скажем: еще край магазина виден был. А пока за палкой бегали – засосало. Ну тебя, может, пару раз ударили сгоряча, так это бывает. Нам – по выговору или «губу». Но никому в тюрьму не надо! – Хохол раздельно добавил: – И самое главное: этого не было. Сколько жить будешь – этого не было. Никогда, ни с кем, нигде. Этого не было. И мы все вернемся домой. А это – главное.
– Не было, – повторил, как заведенный, Улитин. – Не было. Он смотрел на хохла, будто молился. Истово.
– В роте мы с тобой говорить на людях больше не будем. Тебе будут давить на психику, жалобить, что-то обещать. Скажут: мы все знаем, что тебя припахивали, били. Они и правда это знают. Кто-то наверняка стучит. Но им не ты будешь нужен, а магазин от автомата. Ты нужен только нам. И матери своей. И только. И пусть мы сволочи. Но пусть нам всем будет хорошо. Или мы не люди, чтобы договориться? Жизнь ведь лучше, она ведь…
– Да, да, лучше, – закачал головой Улитин. – Жизнь прекрасна.
Попов вдруг засмеялся оттуда, сверху, жестяным, прыгающим смешком.
Хохол резко обернулся к нему ненавидящими глазами, бешено прошептал что-то матерное и быстро тут же повернулся к Улитину.
Тот был как во сне:
– Я запомнил все, Вова. Я скажу. Ничего не было. Я, я ведь жизнью тебе обязан. Я тебя не забуду никогда, сколько жить буду.
Журба мгновенно сказал:
– Ладно. Пошли, ребята.
Они долго и тщательно заправлялись, как на строевой смотр, придирчиво оглядывая друг друга и помогая, шли по тропинке, чтобы не оставлять лишних следов. Шли даже по росту: Улитин, Попов, Журба.
Попова все время бил какой-то нервный смешок, он то и дело прокашливался, закрывал ладонью рот и качался из стороны в сторону.
– Паскуда, – тихо прошипел хохол.
У Попова затряслись плечи – у него уже были мокрые от слез щеки, он чуть ли не повизгивал, сдерживая изнутри рвущийся смех.
Они шли споро и быстро, как возвращаются люди после тяжелой работы, уверенные в себе, сильные и счастливые люди. Когда переходили мостик, хохол отстал. Попов и Улитин пошли дальше, не оглядываясь. Журба стоял посреди заледенелого моста – он был один, вокруг было пусто. Он вытащил из-за пазухи магазин и ощутил тяжесть человеческих судеб. Улитин и Попов остановились к нему спиной, не оборачиваясь.
Падал снег.
– Юра, – не выдержал вдруг хохол.
Попов, не оборачиваясь, не оглядываясь, замотал головой и опять захохотал.
– Тварь, паскуда, ненавижу! – дико закричал хохол. Улитин с ужасом смотрел, как Попов силится сдержать смех и заходится от этого в кашле, опираясь на его плечо и хитро поглядывая Улитину в лицо.
Журба нахохлился – он был совсем один.
Он коротко дернул рукой, и черный магазин тяжело упал в прорубь, подломив тонкий лед, – густая, зимняя вода стала студено лизать края пролома.
Журба дошагал до них и с чем-то нарастающим в голосе сказал:
– Ну вот, теперь… Теперь мы с вами… Вы ведь знаете…
– Я не знаю, – улыбнулся ему Попов. – Я не знаю, какой сегодня фильм. Откуда мне знать?
В караулке дребезжал телефон, когда они вошли, и розовый от сна Козлов мямлил невнятно в трубку:
– А? Здравия желаю. Нормально. Сержант Попов? – Он оглянулся. – А вот сейчас дам трубку.
Попов увидел черную уродливую трубку с прыщавой щекой микрофона, протянутую к нему, схватил ее и со всего маху грохнул об аппарат – телефон развалился, оставив посреди обломков жалко звякающий звоночек.
Караул прыгал из машины друг за другом, придерживая шапки на головах.
– Попов! – Уже покинувший санчасть сержант Кожан курил на бревнышке в спортгородке. – Ну, как там мой Улитин на службе себя проявил?
Попов остановился, будто силясь что-то вспомнить, потом хмыкнул и властно поманил пальцем:
– Улитин. Ну-ка, иди сюда.
И сказал Кожану:
– Ну что сказать, совсем с бойцами не занимаешься. Хреново бойцов воспитываете, товарищ сержант, магазин потерял. Действия по пожару совсем не знаем. Рыдаем на посту. Беда просто, а не солдат.
– Ка-ак? – грозно изумился Кожан и сноровисто сунул Улитину кулаком в морду. – Займемся! А ну-ка, упал, отжался!
Улитин упал на снег и стал качаться на плохо сгибающихся в тесной шинели руках.
– Раз! Два! Три!
Попов с каким-то брезгливым интересом смотрел на его спину. Внутри у него тугим комком забухало сердце.
– Встать! – приказал Кожан. – На месте бего-ом марш!
Улитин затрусил на месте, придерживая на груди автомат.
– Раз, два, три! Раз, два, три! Лечь – встать! Лечь – встать!
Он вставал и падал, как ванька-встанька, не отряхивая снег и не поднимая лица.
– Погоди, Кожан, – сипло произнес Попов. – Дай-ка я.
– Ночи, что ли, тебе не хватило? – удивился Кожан.
Попов придвинулся поближе и прямо в лицо Улитина выкрикнул:
– Стой!
Он почувствовал, как с ударами сердца разливается по телу горячая ненависть, и он уже не мог ее остановить.
– На месте шагом марш!
Он все пытался увидеть глаза Улитина – но тот смотрел куда-то вверх, не видя ничего, с застывшим в слепом исполнении лицом.
– Жить хочется, – вдруг прошептал Попов и уже с азартом, заводясь, закричал: – Прямо!
Улитин помаршировал прямо на стену, пролез к ней через сугроб и ткнулся лицом в кирпич.
– Направо!
И он пошагал направо, высоко поднимая ногу и делая идеальную отмашку свободной руки, – прямо до забора и до упора в него.
– Налево!
Налево была канава, широкая – не переступить. Кожан уже начал хихикать, предвкушая зрелище, а Попов отвернулся и заплетающимися шагами пошел в казарму, снимая с плеча автомат.
За спиной раздался звук падения и дружное ржание – Улитин упал.
В ленинской комнате старший лейтенант Шустряков сонным голосом читал:
– …В часы политико-воспитательной работы и личного времени необходимо оказывать на воинов всестороннее воспитательное воздействие, помогать лучше использовать это время для идейно-культурного и нравственного совершенствования… Так, значит. Курицын, в чем первейший долг сержанта, а?
Курицын с трудом приподнял от стола кудрявую всклокоченную голову:
– А?
– Первейший долг сержанта в чем. Курицын? Ты хоть встань, мать твою так!
Курицын лениво вылез из-за стола и шарил глазами по молодым воинам.
Шустряков забубнил:
– Первейший долг каждого сержанта, запомни, Курицын, нести в солдатские массы идеи партии, неустанно разъяснять достижения советского народа в коммунистическом строительстве, важно донести до сознания…
Шустряков осекся – посреди ленкомнаты стоял в шинели сержант Попов, сжимая в руках автомат.
– А, Попов, приехали герои, так вашу мать. Магазин прохлопали, так вашу мать. Чего вперся одетый? Оружие мог бы и сдать.
Попов молча прошел ему за спину, встал на трибуну и положил автомат перед собой, стволом к людям.
– Ты чё, охренел? – выдавил кто-то из старослужащих.
– Сержант Попов, – визгливо начал старлей Шустряков, пятясь назад.
Попов снял предохранитель.
Все смолкли, как дети, услышав материнские шаги.
– Вы слышите? – тихо спросил Попов.
За окном Кожан вел караул на пайку и бодро орал:
– Рэз, рэз и рэз, двэ, три… Караул!
Караул шмякнул ногами.
– И раз!!!
– Вы слышите? – повторил Попов.
Он пошел, скрипя паркетом, на выход, на мгновение остановившись перед Шустряковым:
– Извините, товарищ старший лейтенант, прервал.
Ворота с красной звездой, разомлевший от жары дневальный, утопивший палец в ноздрю. Щедрый зевок дежурного прапорщика. Ступеньки, коридор, КПП – позади. Военный городок. Голоса: мужчина и женщина.
– Это ты здесь служил?
– Да.
Строится у забора караул. Рыжий сержант небольшого роста грозно хмурит брови и покрикивает. Караул заправляется. Первая, салабонская, шеренга стоит очень прямо.
Взвод выбивает ремнями развешенные на заборе матрасы. Некоторые полуголые солдаты оборачиваются и улыбаются женщине.
У стены казармы – насос на колесах.
Два голоса:
– А это что?
– Это? Насос, наверное. Тогда не было.
– Нет, вот это.
– Это матрасы выбивают. Чтобы пыли не было.
– И так каждый день?
– По субботам.
– Юра?
– Да?
– Может, мы пойдем? Тебе ведь не хочется…
– Мне хочется.
Дверь казармы наверх, обшарпанные стены. Сбегающие вниз солдаты. Сверху свешиваются головы тех, кто чистит сапоги на лестнице. Шепот: «Баба какая-то…»
Дверь в роту.
– Юра, милый, ну что с тобой?
Холеное, толстое лицо ветерана, собирающегося на дембель.
– Служили тут? Очень здорово. И что, тянет, да? А мне кажется: вот дембельнусь, и хрен сюда еще заманят. Тоже казалось? Видишь как… А спали где? У окна, вот там? И я там, ага… Во совпало как, а? А… вы сверху, а я – снизу. Все равно – совпало. Когда ваш дембель? Нет, не застал… Меня сюда с Сибири перевели, потом уже. Сейчас? Сейчас я на насосе главный. Видали – стоит? И воняет. Это магазин Улитина ищем. Каждый год старшина что-то новое придумывает для зашивонов, прошлое лето драгу какую-то изобрел, все перелопатили, а теперь – насос. Улитина? Улитина я знал, я ж в Сибири служить начинал. Очень авторитетный был дедушка. Месил всех на чем свет стоит. И мне досталось – жестокий был, паскуда. А вы его знали? Ну? Нет, не знаю, какой он был по салабонству, а дед был зверье! Теперь вот его магазин и ищу. Не, да разве откажешься? Нам старшина все время, как такие разговоры начинаются, одну притчу рассказывает. Это у него так называется: рассказать притчу. Был, говорит, у нас сержант Попов. Ну, очень борзый был сержант, начал вроде служить отлично, а потом малость подвихнулся – грубит, на службу что-то положил, извиняюсь перед дамами…
Немного смущенное лицо женщины. Косящийся дневальный.
– Ну вот. Определили его по дембелю на недельку магазин Улитина этого искать. Тогда еще лопатами ворочали. Он три дня походил, а потом взял и старшину послал на три буквы – извиняюсь опять же перед дамами. За это пять суток «губы» парень огреб и магазин тот ловил еще две недели, а уж потом, как провонял хорошенько, тогда и домой. Такая вот притча, мда-а…
Попов медленно прошел в ленинскую комнату. Пусто. Дневальный подметает – поднял свое скучное лицо.
В телевизоре два пузатых прапорщика, прижавшись друг к другу, поют сочными голосами: «И от солдата и до маршала мы все семья, одна семья!»
Дневальный подметает за его спиной.
Попов подходит к окну и видит, что маленький сержант уже закончил строить караул и скомандовал тонко:
– Внимание, караул, шагом марш!
Жиденькая колонна вытоптала на асфальт.
Дневальный закончил подметать и все еще не уходит, переминается у дверей, настороженно крутит остриженной салабонской головой.
– Можешь не придуриваться, я узнал тебя, Смагин, – тяжело выговаривает Попов.
Недоуменное лицо дневального.
Рыжий сержантик, убедившись, что поворот пройден, и выматерив что-то сказавшего вслед дежурного по роте, поправил пилотку и, нагоняя строй, заорал:
– И рэз, и рэз, двэ, три. Караул!
– И РАЗ!!
Попов зажмурился, и караул застыл с поднятыми ногами и разинутыми ртами.
Пятки
Гимн
Я люблю армию.
Я очень люблю нашу армию. Я считаю, что мы играем мало маршей. У меня комок в горле, когда – чеканный шаг и державная поступь шеренг. Я фанатик строевого шага, мало маршей!
Это после армии я стал обращать внимание на походки людей. До армии я – шаркал. Будто постоянно в тапочках, как старый дед.
Через три месяца службы ротный на строевом смотре сказал: «Кто пробьет при прохождении строевым шагом вот эту самую половицу – поедет в отпуск».
Честно говоря, мне мучительно хотелось в отпуск, и я очень быстро научился ходить строевым шагом.
Половица, кстати, была самая обыкновенная – доска, коричневая краска, четыре гвоздя – два и два. И чуть-чуть прогибалась.
Я маршировал каждый вечер. Я стаптывал сапоги, сушил ноги, у меня стали синими пятки. Я прослыл сумасшедшим. Мне уже снились древесный хруст и нога, проваливающаяся в пустоту. Когда я бил ногой, у меня зверело лицо. Каждый шаг мой – сильный, нарастающий – это шаг домой. Я чувствовал это предметно.
Я уже никогда не шаркал. Даже в простом шаге, в личное время нога сама невесомо взлетала и красиво шмякалась в землю, настойчиво и сильно. Я и без сапог ходил так же, и только так.
Ротный с интересом разглядывал половицу. Она сильно посветлела, с нее облетела краска рваными островами, и стали выламываться щепки.
Но не только это отличало данную половицу. Когда перед моим дембелем в казарме перестилали полы, оказалось, что именно эта половица лежала впритирку на бетонной балке – все остальные имели под собой какой-то запас пустоты, и лишь она – впритирку, тесно, непоколебимо. Только слегка покачивалась.
Ротный сиял. Он думал, теперь я перестану махать руками и стучать ногой. Он ошибся. Сняв сапоги, я хожу точно так же, вызывая общее недоумение и смех, ищу братьев своих по отмашке рук, по подъему носка и выдерживанию равнения, по неслышному маршу и буханию каблуком в ненавистный асфальт.
Хотя иногда мне становится страшно, когда я понимаю, что армия и жизнь – это разные вещи, хоть и правятся одинаковыми законами. И чем сильнее стучишься ты в землю – тем скорее она тебя пустит. Те, кто шаркают, действительно дольше ходят по казарме, те, кто пытаются оставить следы, действительно скорее едут в отпуск.
Но у меня есть надежда: когда мы устанем ходить, когда с бессрочными отпускными билетами мы отправимся наверх или вниз, мы сделаем это ногами вперед – смотрите на них, в этом смысл; и тот, кому ведено разбираться, кто должен решить для себя, а значит – для всех, – и пометить себе в бумажке, что и как, он легко поймет и отделит розовые, нежные пятки тех, кто всю жизнь давил живое, ходил по плоти и цветам, от черных, потресканных, раздутых, мозолистых пяток искателей правды, гонимых поэтов, безвестных бродяг, несдавшихся беглецов, несчастных пророков, честных бедняков и неутомимых пешеходов – детей.
И поэтому – мало маршей играем.
Мало маршей!
Зёма
Иронический дневник
Я иногда думаю: как мы связаны с этими листами бумаги, синими и фиолетовыми строками, белыми полянами абзацев, что как вздох, и муравьиной тропинкой многоточий; ряды этих букв – колючая проволока, страница – наш концлагерь, как повязаны мы этим нудным постоянством внутреннего напряженного слушания себя, своей тишины между паузами сердцебиений жутким слухом уходящего времени, уходящего через нас, потому что мы – рваные края этой пробоины, мы – опаленные окраины этого ожога, мы – на линии разрыва этой сети, каждая ее ячейка лопается в нас…
Мы, прикованные ко времени наручниками часов, принужденные к ежедневному белому зеркалу бумаги, мы, что бы ни случилось – прекрасный взлет или дрожащая мерзость поворотов, мир тысяч лиц и музыки слов, – мы придем, как заколдованные, к горбатому нами столу и будем, перебирая среди знакомых и пошлых слов, искать то единственное, но все же бесконечно далекое от сердца сочетание, которое будет испорчено вконец напряженным и неумелым голосом при чтении…
Дневники наши – стрелы, не достигшие цели и упавшие в мягкую траву, потерявшие друг друга ладони, грубые скворечники для жар-птиц.
Когда весна, сильнее всего в гарнизоне пахнет свинарником.