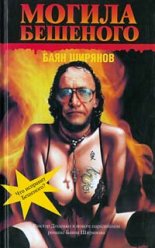Массажист Ахманов Михаил

Отслужив, он вернулся в Москву, но не в квартиру деда, а в комнату в коммуналке на Старом Арбате, которую по своим связям выхлопотал Захар Ильич. Дом стоял в центре, комната была большой, просторной, на два окна, соседи – приличными и пожилыми, однако Баглай не остался в Москве, а поменял столичную жилплощадь на крохотную лениградскую квартирку. Была она полуподвальной и сырой, холодной, как могила, без всяких излишеств, за исключением необходимых, зато на Петроградской стороне. Баглая неудобства не смущали; главное – убраться от родных, уехать из столицы. И он уехал. Навсегда.
Вниманием ему не докучали. Адрес свой, ни прежний, ни нынешний, он не давал, и мать писала иногда на главпочтамт; затем, в конце девяностого, проклюнулся отчим – сообщил о похоронах матери, с намеком, что не худо бы Баглаю появиться и проводить усопшую в последний путь. Но письмо пролежало на почте две недели, мать проводили без Баглая, и он был этому рад. Горя он не испытывал и о матери не вспоминал; помнил лишь раздраженную женщину с вечно злыми глазами.
…Он поднялся, быстрым движением облизал губы, подошел к секретеру из тикового дерева и выдвинул ящичек, где хранились лупы в латунных и бронзовых оправах. Затем приблизился к картине Гварди, поднялся на носки и стал рассматривать пейзаж – то его место, где маленькая гондола, покинув улицу-канал, плыла в сияющий простор лагуны. Гондольер стоял на носу суденышка, а на корме сидела дама в роскошном зеленоватом платье, и хоть ее фигурка и лицо были совсем крохотными, Баглаю почудилось в них что-то знакомое. Черты Виктории? А может, матери? Такой, какой она была лет в тридцать?
С минуту он размышлял о матери и о Вике Лесневской, а также о том, кем могла бы стать для него Виктория – да вот не станет, в силу множества причин и неблагоприятных обстоятельств; затем покачал головой, представив, что на корме гондолы – не загадочная венецианка, а нефритовая ваза. Китайская древняя ваза с клыкастым драконом, редкостный раритет ценой в пять тысяч долларов.
Ваза смотрелась лучше женщины.
Глава 5
Дело генеральши Макштас, присланное из Северного РУВД, легло на стол к подполковнику Глухову во вторник, девятого марта. Папку доставил щеголеватый черноглазый капитан Джангир Суладзе, но кроме глаз, фамилии да имени в нем не было ничего кавказского; как выяснилось с первых слов, в Грузии он не бывал, грузинского не знал, мать у него из Витебска, да и отец родился не в Кутаиси, не в Тбилиси, а в Ленинграде. Установив эти подробности биографии помощника, Глухов перелистал бумаги, вытащил рапорт Суладзе и углубился в его изучение.
Они сидели в маленьком глуховском кабинетике, где всякая вещь и документ находились на своих неизменных местах: текущие дела – в шкафу на верхней полке, в аккуратных скоросшивателях; те, что полагалось сдать в архив – тоже в шкафу, только пониже; в левом ящике стола – канцпринадлежности, скрепки, ручки, карандаши; в правом – чистая бумага и копирка; в тумбе – кофейник, баночка кофе, кружка, тарелка и ложка; на стене – морской пейзаж, на вешалке у двери – плащ с шерстяной подкладкой и берет – в обычное время Ян Глебович предпочитал ходить в гражданском. Оружие и кое-какие ценности – скажем, перстень с пальца разложившегося трупа – хранились в сейфе; все – пронумерованное и распиханное по пакетам и пакетикам, с записью, к каким делам относится та или иная вещь и где на нее акт экспертизы. Обстановка была неизменной уже лет пятнадцать, и лишь столик у окна, который прежде прогибался под тяжестью «Олимпии»,[7] теперь подпирал потертой спиной монитор и серый коробок компьютера. На письменном же столе у Глухова ничего не стояло и не лежало – только телефон да фотография Веры в простой деревянной рамке.
– Пустовато у вас, товарищ подполковник, – произнес Джангир Суладзе, сверкнув на стол огненными черными очами.
Глухов согласно кивнул.
– Пустовато. Но ты, во-первых, зови меня Яном Глебовичем, а во-вторых, не думай, что множество бумаг способствует движениям в делах. Знаешь, когда Черчилль пришел к власти и занял кабинет предшественника, его поразили бумажные горы на столе, в шкафах и на диване. Если все читать, не будет времени решать и думать – так он сказал и распихал бумаги другим министрам и помощникам. Стол его был чист. Он знал, как заставить работать подчиненных.
– А много ли подчиненных у вас, Ян Глебович? – с интересом спросил Суладзе, играя блестящей пуговицей мундира.
– Немного, – со вздохом признался Глухов, накрыв ладонью папку. – По этому делу – ты один.
По другим делам было не меньше, но и не больше, так как бригада «Прим» петербургского УГРО не отличалась многочисленностью. За стенкой с пейзажем, в самой просторной комнате, которую прозвали «майорской», сидел Гриша Долохов с Линдой Красавиной; за ними, в двухместных клетушках, располагалась бригадная боевая сила рангом помельче, зато ногами побыстрей – Верницкий, Голосюк и Караганов с тремя лейтенантами-практикантами. Напротив был кабинет Олейника, такой же маленький, как глуховский, и еще одна комнатка побольше, которую занимала Надежда Максимовна – бессменный секретарь и делопроизводитель. С ней у Глухова были сложные и деликатные отношения, особенно после смерти Веры.
Он покосился на Суладзе, но тот сидел с мечтательным лицом – видно, размышлял, как очистит стол по принципу Черчилля, выйдя в генералы. Придвинув к себе его рапорт, Глухов кашлянул и, вспоминая, принялся водить пальцем по строчкам.
– Хорошо пишешь, Джангир, красиво, но лучше бы без излишеств… Значит, так: обыск ты произвел, замки проверил, с Мироновым и Орловой побеседовал… А с участковым? Что участковый о нашей генеральше говорит? И в жилконторе? В жилконторе был? Что там?
– А ничего, Ян Глебович. Сказали, что за квартиру, свет и воду платила исправно, соседей не затапливала, не шумела и не устраивала пьянок. А участковый… Участковый там крутой. К вам мечтает перевестись, в УГРО, и потому сосредоточен на грабежах и кражах. В помощи не отказал, но ничего интересного не выяснил. Ему не до бабулек-генеральш.
– Раз так, мы его не возьмем, – пробормотал Глухов, внимательно перечитывая абзацы, где говорилось об обыске. – К бабулькам надо уважение проявлять… эпоха у нас такая, когда бабульки в цене… сегодня она бабулька, а завтра – премьер-министр или там госсекретарь… мигнет, и бомбы посыплются… или соберет внучат под красным флагом – да в Сербию… – Он оторвался от рапорта и спросил:
– Была у нашей покойницы телефонная книжка? Письма, открытки, дневник? Рецепты там кулинарные, список продуктов, любые записи? Знаешь, старики на память не надеются, записывают то да се… Что нашел?
– Писем она не хранила, а может, не получала, и дневников не вела, – доложил Суладзе. – Книжка с телефонами имеется, могу представить. Но номеров в ней не густо. Московские подруги юных лет, и почти при каждой – дата. Я обзванивал – умерли. Еще телефон Орловой, райсобеса, поликлиники, жилконторы… ну, и так далее. Оздоровительный центр «Диана», электрик, водопроводчик, нотариус…
– Нотариус… Тот, который сделку с квартирой оформлял?
– Он самый. То есть, она самая. Красивая женщина, – признался капитан и покраснел.
– Значит, и с ней была беседа, – произнес Глухов. – Молодец! Обстоятельный ты мужик, Джангир, серьезный! И чем эта Орлова недовольна, все жалобы пишет… – он небрежно пошевелил папку. – Ну, раз ты добрался до красотки-нотариуса, то уж у Миронова наверняка побывал? На прежней квартире генеральши?
– Само собой, Ян Глебович. Хоть не очень приглашали, но настоял и побывал.
– И какие впечатления?
– Смутные. Конечно, Миронов не шесть тонн генеральше доплатил: у него была квартира трехкомнатная, но шестьдесят пять метров и на Северном, а она отдала тоже трехкомнатную, но метраж – восемьдесят два, в старом фонде, на Суворовском. Семнадцать метров разницы плюс центр… Можно двенадцать тысяч получить, можно – двадцать… И потратить их можно. Дать, к примеру, взаймы.
– Орлова об этом бы знала, – возразил Глухов и снова уставился в рапорт. – Квартира покойной – на третьем этаже… Вот здесь ты написал: опрошены ближайшие соседи… Надо думать, сверху, снизу и на лестничной площадке… А на девятый этаж ты поднимался? Или на двенадцатый?
Темные глаза Джангира затуманились, он грустно вздохнул и признался, что этот труд переложил на плечи участкового.
– Давай-ка сам сходи, – распорядился Глухов. – Дом точечный, один подъезд, девяносто пять квартир, не считая генеральской… Вот в каждую и загляни, побеседуй. О результатах доложишь послезавтра.
Суладзе откозырял и ушел, а Ян Глебович направился в «майорскую» и просидел там до вечера с Линдой Красавиной. Линда, темноволосая стройная брюнетка, перевелась к «глухарям» года два назад, из налоговой полиции, что было, по мнению Глухова, весьма полезно и своевременно. Она разбиралась в компьютерах, имела экономический диплом, а главное, была настоящим бухгалтерским ассом. Эти сухие науки ей, впрочем, не вредили; нрав у Линды оказался спокойный и доброжелательный, а внешность и туалеты – выше всяких похвал. Ян Глебович ее немного дичился – чем-то она напоминала Веру, его покойную жену.
Но дело – прежде всего. А дело, которым она занималась с Глуховым, требовало самой высокой квалификации в сфере финансов, договоров и зарубежных поставок. С месяц назад, на бывшей купчинской свалке, где нынче строились гаражи, откопали покойника с перерезанным горлом и изуродованными кистями. Зарыли его глубоко и давно, так что одежда истлела, а труп наполовину разложился; документов при нем, естественно, не нашлось, а был только перстень на среднем пальце левой руки – верней, на том, что от пальца осталось. Серебряный перстень, который убийцы либо сочли нестоящей добычей, либо побрезговали – его покрывала кровь от перерубленных пальцев.
По этому перстню Глухов определил личность убитого – после немалых трудов, звонков, экспертиз и утомительной беготни по ювелирным мастерским. Как выяснилось, звали его Саркисов, был он фармакологом, в прошлом – доцентом из Химико-фармацевтического, ударившимся в коммерцию. Нажил кое-какие деньги и собирался открыть при мясокомбинате цех по выпуску лекарств, да вдруг исчез – в тот самый день, когда готовились монтировать оборудование. Было оно уникальным, отечественным, приобретенным в Красноярске, но, после гибели Саркисова, затея его пошла прахом, установку кто-то у вдовы покойного перекупил, а лекарства, противоаллергенные препараты, зиртек и кларитин, телфаст и фенкарол, по-прежнему ввозились из-за границы. Глухов, ухватившись за факт продажи оборудования, исследовал с Линдой цепочку фирм, липовых или уже не существующих, передававших друг другу ящики с аппаратурой, перевозивших их с места на место, отыскал нынешнего владельца и поразился: «Аюдаг», завод шампанских вин, никак не связанный с фармакологией и разложившимися трупами. Собственно, и установки на «Аюдаге» не нашлось, где-то она застряла в процессе многократных перевозок – возможно, там, где предприимчивым конкурентам резали пальцы и глотки.
Чтоб выяснить это, пришлось идти окольными путями, просеивать компании и фирмы, торговцев и чиновников, снабжавших Петербург лекарствами; нередко – с выгодой для своего кармана, ибо там, на Западе, тоже существовала конкуренция, и что у кого покупать и за какую цену, являлось предметом яростных споров. В таких делах помощь Красавиной и грамотного медицинского эксперта была совершенно необходимой, и Глухов ею не пренебрег. В своих расследованиях он не пренебрегал ничем, ни обстоятельствами, ни деталями; тем более – полезными людьми.
Когда посиделки с Линдой уже подходили к концу, в «майорскую» заглянул Олейник.
– Чайком не угостите, сыскари? Покрепче и послаще… Я, доложу вам, взмок, поскольку от начальства. Литр жидкости потерял, надо бы возместить.
Он промакнул платком вспотевший лоб. Линда, улыбнувшись, поднялась, включила чайник и показала глазами на полотенце у раковины.
– Умойся, Игорь. Что-то ты очень взъерошенный… Пот ручьями, и усы обвисли… Никак шею мылили? А за что?
Олейник неопределенно пожал плечами.
– Пока не мылили, но намекали… на вас намекали, Ян Глебович, и на ваше фармацевтическое дело. А намеки такие: есть у Глухова труп со свалки, пусть трупом да свалкой и занимается, а к важным людям не лезет. Беспокоятся эти люди, жалуются, звонят…
– Это кто ж такие? – Глухов прищурил глаз.
– Надо полагать, из мэрии. Или из медицинского департамента. Должностей и фамилий мне не назвали. Но общая установка ясна: рук не выкручивать, ногти не рвать, и не тушить на фигурантах сигареты.
– Олейник помолчал, пощипывая светлый ус, и вдруг почти виновато добавил: – Вы с ними поделикатней, Ян Глебович… Люди и правда важные, хлопот не оберешься.
– Ты меня знаешь, Игорь, я рук не выкручиваю, – отозвался Глебов. – Но ты и другое знаешь: нераскрытых дел за мною не водится.
– Знаю. Потому и беспокоюсь, – сказал Олейник, направляясь к раковине.
Глухов был сыщиком от бога, и нераскрытых дел за ним и правда не водилось – по крайней мере, последние лет двадцать. Олейник об этом знал, знали в управлении и, вероятно, в более высоких сферах, что привело к двойному результату: во-первых, Глухов прочно сидел в подполковниках, а во-вторых, дела определенного свойства ему не поручались. Скажем, убийство депутата Старовойтовой… Вдруг раскроет? Вдруг найдет убийц, а к тому же – что было б не в пример опасней – их вдохновителей?
Глухов с такой ситуацией смирился. Не то чтоб она совсем его не волновала, но здравый смысл был сильней эмоций, и он с неотвратимостью подсказывал, что всех преступников не переловишь – тем паче, что иных не собираются ловить. В этом даже усматривалась какая-то справедливость, не касавшаяся, само собой, убийц Галины Александровны; но будь у Глухова воля и власть, он бы и сам не всех ловил, а сделал бы исключение – к примеру, для отстрельщиков, специалистов по преступным авторитетам и проворовавшимся банкирам. Они, конечно, нарушили Закон, но все же были достойны снисхождения, ибо существовала разница между Законом и Справедливостью; Закон был придуман людьми и потому несовершенен, а Справедливость, в понятиях Глухова, была категорией императивной, нравственным велением, присущим разуму и независящим ни от политики, ни от иных сиюминутных обстоятельств. Это являлось чистой воды кантианством, но Глухов был в убеждениях тверд, и потому сидел в подполковниках.
Они напились чаю. Линда, отвернувшись к зеркалу, мазнула по губам помадой и начала споласкивать кружки. Олейник, скосив на нее глаза, понизил голос и промолвил:
– Звонили мне от Кулагина, из Северного РУВД, дело нам передают. Что-то об ограблении, но с сомнительным оттенком. На вас ссылались, Ян Глебович. Я не отказал.
Это было разрешение, высказанное в самой тактичной форме – все-таки Глухов являлся теперь подчиненным, а бывший его ученик – начальником. В нехитрой игре, которую они вели друг с другом на протяжении трех последних лет, существовали определенные правила, согласно которым Глухову все дозволялось, но он был обязан не подводить начальство или хотя бы информировать и держать его в курсе. Сотрудники знали про этот неписанный уговор; знала и Линда, а потому не прислушивалась и с кружками не торопилась.
Глухов в нескольких словах рассказал о происшедшем, затем добавил, что криминалов, возможно, и не было, а только попался настырный жалобщик. Это Олейнику не понравилось; потеребив усы, он высказался в том смысле, что одна настырная женщина может загнать трех милицейских подполковников. Это верно, согласился Глухов, но для конкретных дел есть у него капитан, красивый, щеголеватый, а главное – усердный. Вот он-то пусть и бегает.
– Такой черноглазый, в наглаженном мундире? – спросил Олейник. – Я ему сопроводительную подписывал. Суладзе, кажется? Грузин? А не похож!
– Сын пастуха и свинарки, – откликнулся Глухов, но его начальник шутку не понял, ибо, за младостью лет, картины такой не смотрел.[8] Ян Глебович уже собирался его просветить, но тут дверь распахнулась, Валя Караганов просунул в «майорскую» голову, сделал страшные глаза и завопил:
– Линда! Игорь Корнилович, Ян Глебович! У Вадика, практиканта нашего, именины! Он торт припер, вот такой, с колесо от «жигуленка»! А мы и позабыли!
– Это в ы позабыли, – промолвила Линда, неодобрительно сморщив носик. – А профсоюз, Валечка, не забывает ничего. У профсоюза есть компьютер, а в нем – все дни рождений. Даже твой. – С этими словами она достала из тумбочки пакет, закленный скочем, и пять гвоздик в стеклянной вазе. – Ну, зови именника. Тортик-то в дверь пролезет?
– Если не пролезет, оприходуем в коридоре, – с нахальной усмешкой сообщил Караганов и исчез.
Линда принялась неторопливо расставлять кружки. Ей было тридцать семь, но девичьей стройности она не потеряла и двигалась легко и грациозно, как балерина. Словно танцует, подумалось Глухову.
Заметив, что на нее глядят, Красавина улыбнулась, поправила темный локон и приказала:
– Шли бы вы за посудой, подполковники. У меня на всех не хватит. И не забудьте Надежду Максимовну позвать.
У порога Глухов обернулся. Линда все еще улыбалась, глядя на него, и приглаживала волосы таким знакомым, но почти забытым жестом.
Где он его видел? Кажется, у Веры…
Джангир Суладзе явился утром, в приподнятом настроении, принес телефонную книжку генеральши и доложил, что некая бабушка Марья Антоновна с пятого этажа бывала у покойной и видела там какого-то доктора. Бывала – сильно сказано; ее впустили лишь однажды и по серьезному поводу – вызвать неотложку, когда с супругом Марьи Антоновны, сердечником и гипертоником, случился приступ. Телефон у нее имелся, но что-то с ним сотворилось под Новый Год, как и у многих других соседей; что-то чинили на телефонной станции, однако до праздника не дочинили, и Марья Антоновна, сунувшись безрезультатно туда-сюда, в панике заметалась меж этажами. Потом случайно ткнулась к генеральше – у той телефон каким-то чудом работал, она позвонила и вызвала скорую.
Но до того, по словам Марьи Антоновны, случился странный эпизод. Вошла она в квартиру генеральши, а там – молодой человек при белом халате и саквояжике; взгляд – строгий, брови насуплены, в лице – серьезность, так что по виду – вылитый доктор. Марья Антоновна – к нему, как к ангелу небесному: спаси, родимый, старика, старик лежит без памяти и еле дышит, не отпоить мне его микстурами, укольчик бы надо… А молодой человек насупился еще сильней и что-то невнятное пробормотал – вроде не тот он доктор, не по сердечным делам, и никаких уколов не делает. А генеральша тем временем звонила в неотложку и дозвонилась, так что Марья Антоновна, перекрестившись и воспрянув духом, отстала от мнимого доктора.
Выслушав этот рассказ, переданный Джангиром со всеми деталями и близко к тексту, Глухов подумал, что надо бы Марью Антоновну навестить. А заодно и с Орловой познакомиться, да и с ее супругом. Из всех оперативно-следственных мероприятий он больше всего полагался на разговоры с людьми; люди, конечно, были существами забывчивыми, скрытными, подчас иррациональными, а иногда и лживыми, но все же, в отличие от неодушевленной материи, они обладали речью и мимикой, а также совестью и здравым смыслом, что было еще важнее. Люди для Глухова были намного интересней вещей, тех молчаливых предметов, что именуются вещественными доказательствами. Он умел разговаривать с людьми и знал, как доискаться истины, не обманувшись ложью.
Отправив Суладзе в поликлинику Нины Артемьевны – на поиски «не того доктора», Глухов отыскал в телефонной книжке номер Орловой и позвонил. Она была еще дома, и Ян Глебович договорился встретиться с ней и с мужем ее Антоном в квартире покойной, ровно в восемь вечера. Заодно он представился и сообщил, что дело передано из Северного РУВД на Литейный четыре, в оперативно-следственный отдел уголовного розыска. Орлова, кажется, осталась довольной.
В тот день у Глухова стояли в плане два визита, на фабрику лекарственных средств и в Химико-фармацевтический институт, к персонам такого ранга, которых он предпочитал не вызывать к себе; к тому же в привычной обстановке беседы проходили откровенней, да и сама обстановка могла кое-что подсказать. Он собрался, спустился вниз, в вычислительный центр, вручил одной из девушек, самой усердной и надежной, шоколадку, и попросил отыскать все зафиксированные случаи внезапной смерти стариков за три последних года. При тех условиях, что старики одиноки, жили в отдельных квартирах и в них же умерли. Потом уселся в машину, в синий служебный «жигуленок», и поехал на фабрику.
С фабрикой и институтом он разобрался часам к шести – только-только, чтобы успеть перекусить и домчаться с Петроградской на окраину. Дом, в котором закончилась жизнь Нины Артемьевны Макштас, стоял на углу Северного и Гражданского проспектов. Двенадцатиэтажная башня из серого кирпича, с закругленными обводами, лоджиями и высоким крылечком с кирпичными колоннами, что поддерживали выступавший козырек. Совсем неплохой дом, гораздо престижнее, чем тянувшиеся по обе стороны панельные девятиэтажки. Глухов подъехал к нему в семь вечера, вылез из машины и поднялся на пятый этаж.
Открыла ему сухонькая старушка в очках, лет под восемьдесят, но удивительно шустрая и живая. Глухов предъявил документы, старушка изучила их из-под очков и, признав в визитере мужчину солидного, в чинах, провела на кухню и пустилась в воспоминания. Ян Глебович ей не мешал, дождался, когда получасовой монолог закончится и только после этого стал задавать вопросы. Выяснилось, что «не тот доктор» светловолос, широкоплеч и ростом не обижен; что нос у него не длинный и не короткий, губы тонковатые, щеки впалые, стрижка – короткая, и на вид ему не больше тридцати пяти. Насчет глаз старушка сомневалась – то ли серые, то ли зеленые или голубые, но точно не черные и не карие.
Кивая в такт речам Марьи Антоновны, Глухов чиркал карандашом в блокноте, но не записывал, а рисовал – профиль, фас и снова профиль, пять или шесть набросков, все – небольшие, чтоб поместились на одном листе. Пока он не выслушал ничего такого, о чем бы не рассказывал Суладзе – плюс всю старушкину родословную, а также диагнозы болезней, какими страдала она сама и ее супруг-сердечник, дремавший сейчас на диванчике в комнате. Марья Антоновна принадлежала к тем женщинам, перед которыми лучше ставить конкретные вопросы; в иной ситуации имелся риск попасть в водоворот воспоминаний, без всякой надежды прибиться к твердой почве, где произрастают даты, факты, имена и адреса.
Глухов повернул блокнот к старушке, и та восхищенно всплеснула руками.
– Да ты, родимый, никак художник? А говорил – милиционер! Разве ж у вас в милиции рисуют?
– Теперь не рисуют, – со вздохом признался Глухов. – Теперь у нас компьютер есть. Сядешь перед ним и приставляешь губы к носу, и уши к голове. Пока что-нибудь похожее не получится… А у меня как вышло?
– Вот энтот вроде бы похож, – Марья Антоновна ткнула сухим пальчиком в один из рисунков. – Губки, однако, поуже, бровки погуще, а подбородок сапожком.
Глухов исправил рисунок, заметил, что в нем появилось что-то волчье, и спросил:
– А как вам показалось, Марья Антоновна, доктор этот был с генеральшей хорошо знаком?
– Не знаю, родимый, не ведаю. Покойница-то в прихожей была, там у нее телефон, а энтот в комнатке, значит, остался, у дверки, и зыркал так неприветливо, будто я ему чем помешала. Хмурый такой, сурьезный…
– При вас они о чем-нибудь говорили?
– Да нет, не припомню… Я ведь не в разуме была, дрожала да тряслась в коленках – шутка сказать, старик мой помирает, а телефоны-то все повыключены, трубки в автоматах пообрезаны, а соседей кого нет, а кто сам на ножках не стоит, от старости иль по иным каким причинам – денек-то выдался субботний, аккурат второе января, сам понимаешь, что в энтот день творится, у молодежи пьянка-гулянка, а ежели какой старик помрет, так что им, молодым?.. А ничего! Я уж, бабка старая, наладилась бобиком в больничку бежать на Вавиловых, больничка-то ближе поликлиники, а только пока добежишь, пока добьешься и докричишься, пока…
– Это верно, – с сочувствием согласился Глухов, – пока добежишь и докричишься, или бобику конец, или кричалка отсохнет. А вот не припомните, Марья Антоновна, был ли на этом сурьезном докторе какой-нибудь приметный знак? Может, родинка, татуировка, кольцо, сережка или значок на халате? Или жест особенный? Или в голосе что-то такое? Иные, перед тем, как сказать, хмыкнут или покашляют, иные вовсе заикаются, иные слова тянут, будто нараспев… Такого не помните?
– Энтот не заика и не перхун, без колечек и сережек, ручки и личико чистые, ничем не разукрашены, – уверенно ответила старушка.
– А вот как он ручками и личиком шевелит… Шевелит, да! Я к нему с просьбой, а он губки облизал – быстрым таким язычком, ровно как змеюка – под носом вытер, и говорит: не тот я доктор, уколов не делаю! Какой же тогда доктор? Вот доктора с неотложки – те колют! У тех…
– Может, он был какой-то особенный доктор, психиатр или логопед, – предположил Глухов, чтобы сменить тему. – Те тоже уколов сердечникам не делают. А вот не страдал ли он насморком?
– Это как так, родимый? Прости бабку, не поняла.
– Вы сказали – губки облизал и под носом вытер. Значит, было что вытирать?
– Да нет же! Не чихал он и не сморкался, а пальчиком сделал – вот так, на манер усов! – Марья Антоновна показала – как, приложив указательный палец к верхней губе.
Глухов поблагодарил и поднялся. Старушка засуетилась, вспомнила про чай, стала извиняться, что угостить, по пенсионной скудости, нечем, будто не милицейский подполковник к ней пожаловал, а гость дорогой. Ян Глебович эти хлопоты пресек со всей наивозможной мягкостью; было без трех минут восемь, а опаздывать он, как говорилось прежде, не любил.
В квартире покойной генеральши прием его ждал не столь радушный, зато подстерегала неожиданность: Антон Орлов, супруг Елены, оказался довольно высоким, хмурым, светловолосым и сероглазым, с короткой стрижкой и узковатыми губами. Правда, губы он не облизывал и не прикладывал палец под нос, но во всем остальном был сильно похож на вероятного фигуранта. Кроме того, и профессии у них совпадали, поскольку Орлов являлся зубным врачом, что несомненно входило в категорию «не тот доктор».
Отметив, что надо предъявить эту личность старушке с пятого этажа, Глухов завел неторопливый разговор, расспрашивая про подруг покойной, про врачей и работников соцстраха, которые могли бы Нину Артемьевну навещать, про соседей, про бывших сослуживцев генерала и даже про местных водопроводчиков и электриков. Это называлось «поговорить о королях и капусте», так как ответы Орловой его не слишком интересовали; другое дело – она сама. Она и ее супруг, светловолосый, хмурый и сероглазый.
Какие они? Честные люди? Или способные на преступление? На ложь, на глупый розыгрыш? Кем-то обиженные и мстящие за ту обиду? Или попросту склочные? И как обстоят дела между ними? Довольны ли они друг другом или готовы разбежаться? Прочен ли их брак? Антон Орлов – что он собой представляет? Какой он муж? Заботливый глава семейства или потаскун и алкоголик? Что связывает с ним Елену – не в прошлом, а сейчас? Искреннее чувство? Привычка? Дети?
Вопросы, кружившие у Глухова в голове, были простыми, но не из тех, какие можно задавать в приличном обществе. Людей наизнанку не вывернешь, о сокровенном не спросишь, а если спросишь, то шансов получить ответ гораздо меньше, чем насмешку или грубость. В сущности же все зависело от этих неполученных ответов. Есть дело, нет дела… Какое дело, если Орлова лжет?.. А вот если не лжет, то это уже интересное обстоятельство. Это уже криминал – хищение крупной суммы плюс вероятность убийства…
Именно это Глухов и пытался установить, наблюдая за супругами. Его подозрения насчет Орлова были очень неопределенны; если тот и замешан в убийстве, Елена об этом ничего не знала. В иной ситуации, зачем ей писать все эти жалобы и заявления? Может, она ненавидит мужа… Но ненависть скрыть непросто, а Глухов ее не замечал. Наоборот, беседуя с ним, нервничая и временами повышая голос, Елена косилась на мужа, будто в поисках поддержки, и эти взгляды ее успокаивали: тон становился ровнее, таяли алые пятна на щеках, и губы уже не кривились в раздражении. Орлов же больше молчал и курил, лишь изредка кивая – как бы в знак того, что жена говорит за них обоих, и все ею сказанное – правильно.
А сказано было немногое и, в общем, уже известное Глухову. Ни о подругах Нины Артемьевны, как умерших, так и живых, ни о соседях, врачах и электриках, ни, тем более, о генеральских сослуживцах у Орловой полезных сведений не нашлось. Ее бытие протекало совсем в иной плоскости, связанной с Ниной Артемьевной лишь ожиданием наследства да редкими визитами; возможно, сама она была Елене дорога, но крохотный ее мирок и обитавшие в нем люди не вызывали у Орловой интереса. Глухов еще не понял, чем это вызвано – душевной ли черствостью или какой-то иной причиной, какой-то целью, затмившей сострадание.
Но в том, что эта цель была, Ян Глебович не сомневался. Ее, быть может, не скрывали, однако и не афишировали; не тайна, но семейный маленький секрет, который можно обсуждать с друзьями, не предназначенный для посторонних. Это ощущалось по многим деталям, не ускользнувшим от взгляда Глухова: и в скрытой напряженности беседы, и в том, как молчал Орлов, как хмурился и курил сигарету за сигаретой, как подрагивали пальцы его жены и вспыхивали пятна на щеках, как временами срывался голос. Казалось, они чувствовали себя виноватыми. Но отчего?
Сопровождаемый Антоном и Еленой, Глухов осмотрел квартиру – довольно большую, трехкомнатную, убранную коврами, хрусталем, обставленную дорогой венгерской мебелью, какая была в моде лет тридцать назад. Слишком просторное жилище для одинокого человека… Странно, что генеральша Макштас не выбрала что-нибудь поскромнее.
Он хмыкнул и, повернувшись к Елене, спросил:
– Нина Артемьевна справлялась с уборкой? Или кото-то нанимала?
– Нет. Мы помогали… раз в три-четыре месяца. – Бросив взгляд на мужа, Елена пояснила: – Мы говорили ей, что эта квартира слишком велика, а она смеялась – вам больше останется, у вас жених с невестой подрастают. Но на самом деле… На самом деле, когда Нина Артемьевна переезжала, ей не хотелось ничего терять. Вся эта обстановка, люстры, посуда и гарнитуры, все это – память о Юрии Петровиче… даже не столько о нем, сколько о прожитой жизни… Да и мебель хорошая, как теперь такую купишь? А продавать за бесценок… Ну, вы понимаете…
Она махнула рукой.
– Понимаю, – сказал Глухов, рассматривая сервант, набитый хрусталем, фарфоровыми сервизами, какими-то статуэтками, шкатулками, ларчиками и ларцами. Выше, осколком минувшего и позабытого, висела фотография: генерал-лейтенант Макштас, в парадной форме, при регалиях, и Нина Артемьевна – еще не старая, лет, вероятно, пятидесяти; она склонила голову над генеральским плечом и улыбалась. – Понимаю… – повторил Ян Глебович, бросил взгляд на многочисленные ларцы и спросил:
– Вы уверены, что Нина Артемьевна не держала денег в банке? Могли ведь и пропасть после августовского обвала…
Ответил Антон Орлов. Голос его был хрипловатым и напряженным.
– Нина Артемьевна банкам не верила, так что деньги хранились дома, в серванте, вот в этом ящике, где Лена их и нашла… Только не семнадцать тысяч, а семь. А в начале января вся сумма было в сохранности. Мы приезжали к ней на Рождество, она показывала Лене… Она ей иногда показывала, что где лежит… говорила: ты – наследница, должна знать…
Он дернул краешком рта и закурил. На щеках Орловой вспыхнули алые пятна – она, как подметил Глухов, легко приходила в возбуждение.
– Поймите, Ян Глебович, я вам голову не морочу! Ну зачем мне это надо, черт побери? Зачем? Нина Артемьевна дала мне тысячу, и я вам об этом сказала, а могла бы и не говорить, ведь так? Но ведь сказала, сказала!.. И вам, и капитану вашему, бездельнику и растяпе…
– Муж коснулся ладонью ее плеча, и голос Елены сразу стал спокойней и ровнее. – Понимаете, я не капризничаю и не пытаюсь вас обмануть – зачем это мне?.. Я только хочу получить свои деньги… всего-навсего получить то, что мне принадлежит… что мне оставили… мне, Антону и нашим детям, – поправилась она, оглянувшись на мужа. – Давайте так договоримся, Ян Глебович: сумма крупная, и если вы ее найдете и вернете, то мы… мы… – Она запнулась и опустила глаза. – В общем, мы вас тоже не обидим. Понимаете?
Глухов не сразу сообразил, что ему предлагают частный гонорар, наверняка превосходивший в двадцать раз его зарплату. По нынешним суровым временам это не выглядело оскорбительно – скорее наоборот, являлось свидетельством доверия и, в какой-то степени, приязни. Бог велел делиться… Но лишь с достойными людьми, подумал Ян Глебович, скрывая усмешку. Джангиру Суладзе вознаграждения не предлагали.
Он покачал головой и произнес:
– Не будем поминать про деньги. Деньги я не могу найти с полной гарантией; найду того, кто взял их. Человека я попытаюсь разыскать, а все остальное зависит от случая. Деньги могут быть растрачены и пропиты, поделены и пущены на ветер… Да и в деньгах ли дело? – Глухов посмотрел на фотографию, висевшую над сервантом – ту, на которой улыбалась Нина Артемьевна, прислонившись к плечу своего генерала. – Дело-то ведь в другом… Хоть вы, возможно, считаете иначе.
На щеках Орловой снова вспыхнули красные пятна, но муж, словно желая успокоить, обнял ее за плечи и примирительным тоном произнес:
– Вы правы, Ян Глебович, дело в другом. Нельзя, чтоб старики умирали насильственной смертью. Не по-божески это.
…Спускаясь по лестнице, Глухов думал, что вряд ли его подозрения насчет Орловых основательны. Что-то они скрывали, что-то личное и, вероятно, имевшее отношение к Нине Артемьевне – но при жизни, а не после смерти. И оба они не походили на людей, способных на обман или убийство. В этом Ян Глебович не сомневался, ибо повидал на своем веку великое множество всяких убийц, злодеев и насильников и чувствовал их с уверенностью гончей, берущей лисий след. Для него насильник – тот, кто душит, режет и стреляет – обладал даже иным запахом, не свойственным нормальным людям; именно запахом, поскольку иного слова он подобрать не мог. Возможно, это являлось лишь примитивным описанием той напряженности и тревоги, которые он ощущал, вступая в контакт с убийцей, но Глухов не задумывался о точных терминах. Дар его – или накопленное с опытом чутье – всегда срабатывали, и этого было вполне достаточно.
Но в данном случае запахов крови и страха не ощущалось. Ни в малейшей степени! Что-то было, но – другое… Что?
Как они потратили ту тысячу долларов?.. – мелькнуло у Глухова в голове, когда он садился в машину. Проели? Что-то купили? Отдали долг? Съездили за рубеж?
Он включил зажигание, салон озарился светом, ни череда вопросительных знаков все еще маячила перед ним, будто прорисованная на темном обсидиане лобового стекла.
Глава 6
– Ставки сделаны! – выкрикнул крупье.
Колесо рулетки завращалось с тихим шелестом, дробно застучал шарик, перепрыгивая из лунки в лунку, красные и черные цвета слились в монотонную серую ленту, затем, когда колесо стало кружиться медленней, лента вновь рассыпалась на яркие контрастные пятна. Мелодично прозвенел звонок.
– Двадцать четыре, черное! – объявил крупье, передвигая лопаточкой фишки. Баглай проиграл. Как и все остальные, сгрудившиеся у стола под круглым, похожим на выпуклый щит светильником.
Играть Баглай не любил, это казалось ему пустопорожней тратой времени и денег, но в «Сквозной норе» главным было все-таки казино; тот, кто его не посещал, не играл и не проигрывал, не мог рассчитывать на уважение челядинцев. Чем больше проигрыш, тем респектабельней клиент, тем больше уважение. Но, как считал Баглай, всему на свете есть свои пределы, и уважению, и респектабельности, и проигрышам. А в особенности – выигрышам. Выигрыши в «Норе» тоже случались, но с определенными персонами, с чиновниками из мэрии либо районной администации. Впрочем, выигрывали и депутаты Законодательного Собрания, и налоговый инспектор, и еще какие-то личности, сытые, стриженые и нагловатые. Счастье улыбалось им гораздо чаще, чем Баглаю, ибо владельцы казино твердо усвоили: даже червяк, оголодав, может подняться на дыбы.
Баглай заглядывал сюда не ради игр и проигрышей, а по гастрономическим соображениям: в подвале «Норы» располагался китайский ресторанчик, где бесподобно готовили утку по-пекински, а также иные экзотические яства. Там было тихо и не очень людно; публика – завзятые чревоугодники и гурманы – сидела у низких полированных столиков, разгороженных ширмами, а выше покачивались фонари, словно рой миниатюрных деревянных пагод, презревших земное тяготение и разом поднявшихся к потолку. От фонарей, столов и ширм, расписанных горными пейзажами в древнекитайском духе, пахло сандалом и кардамоном; тарелки и миски из фарфора были невероятной чистоты и белизны, а подавали их девушки в длинных парчовых платьях, смуглые и узкоглазые, напоминавшие пестрых тропических рыбок. Возможно, китаянки из Пекина либо их питерский эквивалент из корейских и бурятских переселенцев. Девушками Баглай не интересовался, да и утка с недавних пор не лезла ему в горло; он больше сидел, пил ароматное вино из крохотных стопочек да глядел на нишу в противоположной стене.
Там, красуясь нежно-зелеными нефритовыми боками, сияла ваза эпохи Мин, привезенная Ли Чунем, шеф-поваром и хозяином заведения, из родных краев, из Цзинани провинции Шаньдун, с берегов полноводной реки Хуанхэ. Нефрит был гладким, полупрозрачным, того же оттенка, что и зеленый чай в фарфоровой чашке, но дракон в кольчужной чешуе, обнимавший вазу тугой многократной спиралью, казался позеленее, цвета весенней травы – то ли от того, что пришлась в том месте подходящая прожилка, то ли из-за большей толщины нефрита, то ли по иным причинам, секретным и тайным, ведомым древним мастерам, но неизвестным их расплодившемуся и не столь усердному потомству. Ли Чунь утверждал, что вазу изготовили в императорских мастерских Цзиньдэчженя, веке в пятнадцатом или шестнадцатом, но пролетевшие столетия ее как будто не коснулись: на поверхности – ни трещинок, ни царапин, полировка сохранилась безупречно, и каждый драконий коготок и клык, каждая чешуйка, мельчайшие гребни на спине и шпоры на растопыренных лапах выглядят так, будто расстались с резцом и полировочным войлоком не далее, чем вчера. Редкая вещь, драгоценная!
Баглай обхаживал Ли Чуня месяцев восемь, однако упрямый китаец ссылался на то, что ваза – семейная реликвия, что для таких предметов нет цены, и что в Поднебесной, по древней традиции дао, нефрит и яшму не продают, ибо продать их – кощунство; продавшему их не будет ни удачи, ни счастья. Не продают, но дарят, возражал Баглай, понаторевший, с легкой руки Тагарова, в китайских и даосских хитростях; дарят и преподносят в знак приязни и дружеских чувств, особенно тем, кто посвящен в искусство чжень-цзю и тайны шу-и, весьма небесполезные в промозглом питерском климате. Он даже процитировал Ли Чуню даосский апокриф о том, как надо гармонизировать энергию, чтобы прожить не меньше века:
- Дыхание должно быть легким,
- Сердце должно быть спокойным,
- Спина должна быть выпрямленной,
- Живот нужно почаще гладить,
- Речь должна быть немногословной,
- Кожа должна быть всегда увлажненной,
- А рука – щедрой.
Выслушав это поучение, Ли Чунь восхитился, выпрямил спину, погладил живот и преподнес Баглаю миску креветок, поджаренных в кипящем масле. Затем они договорились: Ли Чунь, в знак почитания и приязни, дарит мастеру даоинь[9] драгоценную вазу, а тот – в знак уважения и любви – дарит Ли Чуню пять тысяч американских долларов.
Сейчас доллары эти жгли Баглаю карман, напоминая о скором свидании с вазой; ее холодная гладкая поверхность будто скользила под пальцами, и казалось, что растопыривший лапы дракон замер в нетерпеливом предчувствии ласки. Но, появившись в «Норе», Баглай, как всегда, не торопился: сбросил дубленку на руки услужливым швейцарам, благожелательно кивнул, когда один из них, вертлявый рыжий парень, прошелся щеткой по его австрийским сапогам; затем направился к лестнице, поднялся на второй этаж, к игорным залам, купил жетоны и начал бродить между столов, ставить то на цвет, то на зеро, то на номер, проигрывать и выигрывать по маленькой. Тут важен был процесс, а не результат – и более того, слишком успешные результаты могли рассматриваться в качестве демарша и посягательства на интересы заведения. Публика это понимала. Гости – бизнесмены из новых русских, их дамы в туалетах от «нино риччи» и «кордена», пара политиков средней руки и два десятка иностранцев – сползались в «Нору» не выигрывать, а развлекаться. Первым номером шла рулетка, вторым – ужин при свечах, с омарами и стриптизерными плясками, а третьим – те же стриптизерши, которых разбирали на ночь, распихивая по «БМВ» и «мерсам» вместе с бутылками пива, шампанского и коньяка. С двумя-тремя из этих девушек Баглай свел близкое знакомство, но охватить всех примадонн и весь кордебалет не мог; к себе он женщин не водил, а далеко не каждая обслуживала «at home». Все-таки Ядвига, с ее Светланами и Татьянами, была вне конкуренции как личный менеджер Амура; правда, и ставки Ядвиги были покруче, чем у девиц из «Норы».
Просадив двести долларов и отыграв семнадцать, Баглай решил, что долг приличия исполнен и спустился на первый этаж. Тут находились ресторан и бар, и тут, натешившись рулеткой и присмотрев девиц, большей частью оседала публика, любители омаров и стриптиза – часам к двенадцати, когда желудок и гениталии напоминали, что не одними играми жив человек. Перед рестораном простирался холл – или, скорее, широкий закругленный коридор, благодаря которому «Сквозная нора» получила свое название. Из его середины, минуя вестибюль и почтительных швейцаров, можно было попасть к главному входу с Фонтанки; но справа имелся выход в Графский переулок, а слева – во двор, где парковались машины клиентов. Двор тоже был сквозным и допускал разнообразные маневры, как в сторону Невского, так и на улицу Рубинштейна. Это являлось мудрой предосторожностью; хозяева заведения видимо знали, что мышь, у которой только одна норка, быстро попадается.
На первом этаже Баглай не задержался, а проследовал к неширокой лестничке, выложенной плитками гранита и спускавшейся в подвал. Она вела из западного мира в мир восточный; туда, где не глушат спиртное стаканами, а пьют из крохотных, с наперсток, чашек, где вилку заменяют палочки, где вместо люстр мерцают фонари, где пахнет кардамоном и сандалом, и где запретна соблазнительная нагота – лишь шорохи парчи и шелка, взгляд загадочных раскосых глаз, смоляная прядь над точеным ушком да кисти фарфоровой белизны, что прячутся в широких рукавах халата… Баглай спустился в этот тихий парадиз, взглянул на нишу и увидел, что ее закрывает полуразвернутый свиток с каллиграфически выписанными затейливыми иероглифами. Насколько он мог судить, то были пожелания благополучия и здоровья.
Он проследовал дальше, осторожно лавируя среди ширм и низких, еще не занятых столиков, проник за бамбуковый занавес, миновал кладовку и кухню, где что-то булькало, шипело и скворчало, и очутился в святая святых – в маленькой комнатке с лежанкой-каном, покрытым толстым китайским ковром под двумя светильниками. Ковер будто стекал со стены, просторной складкой огибая лежанку, и стелился по полу – темно-синий, с розовыми и пепельными хризантемами и парой беседок, чьи кровли были изогнуты словно кавалерийские седла. Одна беседка приходилась на стену, другая – на пол, и там, не позволяя видеть тонких ее подпорок и перил, стоял сундучок с откинутой крышкой, а в нем, утопая в ватных белопенных облаках, покоилась нефритовая ваза. Не просто лежала, но была повернута так, чтобы вошедший мог разглядеть драконью голову с разверстой пастью, рога, клыки и круглые выпуклые глаза под нависающими веками.
Ли Чунь сидел на лежанке с непроницаемым лицом – только подрагивали пальцы, уложенные на коленях. Баглай приблизился, заглянул в сундучок, довольно кивнул и опустил крышку. Затем уселся рядом с Ли Чунем и, будто оправдываясь, произнес:
– Долгие проводы – лишние слезы. Разве не так?
Китаец не шевельнулся. Баглай, вздохнув, полез во внутренний карман, вытащил тугую пачку, перетянутую резинкой, и положил свой дар на лепестки розовой хризантемы. Скорбь Ли Чуня была ему понятна; он тоже печалился бы и горевал, расставаясь с прекрасной вещью, менявшей хозяина с каменным холодным равнодушием. Ему подумалось, что скорбь Ли Чуня была бы еще сильней, если б он знал, откуда и как пришли те деньги, что предназначены в подарок. Дар был черным, ибо смерть отметила его своей печатью, невидимой как для китайца, так и для других людей, что будут трогать и мусолить эти зеленовато-серые бумажки. И только он, Баглай, доподлинно и абсолютно точно знал, что эта печать существует.
Он снова полез в карман, вытащил еще две сотенные ассигнации и положил их поверх пачки.
– За сундук. Тоже из Цзинани?
Ли Чунь покачал головой.
– Из Шанхай. Такой есть только Шанхай, нигде другие места.
Они помолчали, затем Баглай спросил:
– Что сделаешь с деньгами, Ли? Купишь российский паспорт?
– Зачем мне пасполт? Ваш пасполт мой не нада. Шесть… нету, семь лет шить без лусский пасполт, и нолмально шить, без плоблем. Мой деньги собилать, эти деньги, длугие деньги – все, какой залаботать, собилать и ехать в Цзинань. Там шениться, шить. В Цзинань холошо, тепло. В Пител холодно, сыло.
– А что ж ты там не остался, в Цзинани? Китай нынче – страна богатая. Тоже можно работать и заработать.
Пожав плечами, Ли Чунь взял деньги, взвесил их в ладонях и сунул куда-то под ковер. Потом несколько раз погладил живот – справа налево и слева направо.
– Стланно лассушдаешь, Ба Ла. Мой – кто? Мой – повал. Кому нушна китайкий повал в Китай? Китай – огломная стлана, там много налод, много людей, много холоший повал. Кому мой нушен? – Он выдержал паузу и с грустью признался: – Плавильно, никому. А в Пител настояший китайский повал – бальшой человек! Вашный! И это велно. Мой готовить утку по-пекин, колмить Ба Ла, Ба Ла кушать, платить и удивляться: кто еще так готовить!
В этом была несомненная логика, столь же понятная Баглаю, как скорбь Ли Чуня. Россия – тоже огромная страна, в ней множество народу, множество людей и много массажистов. Обычный специалист, пусть даже неплохой, серьезных денег не заработает. Другое дело – необычный. Такой, который посвящен в секреты тибетских и китайских мастеров, в персидские тонкости и хитрости, в искусство шародхары и абъянги…[10] Такой, который знает, как растягивать мышцы вдоль и поперек, как давить их, сучить, перебирать будто гитарные струны, как отворять кровоток в изношенных сжавшихся сосудах, дабы влага жизни текла и целила без помех, приливала и отливала, а если надо – ударяла в мозг с той же губительной силой, с которой молот бьет о наковальню… Словом, такой специалист, который умеет и лечить, и убивать.
Баглай поднялся с кана и взял сундук. Он был без ручек, узкий, но довольно длинный, с черной полированной поверхностью; от него пахло лаком и теплым сухим деревом.
– До встречи, Ли Чунь. Приду через неделю, утку есть.
– Плиходи, Ба Ла. До встлечи.
Когда он переступал порог, сзади донеслось:
– Белеги ее… белеги…
Облизав губы языком, Баглай кивнул, откинул бамбуковую завесу, пересек заставленное ширмами пространство и поднялся по гранитной лестничке. Ему казалось, что в сундуке под мышкой таится нечто теплое, живое – быть может, маленькая заколдованная королевна; и стоит только принести ее домой, откинуть крышку, как она восстанет из ватных белоснежных облаков во всей своей чарующей наготе и прелести. Проснется, и будет похожа… На кого? На Сашеньку? Нет, скорее на Вику Лесневскую, подумал он, остановившись перед ресторанной дверью.
Она была приоткрыта, так что Баглай мог видеть пустоватый зал под неярким светом потолочных ламп и дюжину девиц, скучавших перед стойкой бара. Они сидели на высоких табуретах как на выставке, в одной и той же неизменной позе: нога за ногу, юбки задраны до середины бедер, одна рука – на стойке, другая – на колене, за низким вырезом блузок и платьев колышется грудь. Смотри, любуйся, выбирай!
Можно было б и выбрать, отпразновать сделку… Выбрать вон ту, белокурую, гибкую… или рыжую с роскошным бюстом и ресницами длиною в палец… или их обеих, а в придачу к ним – кареглазую шатенку в серебристом платьице и черных ажурных чулках…
Но эта мысль промелькнула и исчезла. Нетерпеливое желание остаться с вазой наедине вдруг охватило Баглая, подсказывая, что женщина – пусть самая прекрасная и соблазнительная – будет при этом свидании лишней. Тем более, две или три… Он представил, как сядет в кресло у круглого столика в стиле ампир и будет глядеть на вазу – то на нее, то на ореховый комодик и на Венецию Гварди, на старинные клинки в серебристых ножнах, на фарфоровые майсеннские тарелки в синих кобальтовых узорах. Потом встанет, приблизится к комоду, коснется ладонями вазы, согреет ее, приласкает, потрогает драконью чешую, клыки и выпуклый зрачок под морщинистым веком… Эта картина и вызванное ею чувство были такими реальными, что он едва не застонал от нетерпения.
Быстро одевшись, Баглай нырнул в промозглый мартовский вечер, добрался до Невского и взял такси. Дорога домой прошла в тишине и покое, только негромкая музыка наполняла салон – что-то из классики, из тех мелодий, что обожал Мосолов, баглаев шеф. Музыка не мешала думать, но мысли о вазе вдруг странным образом испарились из головы Баглая; ваза уже принадлежала ему, однако была лишь крохотной частицей тех сокровищ, какими он намеревался завладеть. Сейчас и в будущем. Нефрит, дракон, великолепная резьба, зеленовато-голубые переливы… красота… Но изумруд – один-единственный изумруд из коллекции Черешина – стоил не меньше вазы и был не менее прекрасен. Помимо того, у изумрудов – а также рубинов, брильянтов и сапфиров – имелось важное преимущество: все они были невелики в сравнении с вазой, но обладали при этом огромной ценностью. Горсть холодных мерцающих камешков могла обеспечить Баглая на всю его жизнь; в этой горсти таились десятки картин и драгоценных ваз, клинки с золотой насечкой, вещицы работы Фаберже, иконы в серебряных окладах, французский и саксонский фарфор, старинные индийские божки, тибетские Будды из яшмы, японские катаны… Множество всяких прекрасных предметов, и что удивительно – в одной горсти! А если зачерпнуть не горсть…
Назавтра он собирался к Черешину, которого пользовал года четыре, а это значило, что пациент изучен досконально, и ситуация вот-вот созреет. Не в этот раз и, скорей всего, не в следующий, но до лета старикан не доживет. Злобных чувств он у Баглая не вызывал, ибо отличался щедростью и добродушным нравом, и потому Черешину будет дарована легкая смерть. Легкая, быстрая, неотвратимая… Почти эвтаназия, к которой стремится всякий человек на склоне лет, страшась не ухода Туда, а только предсмертных страданий и боли…
С ключами черешинскими он разобрался, выточил по оттискам на воске, проверил в прошлый раз и подогнал – так подогнал, что стали они не хуже настоящих. Ключей было три: два от накладного и врезного замков с наружней двери, и еще один – от внутренней, где замок был особым, штучным, изготовленным по спецзаказу каким-то старым и уже покойным мастером. Черешин отзывался о нем крайне уважительно и говорил, что замки Прокопьича ни один взломщик не вскроет и не выбьет, поскольку сам Прокопьич – из знаменитых «медвежатников», и хоть с криминалом завязал, но не забыл, чего и как творят с замками. Баглая это не касалось; он не вскрывал замки, а отпирал. Проблема состояла в том, чтобы добраться незаметно до ключей и сделать отттиск, но раз была проблема, то было и решение. После массажа нервных узлов за ухом и в районе шеи клиент погружался в блаженное забытье минут на десять, и этого времени хватало, чтобы пошарить в прихожей, в карманах пальто, в сумках и тумбочках. Да и никто из стариков и старух, баглаевых подопечных, прятать ключи не пытался; никто, кроме Кикиморы Деевой, не доверявшей никому и подозрительной, как пуганная ворона. Она хранила ключи на кухне, в холодильнике, под банками консервов и компотов.
Это воспоминание настигло Баглая уже в лифте, по дороге на двенадцатый этаж, заставив невольно содрогнуться. Кикимора была у него второй, и, не имея нужного опыта, он допустил промашку либо не смог оценить старушечьей энергии и силы, странных в женщине преклоных лет. С другой стороны, Кикимора являлась бабкой тертой, битой и закаленной всякими невзгодами; закончила юрфак, прошла войну, перестреляла из винтовки уйму немцев, попала в плен, бежала, партизанила – ну, а потом сидела вплоть до хрущевской оттепели. Вышла в сорок, стала адвокатом, и по крохе, по крупице разыскала все, что реквизировали у ее семейства – и все вернула, не мытьем, так катаньем. В том числе картину работы голландского мастера, с мельницей над сумрачным потоком, старинный ларец литого серебра, севрский фарфор, богемский хрусталь и многое другое. В общем, было что взять, и Баглай не постеснялся, взял.
Но когда он явился в квартиру – зимней ночью, в третьем часу – Кикимора была еще жива. Она лежала, скорчившись, в прихожей; видно, хотела доползти до телефона, да не хватило сил. Правосторонний инсульт, определил Баглай, увидев, как искривилось ее лицо и как подергивается левая рука. Согласно его прогнозу, кровоизлияние было обширным и быстро прогрессировало, но первые полчаса, пока он ходил по комнатам и отбирал старинные предметы, спину под лопатками кололо, а в затылок будто вонзались незримые молнии. Потом неприятные ощущения исчезли, он выглянул в коридор и убедился, что Кикимора мертва.
С тех пор у него не случалось осечек, да и приемы шу-и не подводили. Он выбирал людей пожилых, состоятельных и одиноких, и всегда являлся в должный срок и час: труп еще не успевал остыть, а ночь – закончиться. Раз от раза его искусство совершенствовалось, мастерство росло, а вместе с ним росла уверенность в себе; клиентов он изучал годами и знал об их телах, недугах и жилищах немногим меньше них самих. Выведывал и о другом – об их семейных обстоятельствах, о родичах либо отсутствии таковых, и, разумеется, о наследниках. Странно, что у любого человека, богатого, но одинокого и не имевшего ни братьев, ни сестер, ни сыновей, ни дочерей, всегда находился наследник. Странный факт, но не опасный. Если наследники далеко, а благодетель их мертв, кто разберется, что у него имелось и что – осталось?..
Наследник Черешина был хоть и близок, но нерадив. На этот счет Баглай не беспокоился и полагал, что успеет без торопливости и риска распорядиться черешинскими сокровищами.
Лифт остановился. Он вышел, прижимая к груди сундучок, полез в карман за брелком с ключами и вдруг почувствовал, что кто-то смотрит ему в спину. Упорно, пристально… Тем же ненавидящим взглядом, каким смотрела Деева, старая ведьма, подыхая на полу в своей прихожей… Взглядом, от которого колет в сердце, и в затылок вонзаются молнии…
Баглай стремительно обернулся, но на площадке и лестнице не было никого.
Глава 7
Март выдался ветреный, хмурый, морозный. Днем солнце скрывалось за пеленою туч, но все-таки грело, хоть не с весенним усердием; его скуповатый жар заставлял оседать серые сугробы на тротуарах, и кое-где под растаявшим снегом уже виднелась темная трещиноватая шкура асфальта. Но по ночам все возвращалось на свои круги: ветер вытряхивал снежную перину туч, носился над застывшей Невой, свистел по-разбойничьи на широких проспектах окраин, жалобно выл в переулках, сыпал снег на деревья, на землю и крыши. Ночью не верилось, что наступила весна – а лето, пусть короткое, нежаркое – казалось просто смутным сном, какие бывают после просмотра голливудских кинолент с красотками и красавцами, что нежатся на пляжах Акапулько.
Тем не менее, зима иссякала и отступала день от дня, знаменуя тем самым конец сезона Охоты. В теплый светлый период Баглай не охотился; он, как полярная сова, предпочитал холод и тьму, ибо их спутником было безлюдье, и, следовательно, безопасность. В самом деле, кто проследит человека зимней ночью, когда все сидят по домам, спят или мечтают о солнечном Акапулько, поглядывая в телевизор? Кто заметит, как и с чем он бродит по улицам – с сумкой ли, с чемоданом, с пакетом или свертком? Никто, разве лишь ветер… А ветер не выдаст и никому не донесет; нет ему дела до подозрительных незнакомцев, гуляющих с сумками и чемоданами в ночной разбойный час. Но если дождаться трамвая или автобуса – из первых, самых ранних – то подозрений нет как нет. Нет подозрений, а есть добропорядочный обыватель, который едет с сумкой на вокзал – или, быть может, с вокзала, вернувшись из командировки, весь в мечтах о теплой ванне и сытном домашнем завтраке.
Все эти соображения были вполне очевидны, и Баглай даже не задумывался о них, не называл мудреными словами, тактикой или стратегией, а просто действовал, руководствуясь инстинктом. Ночи стали светлей и теплей – значит, пора заканчивать Охоту, брать временный тайм-аут и ждать, когда над городом снова сгустится зимний мрак, союзник и помощник. Метаморфоза, свершавшаяся с ним весной, была подобна линьке; он, словно северный волк, сбрасывал плотную зимнюю шубу, пропахшую кровью и плотью жертв, и облачался в иное одеяние, более легкое и чистое, скрывавшее его клыки и когти. Но – лишь до времени, до срока.
Он размышлял об этом, направляясь к Черешину, ибо тот являлся, в определенном смысле, исключением из правил. На него Охота разрешалась в любой сезон, так как охотник мог унести добычу не в чемоданах, а в карманах. Даже в горсти или в наперстке… Однако Баглай все-таки предпочитал карманы. Карманы были надежней и, разумеется, вместительней.
В дом к Юрию Даниловичу Черешину он хаживал не первый год и изучил это строение как собственную пятерню, со всеми его парадными и черными лестницами, дворами и арками, ходами, выходами и переходами. Этот старый петербургский дом располагался у Таврического сада и был еще крепким и презентабельным, хоть и знававшим лучшие дни. Штукатурка с него не сыпалась, но потемнела под слоем многолетней грязи, мрамор лестничных ступенек поистерся, дубовые перила кое-где исчезли, а кое-где напоминали обрезки грубо обструганных жердей, водосточные трубы жаждали срочной замены, а вздыбленный булыжник во дворах местами наводил на мысль о рухнувшей с гор лавине. Но квартиры тут были просторные, двери – крепкие, потолки – три пятьдесят, а на широченных подоконниках можно было спать или устраивать застолье.
Впрочем, в жилище Юрия Даниловича все подоконники, равным образом как стены, пол и даже потолок, предназначались не для застолий или спанья, а исключительно для экспонатов. Сам же хозяин обитал на кухне – к счастью, довольно большой и вполне заменявшей однокомнатную квартиру; тут имелись диван, стол и стулья, кресло, обитое плюшем, полки и шкафы и даже верстак – с тисками, резцами, алмазными пилами и прочим инструментарием для каменных работ. В комнате побольше на стенах висели картины из малахита, родонита, чароита, лазурита и других поделочных камней; под ними тянулась шеренга витрин, в коих стояли и лежали изделия из тех же материалов – ларцы и шкатулки, подсвечники и чаши, письменные приборы и набалдашники тростей, шары и миниатюрные дворцы, а также иные уникумы, обязанные своим происхождением уже не человеку, а природным силам: друзы кварца, похожие на пингвинов и медведей, роскошные щетки аметистов, опалы и пейзажные агаты, гигантский кристалл шпинели величиною в два кулака, жемчужины, кораллы и гагаты. Другие сокровища, поменьше размером, но подороже ценой, таились в ящиках под витринами: коллекция редкого янтаря с невероятными включениями, собрание гемм и камей, старинные перстни с печатками, украшения из бирюзы, цитрина, аметиста, из турмалина и топаза, из гранатов всех цветов радуги – огненно-красных пиропов, сизо-малиновых альмандинов, золотистых гроссуляров и изумрудно-зеленых демантоидов. С потолка в этой комнате спускались светильники и люстры, райские птицы и цветы, большие резные сферы и модели кораблей – все, что можно изготовить из поделочного камня и металла и подвесить где-нибудь повыше, чтоб ненароком не зашибить голову. Имелся здесь и камин – уникальное сооружение из мрамора тридцати шести сортов со вставками из яшмы и нефрита.
Но главное богатство таилось в маленькой комнате, в громоздких дубовых шкафах музейного вида, в ящиках, сделанных на заказ. Тут, снабженные номерами и пояснительными карточками, лежали благородные самоцветы, приписанные к двадцати коллекциям, и их названия внушали благоговейный трепет. Коллекция сапфиров (отдельно – камни синие, классических оттенков, отдельно – розовые, лиловые и желтые); коллекция рубинов, от бледно-алых до кроваво-красных и багровых; собрания изумрудов, аквамаринов и бериллов, где были экспонаты в сорок-пятьдесят карат; и, наконец, всякая мелочь вроде хризобериллов, александритов, цирконов и шпинелей. Алмазы Черешин целенаправленно не собирал, считая это баловством, но не отказывался выменять или приобрести «по случаю», и на эти «случайные» камешки можно было б вооружить мотострелковый полк. А на все остальное этот полк мог бы отправиться в Новую Зеландию и воевать там лет пятнадцать, освобождая папуасов от британских колонизаторов.[11]
Кроме двух комнат и обширной кухни были в черешинской квартире еще и прихожая с коридором, и в них Юрий Данилович разместил библиотеку, тысяч пять томов, все – о камнях и способах их обработки, о ювелирных изделиях, о геммах и камеях, о самоцветах магических, целительных, библейских, а также о методах и приборах, с помощью коих различались подделки и имитации. Сами же приборы, микроскопы и рефрактометры, дихроскопы, полярископы, пикнометры, фильтры и весы, хранились в огромном стенном шкафу на месте бывшего туалета, а туалет нынешний был совмещен с ванной, благо ее габариты не отрицали подобной возможности. Так Юрий Данилович и жил – в обрамлении камней и книг, приборов и инструментов; дожил он до преклонных лет, видел в своих самоцветах не богатство, а исключительно радость и красоту, и был совершенно счастлив. Вот только болела у него временами спина…
Баглай вошел в подъезд, поднялся по мраморной истертой лестнице к двери, некогда сиявшей лаком, а ныне выкрашенной бурой краской и позвонил. Звонок был старинным, из тех, где надо не кнопку давить, а повертеть маленькую металлическую рукояточку.
Дверь распахнулась, явив невысокую крепкую фигуру Черешина в монгольском халате, с благожелательной улыбкой на устах. Юрий Данилович был вообще человеком улыбчивым, добродушным, легкого нрава и сангвинического темперамента; он улыбался даже тогда, когда им пытались закусить – в прямом, не в переносном смысле. Ну, а Баглай, целитель и добрый знакомый, гость дорогой, проходил по особому списку – хоть не племянник, не внук, однако почти что родич.
– Ну, бойе! В самый раз пришел! – Пальцы Черешина утонули в крупной ладони Баглая. – Перво-наперво, я тебе деньги отдам… память-то стариковская, пока не забыл, надо отдать… А после мы чайку изопьем, и примешься ты выкручивать мой копчик и барабанить по спине… – Он уже тащил Баглая на кухню, лавируя меж книжных полок и шкафов. – И разомни-ка мне сегодня, бойе, шрам… не тот, что на ребрах, а тот, что на левом костыле… погода сырая, мозжит – спасу нет!.. Вот разомнешь, да с маслицем, оно и полегчает…
– Это какой же шрам? – спросил Баглай, осторожно пробираясь по коридору, забитому книгами. – Который от малайского криса? Или от пули?
– Ха, от криса!.. От него – царапина под локтем, плевая такая царапинка, о ней я и думать позабыл… От пули – то как раз на ребрах… затянулось и быльем поросло… А вот на ноге – болит! Ногу мне мишка порвал… в сорок седьмом, на Вилюе… а от его когтей – самые вредные раны. Вроде и зажила, но сырости не терпит… ни сырости, ни холода… а у нас холод восемь месяцев в году… Вот если б я в Нигерии остался… или в Конго… зря не остался… Вот там, бойе, климат, доложу тебе!.. Теплынь!
Бойе было тунгусским словцом, обозначавшим парня или юношу; Черешин называл так всех моложе семидесяти лет. Продолжая сыпать короткими отрывистыми фразами, он расставил на столе вместительные кружки, навалил в тарелку баурсаков[12] и принялся разливать чай. Чай был не простой, а плиточный, калмыкский, с добавкой топленого масла, молока, соли и сахара. Баглай это питье уважал, привыкнув к нему еще в те времена, когда обучался у Тагарова. Тагаров, хоть был бурят и тибетский монах, от чая с маслом не отказывался, только называл его не калмыкским, а монгольским.
Отдуваясь и хрустя баурсаками, они с Черешиным выпили по кружке. Баурсаки Юрий Данилович готовил сам, ибо, вдобавок ко многим своим талантам, отлично кухарил, и были ему известны рецепцы всяческих экзотичных блюд – вроде слоновьей ноги, запеченой со страусиными яйцами, и антрекотов из бегемота.
Покончив с чаем, а заодно – с историей вилюйского медведя (череп его красовался над полками в прихожей), Черешин хлопнул себя по лбу, пошарил за поясом халата, извлек две стодолларовые бумажки и протянул Баглаю.
– Вот память, бойе!.. Про камушки и шрамы помню все, а о деньгах забыл… Держи! За первую половину.
С частной клиентуры Баглай брал двадцатку за сорокаминутный массаж, а число сеансов определялось от двенадцати до двадцати, смотря по состоянию спин и конечностей клиентов. Те же двадцать долларов брались и в «Диане», но из них на баглаеву долю приходилось восемь; тем не менее, ежемесячно на круг он зарабатывал побольше тысячи. Где-нибудь в Штатах или в Европе это считалось бы плевой деньгой, но только не в России; тут на них можно было существовать с комфортом и даже с роскошью. Существовать – да, однако не покупать квартиры и редкостные вазы эпохи Мин… Впрочем, для их приобретения имелись способы результативней лечебных процедур.
Юрий Данилович сбросил халат, с кряхтеньем примостился на диване, а Баглай, достав из саквояжа флаконы с зельями и маслами, начал трудиться над черешинским позвоночником, не забывая о пояснице и лопатках, шее, копчике и шраме на левой ноге. Шрам, собственно, был не один, а целых четыре, от длинных медвежьих когтей, и оставалось лишь удивляться, как Юрий Данилович, уложив зверюгу, смог доползти до лагеря. Видно, тунгусские черти ему помогли, размышлял Баглай, привычными движениями втирая масло. Потом подумалось ему, что черти нынче далеко, на берегах Вилюя, а он вот близко, ближе, чем медведь. Значит, такая судьба у Черешина – не от медведя смерть принять, не от пули и не от малайского криса, а из человечьих рук… Мысль эта не покидала его, пока он разминал тощую спину Черешина и правил позвоночные диски.
С этим, если учитывать возраст клиента, все обстояло неплохо, совсем неплохо – Черешин имел крепкую конституцию, как полагалось потомственному геологу и долгожителю. Мать его преставилась в девяносто, отец – в девяносто четыре, а сам Юрий Данилович, пребывая в цветущем возрасте восьмидесяти трех годов, на здоровье не слишком жаловался и твердо полагал, что разменяет второе столетие. В тридцать восьмом закончил он в Питере Горный институт и хоть не воевал, а бродил по лесам и горам в поисках металлов и минералов, жизнь ему выпала бурная, полная странствий, приключений и опасных авантюр. Лет двадцать он провел в Сибири, Монголии и Китае, а с конца пятидесятых, когда Союз обзавелся друзьями в жарких краях, начались сплошные зарубежные командировки. И бросало Черешина от Индии до Антарктиды, от Огненной Землм до Эфиопии, от Кубы до конголезских джунглей. Искал он все, что только можно откопать в земле, выдрать из-под льда и камня, намыть в ручьях и реках. Искал уран и медь, никель и алмазы, нефть и уголь, золото и молибден; не раз тонул и замерзал, нередко голодал, а однажды, во время разведки в дружелюбной Гане, на берегах реки Горвол, сам был чуть не съеден и спасся лишь тем, что вождь и воины им побрезговали, решив, что русский – это не настоящий белый, и, к тому же, стар и жилист. Между делом Юрий Данилович четырежды женился, но завести детей как-то не достало времени, и потому его жены занимались этим с другими мужчинами, не столь преданными геологической науке. Черешин их бросал без всякого сожаления; на его век хватило негритянок и чилиек, китаянок и чукчанок, и прочей подобной экзотики. Лишь с камнями он состоял в прочном и долгом супружестве.
О том, как началась его коллекция, он не раз рассказывал Баглаю. Случилось это в сорок четвертом, когда молодой Черешин застрял в глухой уральской деревушке, отрезанной снегами и непогодой от всех дорог, от городов и сел, от мира и от войны. Метель бушевала без малого месяц, и этот период зимней спячки Юрий Данилович провел в компании коллеги, другого геолога-поисковика, заброшенного в ту же деревушку. Коллега был уральцем из Свердловска, мужчиной зрелых лет; пил он по-черному, а выпив, не матерился, не буянил, однако жаждал развлечений и доверительных бесед. Но ни книжек, ни радио, ни шахмат в той деревушке не нашлось, так что Черешин с уральцем разрисовали карточную колоду и целый месяц резались в очко. Сперва на спирт, который потреблялся под задушевные разговоры, потом – на деньги, а когда свердловчанин иссяк, Черешин, которому везло, вернул ему проигрыш, и все пошло-поехало по новой. Коллега опять проигрался в дым, но оказался человеком чести: когда проигранное вернулось к нему в третий раз из щедрых рук Черешина, сунул Юрию Даниловичу потрепанный увесистый портфель, пробормотав, что он-де – старина-старинушка, и много ему не нужно, а ты, Юрча, парень молодой, жить тебе и жить – вот и живи в свое удовольствие, только поосторожнее: родина-мать не дремлет, а маманя она суровая. Намека этого Черешин, по молодости лет, не понял, но тут метель притихла, и пути их разошлись: коллега отправился в Свердловск, а Юрий Данилович – в Москву, с отчетом и старым портфелем.
Затем он перебрался домой, в послеблокадный Ленинград, чтоб поддержать и подкормить родителей. Портфель привез с собой и, заглянув в него, обнаружил лишь здоровенные комья грязи; но, в память о сидении в той деревушке и карточных играх, не выбросил, а пихнул на антресоль, да и забыл на пару лет. После войны, разбираясь со старым хламом, Черешин вновь наткнулся на портфель, вытряхнул его содержимое в тазик с водой, отскреб, промыл и обомлел. Перед ним лежали уральские самоцветы сказочной красоты и редкости: благородная шпинель в два кулака, пять безупречных изумрудов, топазы, аквамарины, несколько сапфиров и рубинов – причем не какие-то камешки в девичье колечко, а раритеты в сорок-пятьдесят карат. Черешин долго глядел на них, вздыхал, перебирал и любовался, потом в сердце что-то защемило, и понял он – судьба! А от судьбы, как ведомо всем, не уйдешь и не сбежишь.
Но Юрий Данилович не собирался бегать. Его профессия была самой подходящей, чтобы собрать коллекцию; всю жизнь он крутился около камней, россыпей, шурфов, шахт и рудников, а значит, что-то находил, что-то выменивал, а что-то ему дарили или отдавали за бутылку водки; и постепенно его собрание росло, и стали появляться в нем камешки из Африки и Бразилии, с Цейлона и Мадагаскара, из Индии, Бирмы и ЮАР. В суровые сталинские времена он свою страсть не афишировал, да и коллекция была небольшой, занимала лишь половину маленькой комнаты. Развернулся он по-крупному лет тридцать назад, после смерти стариков-родителей: переоборудовал квартиру, поставил крест на семейной жизни и переселился на кухню. А заодно составил завещание о передаче коллекции в Горный институт – при тех условиях, что не будут ее разделять, а дарителя похоронят по-людски, на Волковом кладбище, с оркестром и в родительской могиле.
Так что наследник у Черешина был, но по-государственному нерасторопный – за тридцать лет не удосужился составить опись всех черешинских богатств, ибо в перспективе принадлежали они народу, а значит, всем и никому. Юрия Даниловича это не слишком волновало; он еще не собирался умирать и полагал, что в ближайшие лет десять или пятнадцать составит опись собственной рукой, с посильной помощью доцента Пискунова, назначенного институтом в воспреемники. Но Пискунов был сам немолод, возился с дипломниками и студентами, страдал диабетом и, по той ли, иной причине, дарителя вниманием не баловал. В отличие от Баглая, который трижды в год трудился над черешинской спиной по месяцу и знал намного лучше Пискунова, что и где хранится. А кроме того, имел ключи.
Сеанс подходил к концу, Черешин блаженно кряхтел под сильными руками массажиста, жмурил глаза и ворочал с боку на бок головой – видно, затекала шея. Заметив это, Баглай начал ее разминать, коснулся редкой поросли на затылке и вдруг ощутил под волосами шрам – даже не шрам, а изрядную вмятину, будто стукнули Черешина кувалдой или иным приспособлением, вроде гантели или кистеня.
Пальцы Баглая замерли.
– Здесь не болит? – спросил он.
– А чему ж там болеть? – удивился Черешин.
– Ямка у вас, Юрий Данилыч. Кость вроде бы цела, однако…
– Однако я про нее и забыл, бойе. Не чешется, не болит, и слава богу. Это меня в каверне приложило, в медном руднике, под Зыряновском. Году этак в шестьдесят восьмом… нет, в шестьдесят девятом, как раз перед экспедицией в Бомбей, в Сахьядри… это горы такие индийские, с видом на Аравийское море… вот за них я этой ямкой и заплатил… Вызвали меня к замминистру – хороший был мужик, да преставился в восьмидесятом – вызвали, значит, и говорят: в Бомбей отправишься, Черешин, начальником партии, никель искать… хороший вояж, хлебный, валютный, но до того проинспектируй рудники в Зыряновске. Согласно утвержденной разнарядке и в компенсацию за Бомбей… Ну, я что… собрался и поехал. А там как раз каверну вскрыли. Большая, мать ее, метров тридцать… Вскрыть-то вскрыли, а крепь поставили хреновую – я полез, а свод возьми да обвались… не сильно, но задело меня каменюгой… Видел кварц, что в комнате стоит, за малахитовым блюдом? Белый такой, на медведя похож? Вот им и задело. Ну, ничего… отлежался.
– Вы про какую каверну толкуете? – спросил Баглай, массируя черешинскую шею. – Каверны только в легких бывают.
– Вот тут ты, бойе, не прав. Каверна – сиречь полость, а полости в разных местах случаются, и в организме, и в металле, и в земле. Представь-ка рудную жилу… Это ведь не сплошной монолит, там и легкие породы есть, и грунтовые воды, и много всякого разного… Ну, вода вымывает полость, затем, с подвижкой пластов, уходит, и появляется пещера… Там, внизу, на глубине километра, – Черешин ткнул пальцем в пол. – Вечный мрак, огромное давление, самый причудливый газовый состав, плюс влага, что сочится по стенам… собственно, не вода, а раствор минеральных солей… И так – тысячелетия… Потом приходим мы, бьем шахту, прокладываем штрек по рудной жиле, вскрываем полость – и что же видим?
– Что? – откликнулся Баглай, слегка надавив на нервные узлы под челюстью. Эта процедура, если делать ее с осторожностью, снимала тахикардию, стабилизируя ритм сердечных сокращений. Ну, а если не остерегаться… если нажать вот здесь и здесь…
Черешин заговорил, и рука Баглая дрогнула. Он быстрым змеиным движением облизал пересохшие губы.
– Мы увидим, бойе, что на стенках полости скопилась куча всякого добра… всяких природных редкостей, что выросли тут в тишине и покое… Попадаются самоцветы – не из самых дорогих, но поразительной величины… чаще – кварц… аметистовые щетки и кристаллы… еще цитрин, морион, кошачий и тигровый глаз, горный хрусталь и халцедон… А иногда в прозрачном кварце прорастают кристаллики рутила, тонкие, как волоски – и это будет уже «волосатик»… А если попало что-то пластинчатое, чешуйчатое, гематит или слюда, то получится у нас авантюрин… он как стекло с яркими блестками… Еще бывает молочный кварц, непрозрачный и белый, но удивительных очертаний… будто статуэтку лепили двести тысяч лет, без рук и скальпеля! Хотя бы вот этот медведь, коим мне съездило по затылку…
– Все, Юрий Данилыч, – произнес Баглай и направился к раковине, мыть руки. Черешин встал, накинул халат, пощупал над коленом.
– А ведь не болит, пес ее забери! Как есть, не болит! Легкая у тебя рука, бойе, золотая… Еще чайку не хочешь испить?
– Пожалуй, нет. – Баглай покачал головой и принялся укладывать бальзамы и мази в свой саквояжик. – С вашим чаем, как и с массажем, необходима умеренность. Иначе выйдет как у Алексия…
– А как у него вышло? И кто он таков? – с любопытством поинтересовался Черешин.
– Врач древнегреческий. О нем у Киллактора есть эпиграмма…
– Сощурившись и отбивая рукой ритм, Баглай произнес нараспев: