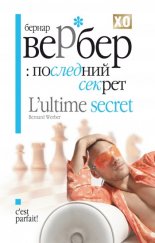Путеводная звезда Дробина Анастасия
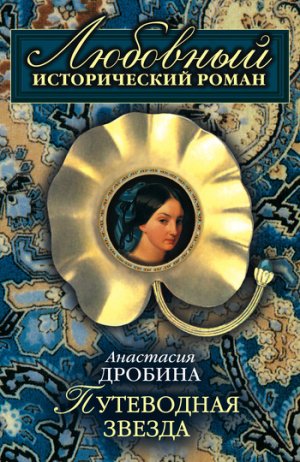
Цыгане, выступавшие в «Аркадии», старались селиться ближе к месту работы, и уже через пять минут извозчик, нанятый Кузьмой, подкатил по хлюпающей грязи к низенькому домику, прячущемуся среди взъерошенных ветром яблонь. В домике светилось одно окно. Кузьма расплатился с извозчиком, хотел было взять Данку на руки, но она отстранила его:
– Я сама, – и быстро, подобрав юбку, зашагала к дому.
В комнате с низким потолком горела лампа под самодельным розовым абажуром. Хозяин, старик Фомич, сидел у стола, покрытого вырезанной фестонами бумагой, вязал на спицах носок из грубой шерсти и прихлебывал чай из мятой жестяной кружки. Услышав шум в сенях, он поднял лысую голову, удивленно подвигал бровями:
– Кузьма Матвеич, вы, что ль? Пошто рано-то так?
– Данка заболела, – коротко пояснил Кузьма, входя в дом следом за женой. – Дети спят?
– А то… Уложил с грехом пополам. Все никак угомоняться не желали, спой им и спой «Дай, милый друг, на счастье руку…». А куды мне, старому? Такое только Дарье Степановне впору. Спел им «Солдатушки-ребятушки», с тем и успокоились.
– Мишка не чихал больше?
– Не слыхать было. Я их чаем с липой напоил, первеющее средство.
– Спасибо, Фомич. Ложился бы и сам. – Кузьма, стоя посреди комнаты, слушал, как за печью, шепотом ругаясь, переодевается Данка. Знал – не даст помочь, но мало ли что…
– Бессонница у тебя, дед?
– Она, проклятая, – кивнул Фомич, зашаркал обрезанными валенками к выходу, приговаривая: – Экая ветрища-то поднялась… Ровно зимой. Крышу бы, спаси господь, не разметало, а то куды ж…
Когда дверь за стариком закрылась, Кузьма пересек комнату, отдернул ситцевую старую занавеску, отгораживающую угол. Дети спали вдвоем на низких нарах, застеленных периной и лоскутным одеялом. Десятилетний Мишка лежал, отвернувшись к стене, и Кузьма видел только его курчавый черный затылок. Его сестра обнимала во сне потертого тряпичного медведя. Кузьма поправил ей подушку, подоткнул почти сползшее на пол одеяло.
За спиной послышался шорох, Кузьма обернулся. Увидев Данку в длинной ночной рубашке, шепотом сказал:
– Что ты бродишь? Ложись спать.
Она отстранила его, наклонилась над постелью. Поцеловав спящих детей, выпрямилась, коротко взглянула на Кузьму: длинные глаза блеснули в свете лампы. Отвернулась и молча ушла в спальню.
Кузьма не пошел за женой. Оставшись один, он некоторое время мерил шагами пустую комнату, прислушиваясь к свисту ветра в печной трубе, затем сел на табурет у окна, взял в руки забытую Фомичом кружку, отпил остывшего чая. За окном начался дождь, ветер трепал ветви яблонь, прижимая их вывернутыми наизнанку листьями к оконному стеклу. За занавеской тихо сопели дети, трещал за печью сверчок. Из-за двери, куда ушла Данка, не слышалось ни звука. Кузьма оперся локтями о стол, запустил обе руки во взлохмаченные волосы. Устало подумал: «Ну что вот теперь делать?»
Съезжать из Питера надо, вот что. Не будет Данка петь – что они вчетвером есть будут? На его, Кузьмы, заработок долго не протянешь, жизнь в Питере дорогая, хуже, чем в Москве. Сейчас еще и на докторов разоренье… Он-то, Кузьма, везде работу найдет. Уж если здесь, в Питере, он не последним гитаристом оказался, то в любом уездном городишке цыгане его просто с руками оторвут. Опять же, житье дешевле будет… Но вот как Данку уломать? Как заставить ее забыть о пении, о плясках? Что она еще может делать, что еще захочет? Когда-то гадать умела, таборная все-таки, но ведь все, наверное, позабыла… Кузьма закрыл глаза, вспоминая, сколько лет прошло. Восемнадцать? Двадцать?
Двадцать два. Им обоим, ему и Данке, было по пятнадцать, когда они встретились в весенней Москве; Кузьма даже помнил, что это случилось на Страстной неделе, перед самой Пасхой. Цыганская оборванная девка во вдовьем платке, сидящая на каменной тумбе и распевающая на все Замоскворечье жалостные каторжанские песни… А он стоял в толпе, среди других слушателей, дрожащими пальцами выискивал в кармане копейки, чтобы дать ей, смотрел в темное, недетски суровое лицо, в длинные глаза с голубой ведьминой искрой, ловил ее сумрачный взгляд и уже знал: женится на этой девчонке-вдове любой ценой. Сам он пел тогда в хоре Якова Васильева из Грузин и в тот же день привел Данку на Живодерку, в дом Макарьевны, где жил вместе со Смоляковыми, братом и сестрой.
Было бы ему тогда не неполных шестнадцать, а хотя бы двадцать… Был бы он поумней, не одурел бы так от этой дикой красоты, от глаз этих шальных, может, и понял бы, что дело не совсем чисто. И заметил бы тот взгляд, которым обменялись Смоляковы при виде Данки, и ее побледневшее от страха лицо тоже заметил бы. Но откуда Кузьме тогда было знать, что Смоляковы и Данка были из одного табора, что они все про нее знали: что Данка никогда не была вдовой, что не смогла даже выйти толком замуж, ее выкинули из табора и из семьи за то, что простыня с ее брачной постели оказалась чище первого снега? Кузьма до сих пор не мог понять, почему Илья промолчал в тот вечер. То ли не хотел позорить «свою» перед «городскими», то ли надеялся, что Данка наутро сама уберется из города… Зря надеялся. Ночью Кузьма пришел в каморку, где, свернувшись на полу в клубок, спала Данка, и она не оттолкнула его.
На рассвете Кузьма предложил Данке стать его женой. Она согласилась, потому что выбирать ей было не из чего. Сейчас, столько лет спустя, Кузьма понимал, что иначе пятнадцатилетняя девочка просто погибла бы на больших дорогах – одна, без родни, без мужа, без денег… Ей случайно выпала счастливая карта, выпал шанс оказаться замужем, среди цыган, в Москве, в известном хоре, – и Данка вцепилась в эту возможность мертвой хваткой.
Впрочем, они не прожили вместе и года: Данка ушла в «Яр». Несколько лет она блистала там, собирая своими романсами и пляской пол-Москвы, про Данку даже писали в газетах, поклонники дарили бывшей таборной девчонке бриллианты, купцы-миллионщики предлагали ей содержание, какой-то граф даже собирался на ней жениться. Но Данка лишь смеялась, принимала деньги и подарки, вскоре приобрела собственный дом и зажила барыней. В то время около нее появился Казимир Навроцкий – известный всей Москве карточный шулер. Позже выяснилось, что поляка привлекли не столько красота и голос цыганской артистки, сколько ее деньги и бриллианты. Но тогда казалось, что у Данки все сложилось лучше не надо. Она ушла из «Яра», зажила с Навроцким в своем доме на Воздвиженке, родила двоих детей. А Кузьма…
А Кузьма жил один, отказываясь жениться снова, не давая говорить на эту тему даже Митро – лучшему другу, почти брату. Прожив с Данкой меньше года, уже зная, что она обманула его, он продолжал ее любить. И лез в драку с каждым, кто при нем называл Данку потаскухой. Что они понимали, валенки… Как можно было не любить эту таборную колдунью с никогда не улыбающимися глазами? Кузьма приходил в Петровский парк к «Яру», просиживал там часами в ожидании экипажа бывшей жены, дожидаясь той минуты, когда она в шумящем муаровом платье, в шляпе с вуалью, в перчатках, встречаемая ревом поклонников, быстро выйдет из пролетки и исчезнет в сверкающих дверях ресторана. Ни разу за семнадцать лет Кузьма не подошел к ней. Он понимал, что надеяться ему больше не на что. И жил один, и пил, сперва понемногу, потом запоями, и пропадал в притонах Грачевки и Хитрова рынка, откуда его не раз, площадно ругаясь, притаскивал на себе Митро. Разговаривать о Данке Кузьма не желал ни с кем. Ни с кем, кроме Варьки Смоляковой, тоже овдовевшей к тому времени и временами наезжавшей из табора в Москву…
Дождь за окном припустил сильнее. Свеча, вставленная в узкий зеленый стакан, накренилась, капнула на стол прозрачным воском. Кузьма поправил ее. Вздохнув, подумал: вот бы Варьку сейчас сюда… Она бы и придумала что-нибудь, и Данку бы уговорила лечиться. Кажется, одной Варьке из всего московского хора и нравилась Данка. Во всяком случае, худых слов о своей бывшей жене Кузьма от Варьки не слыхал никогда. Может, потому и мог болтать с ней часами. Кузьма даже улыбнулся, вспомнив, как глубокой ночью, вернувшись с хором из ресторана, они вдвоем усаживались за столом на кухне. Репутация Варьки как вдовы была настолько незыблемой, что даже цыганки не смогли усмотреть в этих их ночных посиделках что-то предосудительное. Да и старше его Варька была лет на пять… Они грели медный самовар, Варька насыпала в чайник собранные во время кочевья сухие травы и ягоды, и по кухне плыл сладковатый аромат. С печи доносились храп старухи Макарьевны, сопение детей. На столе стояли глиняные кружки с отбитыми краями, лежали желтые куски сахара, баранки, изюм. Кузьма полушутливо просил:
– Расскажи про свой табор, Варвара Григорьевна. Вот будет весна – и я туда к вам уеду.
– Что ты там делать будешь, морэ? – в тон интересовалась Варька. – Коней менять-лечить не умеешь, кузнечить не умеешь, корзины плести не умеешь, воровать не умеешь…
– Воровать я умею!
– Угу… Бублики на Сухаревке.
– Ну, тогда я женюсь на таборной! Она будет гадать бегать, а я под кибиткой пузом кверху лежать. Поди, плохо?
Варька кивала, улыбалась. Наверняка понимала, что разговор все равно в конце концов сведется на жену Кузьмы. Знала про Данку она много. Знала даже то, о чем не догадывался никто: то, что, выходя замуж, Данка была чиста.
Когда Варька впервые сказала об этом Кузьме, тот, разумеется, не поверил:
– Так не бывает.
– Бывает. Редко, но бывает. Ты вспомни, морэ, когда ты с ней в первый раз… Ну, когда ты ее своей женой делал… Разве крови не было?
Он молчал, чувствуя, как холодеет спина. Потому что кровь была. Но…
– Но как же, Варька? Господи ты боже мой, да она же… Она мне тогда сказала, что это… что такое у всех женщин бывает… что-то вроде раз в месяц… Дэвлалэ, мне же пятнадцать лет было! Я же не знал ничего! Почему она мне правды не рассказала, почему? Чего боялась?! Я за нее душу черту продал бы, чему угодно бы поверил!
На печи зашевелилась, заворчала старуха, и ему пришлось умолкнуть. Варька горько улыбалась. Тогда она не стала объяснять Кузьме – почему… Он понял сам много лет спустя. Понял, что Данка, выброшенная из семьи, опозоренная, измученная, не успевшая даже оправдаться, уже не верила никому. Не верила и смертельно боялась, что Кузьма, не дослушав, выкинет ее на улицу, и снова – одиночество, нищета, голод, страх, чужие люди… У нее не было больше сил. А он, Кузьма, был тогда просто мальчишкой, ничего не понимавшим в женщинах и принявшим на веру ее слова.
У него была мысль встретиться с Данкой после того ночного разговора, но наутро, подумав, Кузьма снова так и не подошел к ней. Данке тогда было не до первого мужа, она вовсю ссорилась со своим поляком. Они не были обвенчаны, но Данка прожила с Навроцким семь лет и искренне надеялась жить и дальше. Но у Навроцкого были другие планы. Красавец-поляк пользовался бешеным успехом у женщин и, если ему не везло в игре, не стеснялся крутить романы с купеческими вдовами, продолжая при этом брать у Данки деньги, продавая ее драгоценности и неделями не появляясь у нее на Воздвиженке. В конце концов Данка была вынуждена даже заложить дом. Деньги таяли, Данке приходилось прятаться от осаждавших ее ростовщиков и кредиторов и распродавать последние кольца. Тогда она уже была больна, но никто не знал об этом. Никто, кроме Кузьмы, который, дежуря по обыкновению возле ее дома, увидел однажды, как Данка, шатаясь, вышла из экипажа и прислонилась спиной к забору. Ее лицо было белым, на лбу выступил пот. Кузьма никогда не подходил к ней, но на этот раз набрался храбрости.
– Данка, что с тобой? Помочь? Держи руку.
– Ты пьян, пошел вон, – не открывая глаз, сказала она.
Он послушался. И в этот же день запил так, что лишь через две недели Митро сумел отыскать его в каком-то вонючем кабаке на Трубной площади – грязного, заросшего, без копейки денег, без сапог и в чужой рубахе. А когда Кузьма пришел в себя, грянуло новое известие: Данка с детьми уехала из Москвы.
Новости в столице всегда разносились быстро, и уже на другой день после Данкиного отъезда вся Живодерка знала, что случилось. Данке насплетничали об очередной измене Навроцкого, и она приехала прямо в «Яр», где поляк сидел со своей новой пассией. Данка устроила головокружительный скандал, попавший на другой день в газеты. Лишь чудом купеческой вдове Заворотниковой удалось свалиться под стол и тем самым спасти свое лицо от бутылочного осколка, которым взбешенная Данка размахивала перед ее носом. Тем же осколком она собиралась ткнуть в глаз Навроцкому, но не успела, лишившись чувств. Поляк на руках вынес Данку из ресторана, отвез домой, на Воздвиженку, и, едва дождавшись, пока та придет в себя, объявил, что между ними все кончено, что он женится на Заворотниковой и переезжает к ней. Тут же последовала вторая, еще более бурная, часть скандала, Данка перебила и переломала все, что попалось под руку, метнула в окно вслед уходящему Навроцкому чугунную статуэтку, но поляк все-таки ушел. До утра Данка прорыдала, а на следующий день собрала детей, вещи, оставшиеся ценности и укатила в Петербург.
Узнав об этом, Кузьма в тот же вечер объявил Митро, что едет в Питер. Сначала Митро орал благим матом, потом уговаривал, затем снова орал, кроя отборной бранью и «эту шлюху», и «этого дурака»… потом согласился. Наутро Кузьма ушел, и больше на Живодерке его не видели.
Вспоминая свои первые дни в Петербурге, Кузьма невольно передернул плечами. Он приехал туда, совершенно не представляя, где искать Данку с детьми, намереваясь сначала расспросить цыган, а уж затем идти в обход всех гостиниц и ночлежных домов. С цыганами ему сразу же не повезло: никто и слыхом не слыхивал о Данке. На всякий случай он наведался в рестораны, где пели цыганские хоры, в Новую деревню, в «Аркадию», но и там никто ничего не знал. Лишь на десятый день в грязных номерах на Мойке прыщавый половой в не стиранной с Христова пришествия рубахе, почесав подбородок, заявил, что «приехала такая, и с дитями, уж неделю за проживанье и стол не плотют».
Он нашел Данку лежащей на железной кровати в темной и запущенной комнате с отставшими от стен обоями. Дети за столом играли в лото на орехи. После перед глазами Кузьмы еще долго стояла эта грязно-желтая стена, две пары больших черных детских глаз, в упор разглядывающих его, и темное, в ореоле растрепанных волос, изможденное лицо Данки. Она, казалось, не удивилась при виде Кузьмы. С минуту они молча смотрели друг на друга… а потом Данка вдруг расхохоталась. До сих пор Кузьме иногда слышался во сне ее смех: хриплый, тихий, безостановочный. Она смеялась и смеялась, откинувшись на грязную подушку, смеялась до слез, а потом содрогалась в рыданиях, зажав лицо руками и отталкивая бросившихся к ней детей. И все еще плакала, когда Кузьма, так и не сказавший ни слова, пошел рассчитываться с половыми, хозяином гостиницы и по ломбардным квитанциям. Спасибо Митро – сунул на прощанье в карман несколько «красненьких»…
Вечером выяснилось, что денег у Данки не было ни копейки. Она равнодушно сказала Кузьме, что уже приготовила свое самое «голое» – с открытыми плечами и спиной – платье, чтобы вечером идти прохаживаться по Невскому бульвару. Странный был у них разговор: Данка лежала в постели, отвернувшись к стене (у нее опять болело сердце); Кузьма сидел рядом, на скрипучем гостиничном стуле, смотрел на свесившиеся с подушки косы Данки, тяжелые, иссиня-черные, наполовину распустившиеся… Слушал ее хриплый, незнакомый голос и понимал: пора уходить отсюда. Когда Данка умолкла, он сказал:
– Ежели тебе ничего боле не надо, так я пойду.
– Куда? – не поворачиваясь, спросила она.
– В Новую деревню. У меня там родня, сестра замужем…
– Это далеко. Дождь на улице. Не ходи.
– Что ли… остаться?
– Ай, да делайте вы что хотите…
Она так и не повернулась к нему. Не повернулась даже тогда, когда Кузьма лег рядом. Он не знал, о чем Данка думала в ту ночь. Оба они не спали, оба молчали, притворяясь спящими. Но когда наутро Кузьма сказал, что хорошо бы им обоим сходить в «Аркадию» и попросить работы, Данка согласилась. Ведь ей, как и семнадцать лет назад, нечего было терять.
Все же Данка не прогнала его. Не прогнала даже тогда, когда первые же выступления в ресторане принесли ей оглушительный успех. Немолодая уже певица из Москвы в считаные дни затмила примадонн хора Алексея Васильевича, про нее написали в «Северной пчеле», у дверей «Аркадии», как когда-то возле «Яра», начали собираться толпы поклонников, и было ясно, что бывший муж Дарье Степной больше не нужен. Но, к удивлению Кузьмы, Данка не гнала его, и вскоре он перестал ломать голову – почему… Значит, так ей было лучше. Он ни на что не рассчитывал, ничего не ждал. Чего ждать, на что рассчитывать после того, как Данка семнадцать лет подряд видела его, в дым пьяного, перед своим домом на Воздвиженке? Слава богу, что хоть согласилась взять его своим гитаристом – и за все пять лет выступлений в «Аркадии» не выбрала другого, хотя музыканты в хоре были хоть куда.
Пить Кузьма бросил – причем сам не заметил как. Данка, дети, ресторан, выступления, поиски дешевой квартиры заняли все его время, и лишь осенью он спохватился, что третий месяц не пьет ни капли. Поняв это, Кузьма даже рассмеялся. Подумал: расскажи цыганам с Живодерки – не поверили бы, хоть сто раз крестно забожись… Все знали, и сам Кузьма был уверен в том, что после стольких лет запойных пьянок человек стать прежним не может. Но что-то произошло, и Кузьма даже собирался забежать в Исаакиевский собор воткнуть свечку святому Николе-исцелителю, но, конечно, позабыл. Не до Николы тогда было.
Все, казалось, налаживалось потихоньку. Кузьма нашел домик Фомича, отставного солдата-пехотинца, который мучился от старческого одиночества и охотно принял на постой цыганскую семью. Дети тоже были пристроены, Мишка даже бегал в церковно-приходскую школу учиться грамоте, а семилетняя Наташа крутилась по хозяйству с той взрослой сноровкой, которой обладает любая цыганская девчонка. Кузьма и Данка работали в ресторане, слушать Дарью Степную съезжалось пол-Петербурга, как-то раз приезжали даже великие князья, и Данка до сих пор хранила их подарок: кольцо с ограненным капелькой рубином.
Но бог не любит, чтобы у людей все было хорошо. Кузьма чуть не умер со страха, когда однажды во время исполнения своего коронного романса «Я ласкала, целовала» Данка вдруг оборвала пение и поднесла руку к груди. Кузьма шагнул к ней, но она с застывшей на лице улыбкой едва заметным движением приказала ему продолжать играть. И допела веселую песенку до конца, и, лишь уйдя с эстрады в свою уборную, упала на диван с серым, искаженным болью лицом.
– За доктором послать, девочка? – впервые за всю жизнь Кузьма осмелился назвать ее так.
– Уйди прочь, ты пьян, – сквозь зубы сказала она.
Данка часто говорила это. Кузьма не решался спросить: видит жена или не видит, что он давно не пьет. За доктором все-таки послали, и тот решительно заявил: никаких волнений, никаких выступлений, полный покой и теплый климат. Тем же вечером Кузьма предложил Данке бросить все и ехать на юг, но та, не дослушав, встала и ушла. Он пришел к ней в ту ночь, как всегда, не зная: оттолкнет или нет? Данка не оттолкнула. Но и не сказала ни одного слова до самого рассвета. Кузьма не переживал: привык.
Потом были еще два приступа, оба – во время выступления, и оба раза Данка уже не смогла допеть романс до конца. Цыгане начали шептаться о том, что Дарья Степная «долго не протянет». Сам хоревод Алексей Васильевич как-то раз тихо спросил у Кузьмы – не собирается ли он всерьез лечить жену? Кузьма ничего не ответил: ведь все решала Данка. А она и слышать не хотела о том, чтобы оставить ресторан, с какой-то болезненной хваткой цепляясь за эту блестящую жизнь. Она даже сменила репертуар и теперь вместо любимых жестоких романсов пела смешные шансонетки и незамысловатые песенки вроде «Ну целуй, не балуй» и «Я цыганка, дочь степей». Публике это понравилось; когда Данка в своем красном платье, картинно изогнувшись, блестя глазами, пела вальс «В час роковой» и звонко играла голосом на верхних нотах, ресторан ревел от восторга. А Кузьма, стоя за спиной жены и машинально аккомпанируя, читал про себя «Верую» и надеялся: хоть бы сегодня пронесло. Иногда проносило, иногда – нет. Но, скажите на милость, что теперь-то делать?
Взглянув на ходики, Кузьма увидел, что уже четвертый час утра. Свеча в стакане почти полностью догорела, превратившись в плавающий в растопленном воске чуть тлеющий фитилек. Кузьма допил холодный, ставший горьким чай, взял стакан со свечой и пошел к Данке.
Жена спала на боку, обняв обнаженными руками подушку. Распущенные волосы, как обычно, свесились с постели на пол. Кузьма поставил свечу на подоконник. Сел, не раздеваясь, на пол, прислушался к дыханию Данки, порадовался про себя: дышит ровно, хорошо, не мучается… В прыгающем желтом свете лицо Данки казалось совсем молодым и растерянным. Тень от ресниц шевелилась на резко очерченных скулах, лоб перерезали две горькие морщинки, брови были страдальчески приподняты. Кузьма смотрел на ее лицо до тех пор, пока свеча не замигала и не погасла. В наступившей темноте он разделся, осторожно лег рядом с женой. И уже начал проваливаться в сон, когда вдруг услышал приглушенные рыдания рядом с собой. Сначала он медлил. Затем осторожно, на ощупь нашел руку жены.
– Данка, что ты?
– Ты чего не спишь?! Пошел вон! – раздалось сдавленное шипение. – Уйди от меня! Спи! И не поеду я никуда отсюда, не поеду, слышишь?! Дэвлалэ, как вы мне осточертели все, все, все…
Кузьма вздохнул. Отодвинулся. И лежал неподвижно, глядя в темноту, до тех пор, пока всхлипывания рядом не смолкли.
* * *
Июнь на юге в этом году выдался жарким. Белое солнце целый день висело в небе, источая нестерпимый жар. Море сверкало, известняковые утесы слепили, как мартовский снег. Степь выгорела начисто, остатки пожухлой травы едва топорщились на облысевшей почве, и сухие комки перекати-поля свободно путешествовали по ней из края в край. Не выдержала даже ко всему привыкшая полынь на прибрежных камнях и, утратив невзрачные соцветия и листья, торчала между утесами сухими желтыми палками. К гальке на берегу невозможно было прикоснуться, и нравилось это лишь одному человеку в рыбачьем поселке: турку Мустафе, который спокойно и важно варил свой кофе прямо на камнях у трактира Лазаря. Толстый турок никогда никуда не спешил, бег как способ передвижения не признавал, и поэтому Илья и Маргитка, идущие к трактиру, были крайне удивлены, увидев, что Мустафа несется им навстречу, вспотевший, с сотрясающимся животом и вытаращенными глазами.
– Дэвла, что это с ним? – пробормотала Маргитка. – Мариам, что ли, себе кого получше нашла?
– Брат, куда рысишь? – спросил Илья.
Мустафа промчался мимо него, как тяжеловоз, пыхтя и сотрясая землю, и выпалил на ходу:
– За Мариам! Пусть поглядит, пока не кончилось!
Илья взглянул в сторону трактира. Там, под старым грецким орехом, действительно собралась нешуточная толпа, от которой доносились восхищенные вопли, ругань, смех и лошадиное ржание. Когда Илья с Маргиткой приблизились, крики стали отчетливее:
– Давай, Роза! Эй, Чачанка! Смотри не падай!
Илья раздвинул локтями толпу – и увидел нечто невообразимое. Перед трактиром, делая широкий круг по двору, галопом носился тот самый красавец-жеребец чистой золотой масти, которого неделю назад на аркане притащил в поселок Васька Ставраки. Все эти дни конь был на языках не только у поселковых барышников, но и у городских ценителей лошадей. Он был редкой красоты, с тонкими и сильными ногами, подобранной грудью, богатым хвостом, слегка удлиненной спиной, маленькой и сухой породистой головой. Проблеск белка в углах фиолетовых глаз говорил о своенравном характере, в чем за неделю Васька убедился полностью. При посредстве всех знатоков округи он несколько дней пытался укротить бешеную скотину, но пользы не было никакой. После того как с жеребца три раза сорвался молдаванин Белаш, пять раз – коновал с Ближних Мельниц одноглазый Федор и раз двадцать – сам Васька, было решительно установлено: чертовой твари дорога только на бойню. Золотой жеребец не давал приблизиться к себе: фыркал, храпел, дико скашивал глаза, дергался и лягался, и даже Илья, раз взглянув на него, не стал и пытаться. Сказал Ваське: «Без толку. Норовистый, как черт. Татарам продавай».
Продавать татарам такую красоту Ваське не хотелось, он рассчитывал сбыть породистого скакуна какому-нибудь богатому знатоку в Одессе, но необъезженная лошадь сильно теряла в цене, и Васька не спешил подыскивать покупателя, все еще надеясь обломать строптивца. И сейчас Илья не верил своим глазам: неукротимый золотой галопом несся по кругу, словно в цирке, а на его спине, сжав бока коня коричневыми исцарапанными ногами и гикая, как кабардинский мальчишка, сидела Роза Чачанка. Испуга на ее лице не было и в помине: было очевидно, что Роза упивается скачкой. Более того – понаблюдав за ней с минуту, Илья увидел, что бешеная баба показывает джигитовку: она то запрокидывалась назад, почти ложась на круп лошади, то на лету срывала лист с грецкого ореха, то, свешиваясь до земли, подхватывала прямо из-под копыт гальку, то, как в пляске, била плечами. Пробормотав: «Вот шальная…», Илья ткнул кулаком в бок стоящего рядом Лазаря и потребовал объяснений. Лазарь долго отмахивался и орал по-гречески, но в конце концов сбивчиво поведал следующее.
Ранним утром Васька Ставраки, ругаясь и размахивая кнутом, на веревке приволок рыжего жеребца к трактиру. Там его, по уговору, ожидал высокий и длинный, худой, как щепка, цыган-кэлдэрар Иштван из Одессы, клятвенно пообещавший Ваське объездить упрямую тварь. Разумеется, ничего не вышло и у Иштвана: раз за разом он оказывался на земле. К тому времени к трактиру начали сходиться вернувшиеся с раннего лова рыбаки, собралась толпа, Иштвану помогали советами, подбадривали, но ничего не помогало. В конце концов вывалянный с ног до головы в пыли цыган заявил, что, видно, не судьба, и добавил, что такой оголтелой коняки он не видал сроду. После Иштвана попробовал еще раз «на авось» и сам Васька, но под хохот рыбаков тоже полетел в пыль. Окончательно выйдя из себя, он с матерной бранью выдернул из-за голенища кнут и принялся изо всех сил хлестать вскидывающегося на дыбы жеребца. И тут с грохотом разверзлась дверь трактира – на двор вылетела заспанная, растрепанная и орущая Чачанка. Подбежав к Ваське, она вырвала у него кнут, швырнула его далеко в море, во всеуслышание высказала все, что она думает об этом «бесштанном босяке», и решительно зашагала к обозленному жеребцу, на ходу подтыкая юбку. Остановить Розу бросились сразу несколько человек, но она зарычала на них так, что те шарахнулись, не спеша огладила и отерла рукавом дрожащего от ярости жеребца, скормила ему что-то со своей ладони и, обняв бешеную тварь за шею, принялась нашептывать ему на ухо. Конь слушал, подергивая головой и переступая с ноги на ногу, тянулся к Розе губами и лишь коротко всхрапнул, когда она вскочила ему на спину.
– Где она так джигитовать научилась, матерь божья? – проворчал за спиной Ильи Иштван. – Первый раз в жизни вижу, чтобы цыганка на лошади гоняла! Да еще на такой злющей!
– И никакая она не цыганка. Примазывается! – зло сказала Маргитка.
– Замолчи, – велел Илья. Маргитка вспыхнула, но ответить не успела, потому что в эту минуту Роза под восторженные вопли зрителей осадила взмыленного жеребца, ласково похлопала его по шее, спрыгнув на землю, и зашагала к Ваське Ставраки. Тот стоял под грецким орехом, прислонившись спиной к толстому корявому стволу. Ему одному из собравшихся перед трактиром совершенно не понравилось устроенное представление, и он мрачно смотрел из-под насупленных бровей на приближающуюся к нему Чачанку. Рыбаки тоже наблюдали за Розой с интересом, ожидая продолжения. Ожиданий Роза не обманула.
– Видал, дух нечистый, как с животиной обращаться надо?! Эх ты, на таракане тебе ездить! – заголосила она на весь двор, суя Ваське под нос маленький загорелый кулак. – Скинул он тебя и еще раз сто скинет, и правильно сделает! Он теперь до смерти не забудет, как ты его кнутом по двору гонял! Да самому бы тебе того кнута понюхать, медуза ты паршивая! Тьфу! Да какой ты конокрад после этого? Семечки тебе у старух на базаре красть, а не лошадей!
Лицо Васьки перекосилось от бешенства, рука машинально дернулась к голенищу, но кнут его уже полчаса лежал на дне морском. Васька дико огляделся вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого, схватил валяющуюся в пыли ржавую подкову, замахнулся.
– О, давай, давай, помаши руками! – подбодрила его Роза. – Попляши, а я спою! Гоп, морэ, не зевай, таракана оседлай! Ехай себе с богом, не гони дорогой!
Неожиданно сложившаяся песенка довела рыбаков до дикого хохота. Лазарь рядом с Ильей сложился вдвое, насколько позволял круглый живот, ловя разинутым ртом воздух. Иштван ржал, схватившись за бока, вытирал слезы и приговаривал по-своему грек Спиро, дед Ершик и вовсе сел на землю, дрожа от смеха. К удивлению Ильи, смеялась и Маргитка: громко, блестя зубами и, кажется, искренне. Не до веселья было только Ваське. Застонав от бешенства, он кинулся к Розе, но сзади его нежно перехватил огромный Белаш.
– Цоб-цобэ, парень, не лягайся! – с сильным бессарабским акцентом сказал он. Грубое рябое лицо контрабандиста расплылось в издевательской ухмылке. – Ступай себе подобру-поздорову. Тут, видишь, лошадь. А ты с лошадью не умеешь. А не умеешь – не берись. Поди, милый, таракана поймай. Тяжело будет – Розу позови, пособит.
Белаш втолковывал это все Ваське ласково и доброжелательно, но стоящие рядом рыбаки умирали от смеха. А Маргитка, подбоченившись и запрокинув голову, закатывалась громче всех, и стонала, и всхлипывала, и, вытирая глаза, показывала на Ваську пальцем:
– Ой, не могу, умру… Ох, помогите, кончаюсь… Ох, смотрите, люди добрые, саво ром баро…[20]
Васька выстрелил в сторону хохочущей Маргитки злым взглядом из-под бровей, и Илья злорадно заметил, какой краской залилась его черная физиономия. Резко вырвавшись из объятий Белаша, Васька выругался сквозь зубы и, круто развернувшись, зашагал по дороге в город.
– Эй, красавец, а лошадь-то? Лошадь-то забери! – завопила ему вслед Роза.
Васька не оглянулся, и на мгновение Илье стало даже жаль его. Все-таки вогнать в краску Ваську Ставраки до сих пор не удавалось никому в поселке.
– Ну и язык у тебя, Розка! Без ножа парня зарезала, – полушутливо упрекнул он посмеивающуюся Чачанку.
– А-а, будь здоров, Смоляко, я тебя и не видела! – весело поздоровалась Роза. – Ничего, такого обломать не грех. Ну, не люблю я его, не люблю, и все. Когда его зарежут, и на поминки не приду. Выдумал – живую божью тварь мучить!
– А тебе обязательно нос сунуть надо было! Гляди, припомнит он тебе…
– А! Пугали ежа голым задом! – беспечно сказала Роза. – Слава богу, не в лесу живу. Рыбачки в обиду не дадут.
– Слушай, поделись секретом – как ты с жеребцом управилась? – помявшись, спросил Илья. – Стыд сказать, я и то к нему подойти побоялся! А ведь не первый год с лошадьми-то…
– Да какой тут секрет, господи? – Роза, приглаживая ладонями растрепанные после скачки волосы, хитровато смотрела на Илью. – Прикармливала я его, всего и делов. Васька ведь, сволочь такая, впроголодь его держал, а мне жалко было: животина же бессловесная… Вот я, как солнце сядет, на двор пролезу тихонько…
– К Ваське?! – поразился Илья. – И не боялась?
– Чего бояться? Пролезу, к лошаденку подберусь и кормлю его… соленым арбузом с хлебом. Два раза овес в подоле приносила, только, незадача, просыпала много, когда через плетень лезла. Вот Васька, поди, башку ломал – откуда столько овса во дворе?.. Ну, вот и пригодилось.
– А джигитовать где выучилась? Я такое только у чеченов на Тереке видал.
Роза посмотрела на Илью внимательным и веселым взглядом, по-мальчишески присвистнула сквозь зубы, и он понял, что Чачанка больше ничего не скажет.
– Что-то вашей Дашки последнее время не видно. – Роза повязала волосы красным платком, сдвинула его на затылок. – Не уморили вы ее там?
– Нет. Яшка ее в Николаев возил, вчера только вернулись. К какому-то доктору русскому известному, глаза смотреть.
– И что?
– Да ничего. – Говорить об этом Илье не хотелось, но Роза затеребила его за рукав, и пришлось продолжать. – Без толку проездили, только время на ветер… Этот доктор с три короба наговорил, обнадежил девочку, а сделать ничего не сделал. Даже денег не взял.
– А что говорил-то?
– Да много всякого… Яшка и половины не понял. Что-то вроде того, что всю жизнь она слепой не будет.
– Так не бывает, – уверенно сказала Роза.
– Вот и я тоже думаю… Но доктор этот говорил, что если она не от рождения слепая, а от страха, то, может быть, будет когда-нибудь видеть. Если, положим, она испугается сильно, или упадет, или беда какая стрясется…
– Клин клином вышибают, что ли?
– Вроде того…
– Может, Яшке побить ее? – серьезно посоветовала Роза. – Она с непривычки испугается, глядишь, и…
Илья молча отмахнулся. Ему эта поездка к доктору не нравилась с самого начала. Мало, что ли, Настька в свое время таскала дочь по докторам, мало водила попов и бабок, мало молилась, мало плакала? Ничего ведь не помогло, и все давно смирились с тем, что Дашка никогда не увидит солнца. И сама Дашка знала это и не мечтала попусту о несбыточном. И вот теперь какой-то николаевский живодер, будь он неладен… Зачем ему понадобилось морочить девочке голову? Чего хорошего может из этого получиться? Задумавшись, Илья хмуро вертел носком сапога ямку в песке, не слушал о чем-то болтающую Чачанку и опомнился лишь тогда, когда она со всей силы хлопнула его по плечу:
– Эй, морэ! Оглох ты или не выспался?! Ору как резаная, а он ухом не ведет! Последний раз спрашиваю, идете сегодня в город или нет?
– Зачем? – удивился он.
– Как, а ты что, не слыхал?! – в свою очередь, поразилась Роза. – Ну, как в колодце живете, право слово! Да об этом второй день все цыгане в Одессе галдят! Хор с самой Москвы приехал, ясно? В Одессе остановились, пели вчера у Фанкони, а сегодня в парке для всех. Завтра в Крым возвращаются. Все наши идут смотреть, интересно же! И надо же, с такой дали, с самой Москвы!
– С… Москвы? – внезапно охрипшим голосом переспросил Илья. – А чей хор? Кто хоревод?
– В афише написано – Дмитриев, кажется.
Его словно обухом ударили по голове. Илья провел задрожавшей рукой по лбу, затеребил в пальцах шнурок нательного креста. Роза смотрела на него выжидательно, и надо было что-то отвечать ей, но вставший в горле ком не проваливался, хоть убей. Дэвлалэ! Московские… здесь… какого черта только явились… Зря надеялся, что теперь до смерти их всех не увидит. Господи, за какой еще грех на него это свалилось?
– Что с тобой, Илья? – тихо спросила Роза.
– Со мной?.. – голос дрогнул, сорвался, и Илья отвернулся от пристального взгляда Чачанки. – Со мной ничего.
– Сам-то ты не московский случаем?
– Н-нет… Так, говоришь, все пойдут?
– Ну да. – Роза не сводила с него глаз. – И я, и одесские. Вы-то собираетесь?
Илья молчал, лихорадочно думая, что ответить. Взгляд его упал на подошедшую Маргитку. В ее глазах стояло такое смертное отчаяние, что Илья сразу понял: нужно поскорее уходить и уводить ее.
– Пойдем мы, Роза. У меня еще дел полно сегодня.
– Подожди! – Роза взмахнула рукой, показывая на дорогу. – Это не твой буланый скачет?
На дороге клубилось серое облако пыли. Когда облако приблизилось, Илья разглядел в нем своего буланого с Цинкой на спине. Подскакав к трактиру, Цинка с лихим гиком осадила лошадь, спрыгнула на землю, вытерла кулаком нос и принялась вопить на всю окрестность:
– Дед, меня дадо послал! За тобой! Чтобы быстро-быстро! Велел сказать: бросай все и бежи домой! Надо очень! Там твоя сестра пришла! Тетя Варя пришла! Вот что!
– Варька? – медленно переспросил Илья. – Откуда?
Цинка пожала плечами, потерла одну босую ногу о другую. Илья взял внучку на руки, посадил обратно на лошадь.
– Ну, скачи, скажи – сейчас будем. – Он обернулся к Маргитке. – Идем домой?
– Идем, – глухо, не поднимая глаз, ответила она.
Варьку Илья увидел еще издали. Сестра сидела на крыльце дома, обхватив колени руками, дымила трубкой, изредка сплевывала в сторону. Увидев приближающегося Илью, не спеша встала, выколотила и спрятала трубку и еще тушила босой ногой последние угольки, когда брат подошел вплотную.
– Варька… – только и сумел сказать он.
Сестра подняла голову, и Илья едва успел увидеть ее блестящие от слез глаза: в следующий миг Варька уже висела у него на шее, сдавленно повторяя:
– Сволочь… Сволочь… Вот сволочь…
– Да за что же ругаешь? – хрипло спросил он. – Вот он я. Сама же не ехала пять лет.
– Я не ехала? Я не ехала?! Да я тебя по всему Крыму искала! По всей Бессарабии! Вы же хуже таборных, совсем на месте не сидите! Хоть бы знать о себе дал, паршивец, последнюю совесть схоронил!
– Искала? Ты меня искала? – недоверчиво переспросил Илья. – А я думал…
Варька подняла голову. Тихо, но грозно спросила:
– Ну, и что же ты там думал?
Илья не стал врать.
– Думал, что не свидимся больше.
– Дурак! – устало сказала Варька.
Он молчал. Обнимал худые плечи сестры, гладил ее по спине. И сам не заметил, как опустился на колени и как Варька тут же села рядом прямо в пыль, и они обнялись, как в детстве, и он уткнулся в ее плечо. Вот она – Варька, вот она – сестренка, вся его семья, вся родня. Снова здесь, снова с ним и будет всегда.
Дома у накрытого стола сидел Яшка, а возле печи суетилась Дашка. Илья давно не видел дочь такой счастливой – улыбка не сходила с ее лица, а огромный живот не мешал Дашке ловко и быстро орудовать у печи ухватом. Она уже успела заставить стол всем, что было в доме съестного, поставила самовар. Маргитка молча подошла помочь ей. Илья заметил, что с Варькой они поздоровались холодно, мельком, не поцеловавшись. Вскоре Маргитка и вовсе ушла на двор с полным тазом грязного белья, словно не могла выбрать другого времени для стирки. Илье это не понравилось, он собрался было пойти вернуть жену, но передумал: хотелось послушать Варьку, начавшую рассказывать о своем путешествии по Крыму.
Яшка сидел за столом как на иголках. Едва дождавшись паузы в разговоре старших, он принялся жадно расспрашивать Варьку:
– Как наши все там, бибийо?[21] Как отец? Мама здорова? Сестер замуж взяли? Всех? Пашка Конаков на Ольке обещал жениться – женился?
Впервые на памяти Ильи Яшке изменила его обычная сдержанность, вопросы сыпались из парня один за другим, а загорелое скуластое лицо было взволновано и казалось совсем мальчишеским. Яшка даже не заметил, что выпил свой стакан вина до того, как пригубили Илья и Варька: недопустимое поведение при гостях, тем более старших. Вздохнув, Илья понял, что, пока Варька не переберет всю Яшкину московскую родню, поговорить с сестрой ему не удастся.
А может, и слава богу… О чем говорить? Что рассказывать? Как искал по всей Бессарабии Маргитку? Какой ее нашел? Как жили, как живут сейчас? Зачем?.. Позориться только. Да, Варька сестра ему; да, кроме нее, у него и на свете нет никого, но… Но язык не повернется рассказать, из-за чего они столько лет, как бродяги, мотались по Крыму, из-за чего никак не могли сесть на одном месте, ужиться с цыганами… Да Варька и не дура; небось давно сама догадалась. Ведь наверняка не думала, что отыщет брата в нищем рыбачьем поселке среди бог знает какого сброда. Что он ответит, если Варька сейчас спросит: «Как ты живешь, Илья?» Что тут отвечать? Не расскажешь ведь, не вывалишь, как прежде, все, от чего болит душа, не спросишь: «Что делать?» Тьфу, пропади все пропадом… Может, лучше бы ей и вовсе не приезжать было.
Яшка угомонился только через час. И то помогла Дашка, на миг остановившаяся за спиной мужа и что-то чуть слышно шепнувшая ему. Яшка умолк, смущенно покряхтел, тут же вспомнил о каком-то неотложном деле и, извинившись, вышел из комнаты.
– Спасибо, чайори, – недовольно сказал Илья. – Думал – до ночи от него не избавлюсь.
– А ты чего хотел? – сдерживала улыбку Варька. – Парень родню пять лет не видал. Девочка, хватит там у печи вертеться, садись с нами, дай на тебя посмотреть! Господи, ты и не растолстела, кажется, совсем… Четверых родила, а все как невеста! Затягивалась, что ли? Иди, посиди!
– Сейчас вернусь. – Дашка улыбнулась, взяла пустое ведро и вышла на улицу.
– Золото, а не девочка, – с нежностью сказала Варька, глядя ей вслед. – И в кого только?
– Да уж не в меня.
– Знамо дело. – Варька снова достала трубку, долго раскуривала ее, придавив табак вынутым из печи угольком.
Илья молча ждал, рассматривал на свет красное вино в стакане. Дашка все не возвращалась. Со двора доносилось мокрое шлепанье: Маргитка у колодца стирала белье.
Варька наконец управилась с трубкой, затянулась, выпустила облако дыма. Илья искоса, сердито взглянул на нее:
– Долго дымить будешь? Рассказала бы лучше, как наши.
– А что наши? – невнятно переспросила, не вынимая трубки изо рта, Варька. – Я в таборе с весны не была. Но, кажется, все живы-здоровы, только старая Стеха на Святках померла. Правда, и пора уже было, ей лет девяносто точно стукнуло. Сиво последнего сына женил и всех при себе держит, отделяться не дает, добро жалеет. Смех и грех глядеть, как девять невесток у одного костра толкутся да задами стукаются! Маша своего пьяницу похоронила, теперь веселая бегает: отмучилась… Ванька Жареный из тюрьмы пришел и в первый же день чуть жену не убил, еле цыгане развели: что-то ему про нее наболтали. Брат его дочь сосватал за каких-то ростовских, весной хотят свадьбу делать, а денег нету, даже занимать не у кого… Илья, что с тобой?
Он опустил глаза. Перевел дыхание. Сквозь зубы спросил:
– Ты что, издеваешься надо мной? Что мне до таборных? Я их пять лет не видал и видеть не хочу. Ты мне про детей моих расскажи. И… и про Настьку.
– А-а, вон ты чего… – Варька положила трубку рядом со стаканом на стол. Долго молчала. Илья ждал, глядя на вино в своем стакане, и в глазах уже рябило от красного блеска. – Ну, что тебе рассказать… Про то, что Гришка на Анютке женился, ты знаешь? Петька тоже жену взял, красивая девочка, но бесталанная, в хоре только за красоту и держат, сидит посреди первого ряда богородицей… А месяц назад и Илюшка женился на Катьке Трофимовой. Прелесть девчонка, и пляшет хорошо… Нет, ты меня не слушаешь, я вижу! Илья! Сам ведь просил рассказывать!
– Прости. Слушаю. – Илья отпил вина. И, так и не заставив себя поднять глаза, спросил:
– А что же… Настька?
– Настька? – Варька помолчала. – Настька замуж собирается. За князя Сбежнева. Если все хорошо будет, осенью обвенчаются. Он ее в Париж увозит.
Вот так, ошалело подумал Илья, сжимая внезапно заплясавший в пальцах стакан. Вот так. Не зная, куда деть задрожавшие руки, злясь на себя за это смятение, он все же сумел усмехнуться:
– Что ж… Слава богу, быстро утешилась.
– Помолчи! – резко сказала Варька. – Что ты знаешь?
– А чего тут знать?! – рявкнул Илья, стукнув стаканом по столу. Он разбился вдребезги, на пол посыпались осколки, по столу растеклась гранатовая лужа, а сам Илья сдавленно выругался, порезав руку.
Варька молча смотрела в окно. Когда Илья перестал материться, спросила:
– Слушай, а ты чего ждал? Что она до конца дней своих по тебе убиваться будет? Много чести…
– Ничего я не ждал. Выходит замуж – и слава богу. Может, еще детей ему нарожает. – Илья встал, прошелся по комнате. Дрожь в руках не проходила, саднила порезанная ладонь. В висках стучало, как маятник: Настька… князь… Настька… князь…
Да, конечно, прежнего не воротишь. Да, у него теперь другая семья, Маргитка, скоро будет ребенок, но… Но почему он так не ждал такой новости? Ведь права Варька, не сохнуть же Настьке одной, она совсем не старая еще, красивая, любой такую с радостью возьмет, небось и не один князь в очереди стоит… Права Варька, и Настька права, хоть поживет по-человечески. И ничего другого быть не могло… но отчего же, господи, худо-то так?
– Что ж она за него сразу не вышла? – спросил он, стоя у окна и глядя на двор. – Зачем тянула пять лет?
– Не знаю. Может, тебя ждала. Может, боялась. Наши-то все ее уговаривали, Митро – тот с утра до ночи зудел, как бабка древняя: выходи, выходи, дура… А сейчас уж тянуть некуда, князь в Париж с посольством уезжает, а туда только законную супругу можно.
– Понятно. Ну – дай бог.
– Подойди ко мне.
Он не послушался. Упрямо стоял у окна до тех пор, пока Варька не подошла сама, не взяла его за руку и не усадила насильно у стола.
– У тебя кровь. Сильно порезался? Как был бешеный, так и остался… Чего разошелся-то? Совсем, что ли, плохо здесь?
– С чего ты взяла? – Илья опустил голову, понимая, что сейчас хочешь не хочешь, а придется врать. Противно было до дрожи в коленях, но Илья знал: правды о своей жизни с Маргиткой он не расскажет под ружьем. Никому. Даже Варьке. – Что ты на меня так смотришь? Чего ты сама себе напридумывала? Слава богу, хорошо живу. Что детей пока нет – это пустяки, Маргитка сейчас тяжелая, к зиме управится. Деньги есть, лошади есть, дом есть… Внуков вон целая охапка, покою в доме никакого… Чего еще надо?
Варька молчала. Умолк и Илья. Через минуту тишины он осторожно поднял взгляд. Сестра сидела, подперев голову рукой, и изумленно смотрела на него.
– Слушай, Илья, ты что – голову мне морочишь? – почти с испугом спросила она. – Ты ума лишился?!
Он не ответил. Варька в сердцах ударила ладонью по столу, вскрикнула, уколовшись о лежащий на столешнице осколок стакана.
– О, черт возьми… Все из-за тебя, леший!
– И тут я виноват, – пробурчал Илья, смахивая осколок на пол и беря сестру за руку. – Дай мне…
Варька молча позволила ему зализать ранку на пальце. Когда от той осталась лишь красная полоска, отняла руку. Тихо, глядя в окно, сказала:
– Вот не думала, что у нас с тобой до такого дойдет. Ты что, Илья, решил, что я за эти годы ослепла? Или из ума выжила? Хорошо он живет, посмотрите на него, люди добрые… А то я не знаю, зачем ты в эту дыру зарылся! Жену от цыган прячешь, позориться не хочешь, только и всего! Была я в Симферополе, мне крымы рассказали, почему вы оттуда съехали! И в Кишиневе была, там вас лаутары местные тоже хорошо помнят! А что ты с девочкой сделал? Во что ты ее превратил?! Да для того она, что ли, родилась, чтобы за твоей кобылой по свету таскаться?
– Ну, тут ты меня не совести! – вспылил Илья. – Она, что ей лучше, сама выбирала! Я ей не навязывался!
– Дурак, ты ей в отцы годишься! Думать надо было, прежде чем на девчонку зеленую лезть!
Варька, забывшись, снова заколотила по столу, охнула от боли в порезанном пальце, умолкла. Илья опустил голову на кулаки. В комнате стало тихо. На улице о чем-то разговаривали Дашка и Маргитка, орал петух, звенели голоса детей.
– Знаешь, я, когда вы пришли, Маргитку даже не узнала. Присмотрелась, только тогда поняла: она… Что ты с ней сделал? Она же веселая была, красивая, светилась вся… А теперь глаза как у кошки одичалой. И что это у нее с лицом? Бьешь ты ее, что ли?
Варька спросила это будничным тоном, но ему вся кровь бросилась в лицо. Не глядя на сестру, Илья пожал плечами.
– Ну, было.
– И есть за что? – поинтересовалась Варька.
– Да вроде пока особо не за что…
– Молодец, морэ… Ну, а чего ты отворачиваешься? Твои дела. Живи так, коли в радость. Но только я тебя попросить хотела…
– О чем?
Варька отпила вина из стакана. Вздохнув, сказала:
– Мы сегодня в вашем городе поем, в парке. Народу будет много, знаю, что и цыгане явятся… Прошу тебя – не приходи.
– Это почему еще?
– Незачем.