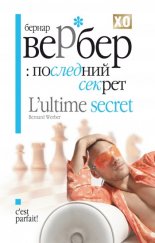Путеводная звезда Дробина Анастасия
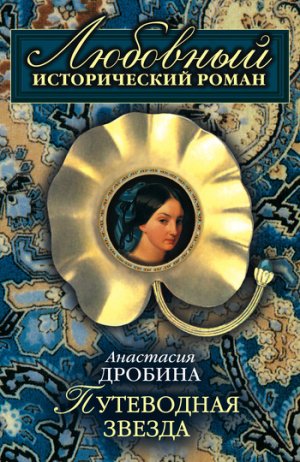
Митро забегал по комнате. Настя озадаченно следила за ним глазами. Через минуту потянула было к себе платье с кресла, но Митро заметил ее движение, одним прыжком оказался возле кровати, вырвал платье из рук сестры, швырнул его на пол и гаркнул так, что закачалась люстра:
– Отвечай – почему Сбежнев уехал?!
Настя приподняла брови. Вздохнув, спросила:
– Уехал, значит, все-таки?
Митро, не находя слов, закатил глаза. Помедлив, Настя снова потянулась за одеждой. На этот раз ей удалось даже накинуть платье на голову, но в тот же миг Митро сорвал его.
– Зачем ты это устроила? Отвечай, дурища, зачем?!
Настя резко встала. Оттолкнув брата, вырвала у него из рук свое платье, ушла с ним за ширму, и туда Митро бежать за ней не рискнул. Нерешительно постояв на месте, он набрал было воздуху для очередной гневной тирады, но, подумав, с шумом выпустил его. Сел в глубокое кресло у окна и, косясь в сторону ширмы, проворчал:
– И нечего глазами сверкать, дура и есть… Опять человеку жизнь испортила, бессовестная! Чуть свет из гостиницы смылся, будто не князь, а босота какая беспортошная…
– Ты откуда знаешь?
– Так он же меня разбудил! Вытащил из-под одеяла, кой-как посадил и ну объяснять, что не может уехать, ничего не объяснив, не хочет, мол, чтоб я о нем худое думал… А я в себя прийти со сна не могу, ничего не понимаю, только глазами хлопаю и говорю: «Как ваша милость сама разумеет…» Ну, понял он наконец, что от меня толку мало, сел к столу и давай писать… Передай, говорит, Настасье Яковлевне. Тут уж я опомнился, прыгнул к нему. Не уезжайте, говорю, Сергей Александрович, все бабы дуры, и Настька тоже, она пожалеет еще… Куда там! Улыбнулся – и за дверь! Не бежать же мне за ним босиком было!
– Где письмо? – из-за ширмы протянулась рука.
– На… – Митро, насупившись, сунул в руку измятый листок. Чуть погодя Настя взглянула через верх ширмы. Нахмурившись, спросила:
– Ты что, читал?
– Знамо дело. Он его, между прочим, не запечатал.
– А совесть у тебя есть?
– Про совесть молчала бы! – снова вскинулся Митро. – Ну, поглядела? Рада? Успокоилась, наконец? Избавилась? И что вы, бабы, за стервы за такие, одно от вас несчастье приличному человеку, право слово… Что вот ты теперь делать будешь, что?
Настя показалась из-за ширмы, аккуратно складывая письмо Сбежнева. Митро свирепо взглянул на сестру; увидев на ее лице улыбку, изумленно заморгал. Вздохнул, пожал плечами. Взявшись за голову, спросил:
– Ну что ты за наказание на мою голову, Настька, а? И почему у тебя все не как у людей? Князь – и тот негоден оказался. Одного подай – конокрада таборного… А стоит ли он тебя, поганец?!
Настя молча положила письмо Сбежнева на край постели. Села на ручку кресла, в котором сидел брат, взъерошила ладонью волосы Митро, погладила по плечу.
– Не ярись. Еще слава богу, что сейчас все решилось. А то могла бы и из-под венца сбежать.
– Могла бы, тебе не впервой! – буркнул Митро. – Ну, в Москву-то с нами возвращаешься? Или своего голодранца искать, хвост задравши, побежишь? Смотри, после этого на глаза мне не показывайся!
Настя молчала. Митро осторожно взглянул на нее снизу вверх. Сестра улыбалась, и он невольно улыбнулся в ответ.
– Ну… Хоть солистку новую на твое место не искать.
– Все равно бы никого лучше не нашел, – уверенно сказала Настя. Поднялась с кресла, взглянула на часы. – Ступай, Митро. Мне вещи уложить надо. Поезд в полдень, помнишь?
До утра Илья проходил по темному городу, избегая, однако, заходить в кабаки, понимая: на этот раз дело может закончиться недельным запоем. Рассвет застал его на белой каменистой дороге, ведущей в поселок. Сияющая краюшка солнца только-только выглянула из-за горизонта, облив его розовым светом и озарив снизу длинные полосы облаков. Глядя на поднимающийся над морем красный диск, Илья вдруг вспомнил о Маргитке, о том, как ушел вчера, оставив ее, рыдающую, на дороге, о том, как она с воем волочилась за его сапогом по пыли, беременная… Вот, не дай бог, опять выкинет… Этого только не хватало! Тоскливо выругавшись, Илья прибавил шагу.
Его тревога сразу возросла, когда он увидел настежь распахнутые ворота и дверь в дом. На дворе было пусто, не слышно даже привычных детских воплей. «Спят, что ли, еще?» – удивленно подумал Илья. Из-под крыльца вылез Цинкин щенок и, нарушив тишину, пронзительно затявкал. Илья пнул его сапогом и, не слушая обиженного поскуливания, взбежал по крыльцу.
На лавке у окна сидела Цинка – не по-детски сосредоточенная, насупленная, со следами высохших слез на скуластой мордашке. К ней, как воробьи, жались мальчишки. Илья растерянно огляделся, не понимая, что могло так перепугать детей. И увидел: за столом, уронив кое-как повязанную платком голову на смятую скатерть, сидела Дашка. Сначала ему показалось, что дочь спит, но, едва услышав скрип половиц, она резко вздернула голову, и Илья увидел ее мокрое от слез лицо.
– Дадо? – хриплым, чужим голосом спросила она. – Дадо, ты?
Илья бросился к ней, схватил за плечи:
– Что случилось, маленькая?
– Дадо… – Дашка вновь расплакалась, повалившись головой на стол. – Дадо, я, клянусь, ее не пускала… Но я не могла… Не могла я, боже мой!
Илья с силой встряхнул ее:
– Да что стряслось? Где Маргитка?
– Дадо…
– Говори! Убью! Говори! – заорал он так, что дети, спрыгнув с лавки, молча кинулись за дверь. – Где Маргитка, где она?
– Дадо, я не виновата… Она ушла… уехала…
Илья ожидал услышать все, что угодно, но не это, и сначала почувствовал страшное облегчение: слава богу, жива, не выкинула… Лишь через минуту он медленно поднял руку к голове, потер лоб, несколько раз моргнул. Тихо переспросил:
– Как? Что ты сказала?..
Дашка, сжав голову руками, зарыдала в голос:
– Уехала! Говорю тебе, уехала!
– Да что ты городишь, дура! – рявкнул Илья, впервые в жизни обругав дочь. – Куда она, черти тебя возьми, делась?! Когда? С кем? Отвечай!!!
– Но-о-очью… – всхлипнула Дашка, – с Васькой Ставраки… Отец, ради бога, не кричи, что я могла сделать?
Илья отступил от стола, диким взглядом обвел комнату. Все здесь было по-прежнему, все на своих местах, и даже зеленая в желтых бубликах кофта Маргитки так же валялась на печи, свешиваясь вниз рукавом, и ее шаль висела на гвозде у зеркала, и все ленты, все гребни были на месте…
– Ты что – врешь мне?! – шепотом спросил он.
– Нет, дадо! Умереть мне, я не вру! – сквозь слезы побожилась Дашка. – Понимаешь, когда ты… когда ты ушел, она как с ума сошла – по двору металась, плакала, кричала, чуть в колодец не кинулась. Яшка, спасибо, перехватил, унес в дом. Я ее водой отпаивала и вином… Слышу, вроде униматься стала понемногу, сидит, пьет вино, молчит, плакать даже перестала… Я только вздохнула спокойно, а с улицы как закричат: «Эй, кто дома есть?» И что за черт Ваську принес? Маргитка как вскочит, как кинется на двор к нему! Я только услышала, как она закричала: «Вези! Куда хочешь вези!» На крыльцо выбежала, а их уж и не слышно…
– Да… куда же вы смотрели?! – Илья стоял, вцепившись в низкую притолоку, чувствуя, что у него начинают стучать зубы, словно в лютый мороз. – Кто ее отпустил, кто ей дал уехать?
– Я.
Илья оглянулся. На пороге, прислонившись к дверному косяку, стоял Яшка. Он был перемазан дегтем, – видно, делал что-то в конюшне. Лицо его было в тени.
– Ты?.. – шагнув к нему, переспросил Илья.
Яшка отступил. Его татарские глаза сузились еще больше. Илья шагнул еще раз – и Яшка неловко, спиной вперед, сошел по крыльцу на двор. Взглянув в его лицо, Илья увидел: парень ничуть не боится. А на двор вышел, чтобы не пугать Дашку. Что ж… Выходит, время настало.
– Я тебя убью, щенок, – по-прежнему тихо, почти спокойно сказал Илья, вытаскивая из-за голенища большой кнут. Яшка мрачно усмехнулся, и Илья еще раз убедился: не боится.
– Сколько ей было маяться с тобой, Илья Григорьич? Сколько ты из нее жил вытянул? Я ведь помню еще, какой она была!
– Женой моей она была!
– Цыгане об своих жен ног не вытирают.
– Не твое дело, паршивец!
– Нет, мое! Я с ней мучился, я, а не ты, слышишь, сволочь?! – потеряв вдруг самообладание, заорал Яшка. – Это я, а не ты, ее из Москвы увозил – тяжелую! Это передо мной она каждый день выла! Это я ее из петли в Николаеве еле вытащить успел! Это я не знал, что с ней делать, не мог ее заставить вдовой назваться, не мог цыганам показать! Это мы с ней чуть с голода не сдохли, когда денег не было! А тебе плевать было! Ты ее обрюхатил – и в сторону! Какой ты цыган после этого?! Ты…
– Заткнись! – зарычал Илья, встряхивая кнут. – Клянусь, три дня не встанешь!
– Ты ее пять лет мучил! Душу из нее мотал! Кровь пил! Кулаки отбивал об нее! Да лучше ей с Васькой по степям мотаться, чем дальше твоей тряпкой быть! Подстилкой! Ей! Моей сестре! Которая на всю Москву светилась!
– Я тебя убью!
– Это я тебя убью! – пообещал Яшка. – Маргитка ушла, мне теперь бояться нечего.
Они стояли во дворе друг напротив друга, розовый свет поднимающегося солнца освещал лицо Яшки, мелькал в его узких злых глазах, бился на лезвии ножа. Загородившись ладонью от солнца, Яшка шагнул было к Илье, но тот ударом кнута выбил из руки парня нож. Вот когда пригодилось почти забытое таборное искусство! От второго удара Яшка полетел на землю. Сморщившись, схватился за плечо, вскочил. Прыгнув к дверям конюшни, выдернул вбитый в косяк топор… Но в это время с визгом распахнулась дверь дома, и на двор, спотыкаясь, выбежала Дашка.
– Отец! Яшка! Вы с ума сошли!
– Уйди… – сквозь зубы процедил Яшка, не сводя глаз с кнута в руке Ильи. – Прочь, не мешайся…
Дашка кинулась к ним, на бегу срывая с головы платок,[23] огромный живот мешал ей. Споткнувшись, она упала на землю у ног Ильи, сморщилась, ударившись головой о камень, но ее рука с зажатым в ней синим лоскутом вцепилась в кнутовище.
– Отец, не надо! Ради бога, не надо! У меня… у нас дети! Прошу, умоляю, не надо, не убивай его! Он муж мой! Да-а-адо, Христом-богом…
Яшка бросил топор. Отвернулся. Илья некоторое время не мигая смотрел на вцепившуюся в его кнут дочь, затем разжал ладонь, и Дашка с коротким стоном повалилась на землю.
– Благодари ее… – негромко сказал он Яшке и ровным, неспешным шагом пошел со двора.
Скрипнув, захлопнулась створка ворот, и во дворе повисла тишина. Из-за конюшни выглядывали испуганные мордочки детей. Яшка закрыл глаза, шумно выдохнул. Отодвинув ногой топор, вытер вспотевшие ладони о штаны. Хрипло позвал:
– Даша…
Ответа не было.
– Даша, ты… вставай, пожалуйста.
Молчание. Дашка по-прежнему лежала ничком, сжимая в руках отцовский кнут, и Яшка видел, что она судорожно вздрагивает.
– Дашка, ну что ты, в самом деле! Вставай! Ну!
– Что ты сделал-то, Яша? – всхлипывая, спросила она. Медленно поднялась сначала на колени, потом на ноги. – Зачем же ты так?
– По-другому надо было?! – ощетинился Яшка.
– Он же отец мой!
– А она – моя сестра! Сколько терпеть можно было? И так из-за тебя пять лет промолчал! А по-умному – вовсе незачем нам было вместе жить! Я еще когда тебе говорил – уедем? Ну, говорил или нет?! А ты что? «Останемся, родня ведь, отец, больше нет никого…» Вот тебе теперь, на здоровье, я же и виноват!
– Ты рехнулся! Ты с ума сошел! – Впервые Яшка слышал, как жена кричит в полный голос, скаля зубы и размахивая руками, как какая-нибудь таборная баба на базаре. – Это мой отец, понимаешь?! Мой родной отец! Ты его чуть не убил! Что было бы, если б я не выскочила?! Человек ты или собака бешеная? Дэвлалэ, как я с тобой прожила столько времени, как?! – Она резко шагнула вперед, поднимая руку с зажатым в ней кнутом, и на мгновение Яшке показалось, что жена хочет ударить его.
– Ах, вон куда?! – взбеленился он. Резко схватил ее за запястье, сжал, и Дашка, морщась, уронила кнут. – Вон куда тебя, змея, понесло?! Спрашиваешь, как жила со мной? Собака я? Бешеный?! Да это вы, смолякоскирэ, все озверелые! Надо же было мне додуматься – из вашего рода жену взять! Чтобы загрызла в постели, как волчица! Ну, беги за ним, за отцом своим, беги! Беги, не держу! Я себе таких сотню найду! Может, и лучше! Пошла прочь, паскуда! – Он оттолкнул Дашку, и она, не удержавшись на ногах, снова упала. Тяжело, держась за живот, поднялась. Вытянув вперед руки, пошла к воротам. Покачнувшись, ухватилась за столб – и замерла, подняв безжизненное лицо к встающему солнцу.
Некоторое время Яшка исподлобья поглядывал на жену, ожидая, что она, может быть, повернется к нему сама. Дашка не поворачивалась. Стояла, обхватив руками столб, неподвижная, вся облитая розовым утренним светом. Тогда Яшка быстро перешел, почти перебежал двор, насильно, взяв за плечи, развернул к себе жену, осмотрел ее с головы до ног. Осторожно вытер серую полосу грязи на щеке, сморщился, увидев красную царапину. Смущенно прошептал:
– Тебе очень больно? Да? Даша, лачинько…[24] Я же не хотел. Правда, не хотел.
Дашка молчала. Ее неподвижное, покрытое пылью лицо было повернуто к поднимающемуся солнцу.
– Дашка, ну что ты? – Яшка растерянно опустился на колени, прижался к животу жены, где шевелилось маленькое, крохотное, уже живое. – Ну, что ты… Я не хотел… Не молчи, а? Прости меня… Ну, что мне сделать, Даша?
Она молчала. Молчала, не отстраняя его, и Яшка испугался по-настоящему.
– Дашка! Не молчи! Ради бога, не молчи, не надо так! Я… я не знаю, что сделаю, если ты молчать будешь! Вот… вот убью, если не простишь!
Рука жены вдруг легла на его плечо. Яшка облегченно вздохнул.
– Не сердишься? Нет? – Он взял руку Дашки, виновато уткнулся в нее лицом. – Ну, скажи ты хоть слово… Дашка!
– Я вижу, Яша, – тихо сказала она.
– Что ты там видишь? – машинально спросил он.
– Солнце.
– Какое еще, к черту… Чего?! – Яшка вскочил на ноги, тревожно, недоверчиво всмотрелся в лицо жены. – Дашка! Лачинько! Повтори!
– Я вижу солнце, – ровно повторила Дашка.
Яшка взял в дрожащие ладони ее освещенное розовым светом лицо. На него смотрели мокрые, черные, широко открытые глаза. Чистые, чуть раскосые глаза с голубым белком.
– Говори, Дашка! Говори! Что еще видишь?
– Тебя вижу, Яшенька… – Подбородок Дашки вдруг задрожал. – Мо-о-ре… Дэвлалэ, Цинку вижу! Доченька! Маленькая! Ой-й-й…
– Господи! – Яшка снова упал на колени. Ударил кулаками по земле, и над едва проснувшимся поселком взлетел его громкий, гортанный, полный отчаянной радости крик.
* * *
Илья запил так, как и боялся: вмертвую, без просыху.
В Одессе, на дальней окраине, выходящей в пересохшую желтую степь, торчало, как нарост на раковине-мидии, бесформенное строение – кабачок «Калараш». Место это было опасное. В полутемном сыром зале с низким потолком всегда толклись бродяги, портовые босяки, конокрады, воры и нищие, проститутки всех мастей и возрастов. Из кладовой «Калараша» был прямой ход в катакомбы, и в случае облавы все гости кабачка скопом бросались к подвальной двери и исчезали, как тени. Но облавы здесь бывали редко: народ, посещавший «Калараш», был отчаянным, терять ему было нечего, и несколько раз отсюда выносили полицейских и солдат с проломленными головами. Закрывали «Калараш» бесчисленное множество раз, но хозяйка – громадная, рыхлая, страдающая водянкой Феська – имела, по слухам, связи в самом полицейском управлении, и сомнительное заведение возрождалось, как грязный Феникс, снова и снова.
Илью репутация кабака беспокоила мало. Он пришел сюда уже сильно пьяным, подойдя к стойке, вывернул карманы, высыпал перед Феськой скомканные ассигнации и мелочь, объявил: «Пью на все» – и, шатаясь, направился к свободному бочонку-столу. Феська сгребла деньги под стойку, невозмутимо поправила повязку на лице, скрывающую последствия ошибок молодости, и, пыхтя, сняла с полки огромную бутыль, оплетенную красноталом.
Довольно быстро Илья перестал различать дни и ночи. Просыпаясь раз за разом в кабаке, он поднимал голову с осклизлого бочонка, осматривался, видел перед собой бутыль и зеленый стакан с толстым дном, пил вино, пытался сообразить, почему он здесь и что стряслось, но вспомнить уже не мог и снова ронял голову на кулаки или растягивался прямо на полу рядом с бочонком. Через несколько дней посетители «Калараша» уже привыкли к взлохмаченной, сгорбленной фигуре цыгана, спящего в обнимку с бутылью или сосредоточенно тянущего прямо из нее вино. Цыган не буянил, хотя пил уже давно, изредка ворчал на своем языке, иногда поминал по матери какого-то Ваську, произносил женские имена, всякий раз – разные, сбрасывал с бочонка пустую бутыль и, в ожидании, пока Феська принесет другую, засыпал.
– И, хосподи, шо ж это с человеком? – дивились жалостливые проститутки, перешагивая через спящего на полу Илью. – Скока ж он еше так-то намеряется?
– Жена ушла, дело известное, – поясняла всеведущая Феська, вытирая серо-желто-зеленым краем фартука бочонок, выдергивая из рук Ильи пустую бутыль и заботливо ставя перед ним новую. – Ох, будь оно неладно, наше бабье племя… Одно гадство с него.
На девятый день, вечером, когда пыльные оконца кабака светились рыжим закатным светом, в «Калараш» вошла Роза Чачанка. В своей потрепанной синей юбке и выгоревшей оранжевой кофте, босая, она тем не менее казалась одетой лучше всех в кабаке, и на нее тут же обратили внимание. Компания портовых грузчиков в углу рассыпалась громким гоготом, перед Розой тут же завертелся маленький, черный, раскосый, неопределенной национальности босяк в рваной тельняшке и сбитой на затылок женской шляпке, заржал, сально оскалился:
– Гы, кака баришня! По-деловому нябось гуляете?
Роза молча ткнула раскрытой ладонью в лицо неожиданного ухажера, и тот завалился под ноги вышедшей из-за стойки Феське.
– Будь здорова, Федосья Илларионовна, – устало поздоровалась Роза. Дождавшись величественного ответного кивка, ткнула пальцем в дальний угол кабака, где, лежа головой на бочонке, храпел Илья. – Я вот за этим.
– Хрен подымешь, – уверенно заявила Феська, вытаскивая папиросу и прикуривая у угодливо шагнувшего к ней со спичкой оборванца. – Он, голуба, вже второй день, как вещество, лежит.
Роза нахмурилась. Перешагнув через барахтающегося на полу босяка в дамской шляпке, быстро зашагала к дальнему бочонку, затормошила Илью:
– Эй! Морэ! Илья! Слышишь меня?
Он поднял голову. С трудом разлепил набухшие веки. Мутными глазами взглянул, не узнавая, на Розу и снова повалился головой на стол.
– Илья, пойдем! – сердито сказала она. – Хватит с тебя, прошу, пойдем. Вставай, черт!
Илья не шевелился. За столами-бочонками вновь раздался смех; самые любопытные стали подходить ближе. Резко повернувшись на какую-то скабрезность, Роза схватила со стола бутыль и запустила ею в говорившего:
– Да чтоб у вас кишки из зада повылазили! Воши портяночные!
Бутыль просвистела над головами босяков, разбилась о стойку, и выскочившая из-за нее Феська так рявкнула на своих гостей, что в кабаке разом стало тихо: хозяйки побаивались. А Роза уже снова трясла Илью:
– Пойдем! Ну, пойдем! Хватит, дурья твоя башка, ведь подохнешь! Вставай, да ходу отсюда!
Вцепившись в рубаху Ильи, она с силой потянула его на себя, и он, ворча и шатаясь, начал подниматься. Роза поддержала его, повлекла за собой. Посетители «Калараша» проводили цыган озадаченными взглядами. Феська деловито поправила повязку на лице и принялась сгребать веником осколки бутыли. Последний закатный луч блеснул на разбитом окне и погас.
Похмелье было жесточайшим. Больше всего на свете Илье хотелось, чтобы у него вовсе не было головы и нечему бы было гудеть, трещать и разламываться на части. Тошнило так, что, казалось, вот-вот вывернет наизнанку, в горле стоял кислый ком, все тело ломило, как после хорошей драки. Временами откуда-то всплывал мокрый ковш с кислыми щами, на лоб шлепалась холодная тряпка, чей-то голос успокаивающе ворчал, чьи-то руки придерживали его над ведром, чьи – Илья не мог разглядеть. Несколько раз он путем колоссальных усилий задавал какой-нибудь связный вопрос, но сверху падало короткое: «Заткнись», – и Илья подчинялся. Эта жуть продолжалась целую ночь и целый день. На вторую ночь он заснул мертвым сном.
По вытертому красному одеялу скакали солнечные пятна. Илья с трудом приподнял голову с подушки, осмотрелся. Удивленно подумал, что находится никак не в кабаке Феськи, где уже привык просыпаться. Впрочем, все казалось знакомым – и лошадиная шкура на стене, и вытертый до самой основы ковер на полу, и глиняные стены, и помидоры, дозревающие на подоконнике, и пестрая вылинявшая занавеска, откинутая на гвоздь, и обшитый лентами бубен, лежащий на грубом нескобленом столе… Протерев кулаком глаза, Илья приподнялся на локте, обернулся – и остатки сна как рукой сняло. За его спиной, на постели, в рубашке, с распущенными волосами, обхватив руками колени, сидела и смотрела на него Роза Чачанка.
– Очухался? – спокойно спросила она. – Голова как?
– Слава богу… – машинально ответил Илья. – Роза, а… А я здесь откуда?
Роза фыркнула:
– Да уж, знамо дело, не сам пришел.
– А как же?..
– Балда.
Она отвернулась. Установив среди помидоров на подоконнике осколок зеркала, принялась с руганью дергать гребнем недлинные курчавые волосы. Илья отвалился на подушку, лихорадочно соображая: для чего ей это понадобилось? С какой стати? И сидит, чертовка, мучает свои космы, вместо того чтобы поиметь совесть и объяснить ему хоть что-нибудь… Скосив глаза, он увидел, что Роза, прихватывая волосы красным платком, с усмешкой разглядывает его.
– Не думай много, морэ, голова расколется! Ну, да, да, это я тебя из «Калараша» уволокла и к себе доставила.
– Зачем?!
– Захотелось так, – пожала она плечами.
Илья упрямо мотнул головой:
– Объясни толком!
– Да пошел ты, ласковый! – неожиданно огрызнулась Роза, уронив зеркало на постель. – Ты кто такой, чтобы я тебе объясняла, да еще и толком?! Отвяжись! Сделала – и сделала!
Илья помрачнел. Не глядя больше на сердитую Чачанку, сдернул со спинки кровати свои штаны.
– Ты чего это? – удивилась Роза.
– Пойду я, вот что.
– Куда это ты пойдешь? – спросила она, и Илья, уже привставший было, опустился обратно.
Наступила тишина. Илья смотрел, не моргая, в испещренную трещинками стену, и в голове у него медленно, словно вареники в кипятке, всплывали воспоминания о том, что случилось до запоя. Настя, поющая с освещенной эстрады, ее полные слез глаза, испуганное и растерянное лицо… Князь… Варька, запыхавшаяся после бега, с ненавистью кричащая ему в лицо: «Прокляну, я прокляну тебя!» Маргитка… Вот оно, главное, самое главное, – ушла Маргитка! Илья зажмурился. С тоской подумал: и на что, старый валенок, надеялся в свои сорок с копейкой? Что она до гроба эти твои выкрутасы терпеть будет? Ушла и унесла еще не родившегося ребенка, ушла… потому что к этому все и катилось с самого начала. Ведь она так и не простила его. Не простила за тот серый дождливый день в Москве, когда он, Илья, отказался от нее, когда сказал: «Уезжай со своим Паровозом»… А она тогда ждала от него совсем других слов. Не забыла. И не смогла простить. Потому и выставляла себя шлюхой перед цыганами, вертела подолом перед первым встречным… И, может быть, утешалась немного, глядя на то, как он, Илья, лезет на стену от этого. И не боялась его даже тогда, когда он ее бил, и смеялась ему в лицо. Пять лет изводили друг друга – зачем? Ну ладно Маргитка – девчонка, глупая, злая на весь мир, но он-то, он – старый мужик, у которого мозгов-то поболе должно было оказаться? Зачем он это делал? А затем, что идти было больше некуда. Вот и все. Что толку самому себе врать?
Может, и слава богу, что ушла, с неожиданной злостью подумал он. Пусть теперь у Васьки голова болит, пусть он думает, как ему жить с этим бесом в юбке. А ему, Илье Смоляко, нужно как-то со своей жизнью разбираться. Права Чачанка, домой теперь ходу нет. Ну, Яшка, ну, сосунок паршивый… Пять лет молчал, даже слова поперек никогда не вставлял, а вон как прорвало! Не выскочи Дашка, не сдерни она платок – поубивали бы они с ним друг друга к чертовой матери… Умница, девочка, всегда знала, что делать нужно, уберегла от смертного греха. Нет, домой он не пойдет. Надо забрать лошадей и откочевывать отсюда. Куда угодно, в Бессарабию или Галицию, в Карпаты, на Тиссу. И так уж засиделся на одном месте. Только бы вот с Дашкой увидеться напоследок, не сможет он так уехать, дочь все-таки…
Неожиданно Илья почувствовал осторожное прикосновение. Вздрогнув, обернулся. Роза, о которой он совсем забыл, заговорила:
– Илья, послушай меня. Ты ведь не знаешь, что в твоем доме случилось…
– Что, господи, еще?! – испугался он.
Роза улыбнулась, но взгляд ее был почему-то грустным.
– Чудо случилось. Твоя Дашка видеть стала.
– Видеть?!! – Илья вскочил, забыв о том, что штаны он так и не надел. – Роза! Да ты… Да ты правду говоришь?! Брешешь если – убью!
– Истинный крест! – перекрестилась она. – Яшка от радости на весь поселок глотку драл. Мы сбежались, думали – стряслось что. Видит Дашка – и все! Плачет, детей целует, всех нас по именам вспоминает… Клянусь, никогда в жизни такого не видала!
– Роза! – Илья глубоко вздохнул… и забыл выдохнуть. Все несчастья: ссора с Варькой, замужество Насти, уход Маргитки – все вдруг уменьшилось, показалось пустым и нестоящим по сравнению с этой небывалой радостью – солнцем для Дашки! Ох, чайори… Ох, доченька… Да, есть бог! Есть! И не совсем еще он махнул рукой на Илью Смоляко и его семью! Вот теперь только взглянуть на это чудо своими глазами, увидеть, поверить, обнять дочь… Илья поспешно натянул штаны, схватил рубаху, бросил через плечо Чачанке:
– Я – домой, как хочешь!
– Не надо, Илья, – тихо, почти шепотом попросила Роза. Улыбки уже не было на ее лице. – Они… Они уехали.
– Уехали?.. – непонимающе переспросил он.
– Да. – Роза отвернулась. – Ты не думай, Дашка не хотела. Яшка так велел. В тот же день собрались, детей в бричку покидали и уехали. Яшка сказал – в Москву, к своей родне. Дэвлалэ, ты бы слышал, как твоя дочь плакала! Просто смертным воем выла, в ворота вцепившись! А что ей было делать? Муж приказал, надо. Но я, Илья, точно знаю – не хотела она.
Илья выпустил из рук рубаху. Неловко сел на пол у кровати, опустил голову. Застыл. В наступившей тишине отчетливо затикали ходики.
Через десять минут озадаченная Роза пошевелила пальцами босой ноги. Илья не повернул головы.
– Морэ… – шепотом окликнула она, наклоняясь к нему.
Ответа не было. Чуть погодя Илья что-то хрипло выговорил.
– Чего? – не расслышала Роза.
– Спрашиваю – кони мои, что ли… голодные… в конюшне?
– Нет, что ты! Я ходила туда, кормила, вываживала. Целы твои кони, не бойся.
– А… спасибо.
Он снова умолк. Роза, подумав, придвинулась ближе. Подождала еще немного, но Илья больше ничего не говорил. Тогда она протянула руку, коснулась его плеча – и отдернула пальцы, как обожженные.
– Э, да ты… – вскочив, Роза села на пол рядом с Ильей, заглянула ему в лицо. Покачала головой: – У-у-у… Да ладно, морэ, не дергайся. Чего я там, думаешь, не видела? Все мы, люди, из одной грязи замешаны… – Подняв с пола брошенную рубаху Ильи, она бережно, как ребенку, вытерла ему глаза. Задумчиво сказала, глядя в сторону: – Ну, морэ, ну… Ничего, уладится как-нибудь.
– Пошла прочь, – не поднимая головы, сказал Илья. – Я ухожу.
– Уйти всегда успеешь. Не спеши. Может, расскажешь мне?..
– Что? – не понимая, переспросил он. Роза не ответила, но Илья вдруг догадался сам. И пробормотал: – Вот шалава… Ты там, в парке… когда мы на дереве сидели…
– Ага, – с полуслова поняла Роза. – Ты извини, но я все тогда видела. Я видела, как ты ее, эту Настю, слушал. И как пел вместе с ней. И как смотрел на нее. И потом пошла за тобой… Кто она, эта Варька? Твоя сестра? За что она с тобой так?
– Тебе что? Оставила б ты меня в покое…
– Еще чего захотел! – Ничуть не обидевшись, Роза ласково похлопала его по спине. – Ну, давай, давай, Илья, расскажи. Все сначала расскажи. Хочешь – поплачь, все легче будет. Никто не узнает. И кого тебе бояться? Вот – я, вот – стены, чужих ушей нет.
Она была права. И плохо в самом деле было так, что Илья понял – уйти он все равно не сможет. Какое там уйти, если встать на ноги – и то невмочь?.. И куда идти по поселку с такой рожей, что подумают люди? А Роза, как назло, погладила его по волосам, придвинулась ближе, обняла за плечи горячей рукой, и Илья опустил голову к самым коленям.
– Черт с тобой… слушай…
Солнечные пятна на стенах вытянулись, стали багровыми, когда Илья замолчал. Сидящая рядом Роза тоже ничего не говорила, и в душе Илья даже сомневался – поверила ли она ему. Он рассказал, как она и просила, все сначала, с того сентябрьского дня, когда они с Варькой впервые появились в московском хоре. С того дня, когда он увидел Настю – тоненькую девочку в белом платье. Рассказал, сам не зная зачем. Даже с Варькой у него не было таких разговоров, а тут – чужая баба, не полюбовница даже… Что она теперь думает о нем? Сильно, до тошноты, болела голова, глаза жгло от высохших слез, но Илье даже стыдно за все это не было. Душу словно вывернули и вытряхнули, как старый мешок, не оставив в ней ничего. Скажи Роза сейчас: «Пошел вон», – и Илья без слов встал бы и ушел не обернувшись.
– Ну, слава богу, – вздохнув, сказала Роза. – Все?
– Да зачем тебе это надо? – запоздало спросил Илья.
Вместо ответа Роза встала с пола, сдернула с печи свою синюю юбку и рыжую кофту и принялась одеваться прямо при нем. Застегивая на груди пуговицы, она будничным тоном спросила:
– Есть хочешь?
«Ну, что с ней говорить?» – вздохнул Илья.
– Хочу.
Роза вышла из комнаты. Вскоре на столе в углу появились хлеб, помидоры, сваренная в шкурке картошка, кусок сала, копченая макрель, виноград и соленый арбуз. Вина Роза не принесла, а Илья и не вспомнил о нем. От голода сводило скулы, и он принялся за еду, так и не одевшись до конца. Роза сидела напротив, неторопливо ела свой любимый арбуз с хлебом. Глядя на Илью, молча улыбалась. Когда на столе остались лишь хвостики от помидоров, рыбий скелет и гора картофельных шкурок, она высунула кончик языка и покачала головой. Илья смущенно посмотрел на нее.
– Обожрал вас с Митькой, что ли? Не думай, у меня деньги есть, я…
– О, Митька! Легок на помине! – Роза вдруг выскочила из-за стола. В ту же минуту в комнату вошел Митька и встал у порога, расставив длинные ноги.
– Доброго вечера! – ломающимся баском поздоровался он. Рваная тельняшка сползла с его плеча к самому локтю, курчавые свалявшиеся волосы были покрыты серым налетом морской соли, босые ноги по щиколотку были измазаны пылью, а к животу Митька прижимал большую, еще живую рыбу. О своей встрече с тринадцатилетним сыном Розы Илья еще не успел подумать и от растерянности даже не ответил на приветствие. Но Митька лишь мельком скользнул по нему сощуренными глазами и уставился на мать.
– Где скумбрию взял? – строго спросила Роза. – Украл? А что я тебе обещала за такие дела?
Митька молча метнулся обратно за порог.
– Стой, нечисть! Куда с рыбой?! – бросилась за ним Роза. – Куда ее теперь девать? Кинь ее в ведро под лавкой, что ли, завтра сварим… Да у кого прихватил?
Смеющаяся Митькина физиономия снова появилась в дверном проеме.
– У Янкеля!
– Ну и правильно, – поразмыслив, заявила Роза. – Не люблю его, христопродавца. Всегда хоть на копейку да обвесит… Все, сгинь с глаз, пока я ремень не нашла! Есть захочешь – приходи!
Митька исчез. Некоторое время было слышно, как он гремит в сенях ведром, пристраивая скумбрию, но вскоре и эти звуки стихли.
– Не боишься? – поинтересовался Илья.
Роза непонимающе подняла глаза от арбуза.
– Это чего?
– Того, что он про нас с тобой подумает.
Роза пожала плечами. Фыркнула. После недолгого раздумья мотнула головой.
– Не боюсь. Не его дело думать, с кем тетка гуляет.
– Тетка?! – изумленно переспросил Илья.
Роза быстро взглянула на него. Отложила арбузную дольку. Присела на постель, зачем-то взяв в руки крынку с кислым молоком. Натирая крынку полотенцем, устало сказала:
– Ай, Илья… Не смотри на меня так. Под каждой крышей свои мыши. У меня тоже своя сказка была…
Она оборвала себя на полуслове и уже молча продолжала наводить блеск на глиняный бок крынки. Илья через стол встревоженно смотрел на посерьезневшее, сразу ставшее незнакомым лицо Чачанки. В самом деле… что он про нее знает? И другие ничего не знают, даже бабы – и те не допытались… Илья встал, подошел к постели. Настойчиво вытянул из рук Розы полотенце, взял у нее крынку, поставил на стол.
– Расскажи. – Роза не повернула к нему головы, и Илья, помедлив, напомнил: – Я ведь от тебя не стал скрываться.
– Верно, – без улыбки согласилась она.
– Ты крымка?[25]
– Нет… Как ты, русская цыганка. Розой меня звали, когда я в Тифлисе в цирке работала. «Роза Чачани» – так на афишах для красоты писали. А в девках Танькой была. Прохарэнгири… Слыхал, может? Наш род большой был, известный, отца вся Сибирь знала. А мать была из псковских. Красавица, даже сейчас, верно, красавица! Я ее, правда, лет пятнадцать не видала… Все мы, дети, говорят, в нее пошли. Четырнадцать человек нас было, и все девки. Я да сестра Симка двойней родились, а остальные – друг за дружкой, мал-мала меньше. При отце-то мы хорошо жили, богато. Отец лошадей менял, продавал, худоконок по деревням скупал и потом в кочевье откармливал. Хороший барыш имел! Мы с матерью по базарам да ярмаркам гадали… Только я больше за отцом таскалась. Он лошадник был знатный, для смеха и меня учил – чем лошадь болеет, как по шкуре возраст узнавать, как цыгане жулят, чтобы дороже продать… А я слушаю да на ус мотаю! Мне пять лет было, а я уже любую лошадь насквозь видела со всеми потрохами и цену ей знала! Мать, конечно, ругалась, не занятие это для цыганки, мол…
– Вот еще! – заспорил Илья. – У меня Дашка такая же была! Отчего не учить девчонку, вреда-то не будет…