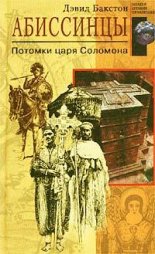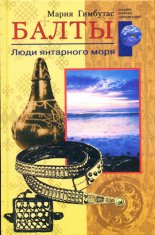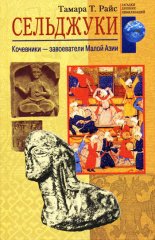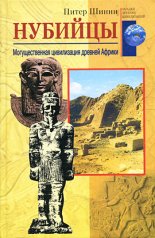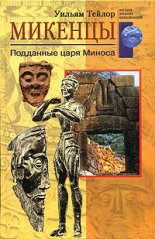Скажи изюм Аксенов Василий

Эпиграф
I
«После кино из всех искусств для нас главнейшим является фотография!» (В.Ленин или И.Сталин)
Когда и кем из двух возможных авторов изречена цитата, доподлинно не известно.
В наши дни знаменитый советский фотограф «новой волны» Максим Петрович Огородников, подвыпив в одном парижском частном клубе, внес и свою лепту в науку фотоведения. Вот го, что удалось собрать из его идей: фотография – это связь видимой реальности с астралом. Тайна эмульсии непостижима. Суть фотопроцесса скрыта в перемещении космических и астральных сил. Нам надо лишь по-детски радоваться этой, одной из малых тайн, приоткрытых нам Высшей Милостью, благоговейно предполагать за этой малой сонм великих, а мы объясняем фотографию какой-то механической дурью.
Давайте, господа, говорить об этом, как дети. Я люблю, господа, все, что связано с фотографией, – камеру, сумку, наплечный ремень. Обвешанный аппаратурой, я кажусь себе странствующим рыцарем.
- Люблю, внезапно отрезвев,
- увидеть Аттику, Элладу,
- где, словно туча, дымный Зевс
- обозревает эспланаду.
- Люблю предмета смысл и звук
- в его осмысленном звучанье,
- пусть непригляден, как паук,
- пусть непристоен, как овчарня.
- Люблю всемирный кавардак
- обозревать, прикрывшись тогой,
- и в той же тоге, натощак
- в России, красной и убогой,
- вести застольный разговор
- с партийным шишкой, местным вором,
- и в щи бросать табачный сор,
- и вора покрывать позором.
- Люблю в Москве поднять самум,
- друзьям устроить перекличку…
- Say cheese, my friends! Скажи изюм!
- Вниманье, вылетает птичка!
- Я грешен, братцы, признаюсь
- И опускаюсь на колени:
- бывают дни – я, пьяный гусь,
- девиц без устали и лени
- ищу, но сквозь похмельный квас
- вдруг вижу все по старой моде -
- две пары лыж, жену, Кавказ
- и месяц ранний на восходе.
- Мучительна ничтожеств фальшь,
- но видит все незримый зритель,
- когда нечистый палец ваш
- тайком тревожит проявитель.
- Я выхожу. Мой Хассельблад
- плечо мне тянет. Ночь в округе
- Направо ль Рай? Налево ль Ад?
- Куда летим в московской вьюге?
- Но щелкает мой автомат…
- Лицо космической подруги
- освещено. Сто тысяч ватт.
- Из темноты летят пичуги.
- Широкофокусный охват.
- Валъсок, тангошка, буги-вуги…
- И стар, и млад, и леопард
- на нашей крохотной фелюге,
- плывущей в некий фотосад…
Вот почему, собственно говоря, милостивые государыни и милостивые государи, я так интенсивно всю жизнь увлекаюсь фотографией.
Однако как все началось в плане развития не пьяных откровений, а социалистического фотореализма? Как возникла могучая отрасль искусства, перед которой нынче даже советская ли-тература, такой незаменимый подручный партии, бледнеет?
II
Существует в своде народной мудрости наших дней еще одно изречение, относящееся к фотографии. ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ – так гласит это изречение, которое приписывают то ли Ленину опять же, то ли Сталину, то ли всему советскому народу. Эта мудрость почему-то не выносится на плакаты и транспаранты, однако в Союзе советских фотографов она известна всем. Особый идейный смысл фразы предусматривает широкие теоретические толкования, однако и практического употребления цитатка не избежала, в частности, для борьбы с пьянством в ресторане «Росфото».
Арифметически средний член СФ СССР за один присест в этом знаменитом ресторане употребляет не менее полукилограмма водочного изделия. Остерегись, Коля, говорит ему метрдотель Андрианыч. Желудки ведь у людей бывают разные. Знаю, рявкает в ответ арифметически средний. Наливай!
Ресторан этот, как ни странно, и до большевистской революции назывался точно так же, ибо в этом здании помещалась мелкобуржуазная организация фотографов, пытавшаяся насадить в российской фотографии нравы махрового объективизма. Не переименовали ресторан по чистому недоразумению. Большевики любую аббревиатуру полагали собственным изобретением, ну а народ российский все старое очень быстро позабыл, все вокруг связал со своей единственно возможной властью. Кому, например, в голову придет полюбопытствовать происхождение славных буденновских войлочных шлемов с шишаками, их длиннейших шинелей с бранденбурами, петлицами и геометрическими фигурками знаков отличия? Подразумевается как бы, что сам Семен Михайлович на пару с Климентом Ефремовичем разработали этот изысканный дизайн, от которого за версту несет «Миром искусства» и ранним модерном со скифскими инспирациями. Полностью забыто, что разработано это было художником Васнецовым в 1916 году, что новая форма была заготовлена еще при старом режиме и большевикам только и оставалось, что вскрыть московский Арсенал, нашить под шишаки свои звезды и мчаться в атаку на Варшаву.
Даже и в наши дни современный совчеловек окружен знаками старой России, о которых и не догадывается. Особенно много этих знаков в так называемом «ширпотребе». По сути дела, большинство предметов для мелкой частной жизни остались нам от «помещиков и купцов». Ну вот, пол-литровая бутылка, например, или коробок спичек, к слову сказать, конфеты «Мишка на Севере», мыло «Кармен», банка шпротов, одеколон «Шипр» – все дизайны разработаны до, а то, что после появилось, вроде электробритвы, то просто-напросто просочилось с Запада. Совдеп за все свои годы не изобрел ничего для мелкой пользы граждан, только лишь кое-что для исторических целей – стреляющие устройства, вроде «катюш».
Такие мелочи приходят в голову, когда сидишь в историческом краснодревесном зале ресторана «Росфото». Пятьдесят лет уже здесь помещается «боевой штаб советского фотоискусства», вот именно полтинник как раз и прохилял с той поры, когда знаменитый русский фотограф Аркадий Грустный весь в слезах и соплях вернулся из эмиграции и сдал в ГПУ свой «кодак». Примите, примите мое раскаяние, строители нового мира! Да, я снимал Государя и Сашу Керенского, да, я сфотографировал крейсер «Аврора» в самый неподходящий для того момент… Каюсь… Смотрите, Аркадий Грустный на коленях! Товарищи, распространим принципы социалистического реализма на отечественную фотографию!
В ГПУ, по слухам, скривились: тоже, мол, нашелся новый Максим Горький! Остудили несколько пыл неофита. Вы нам не Горький, товарищ Грустный, фотографы – не чета писателям. Писателей покрываем соцреализмом, чтобы не умничали, а с вами, фотарями, разговор будет попроще. Без всякого соцреализма будете отражать нашу новь, фиксировать наше счастье молодое, куда пошлем, туда и поедете!
И вот, по слухам, взбунтовался недобиток. Не согласен, заявил Аркадий Грустный. При всей моей любви к внутренним «железам» пролетарской диктатуры не согласен, товарищи! Не может партия обойти своим вниманием фотографию!
Вся эта история, повторяем, передается по слухам, по шепоткам, по разговорчикам и намекам. Архивы ЧКГПУ-НКВДМГБКГБ закрыты навеки не только для скромных сочинителей, но и для мудрых историков, но и для всей человеческой цивилизации, но и для всех, конечно, внеземных цивилизаций. Что ж, за неимением доступа к священным архивам пролетариата будем жадно пользоваться молвой.
Бывший белогвардеец, а впоследствии почетный комсомолец Донбасса развил бешеную энергию, замелькал по Москве и вдруг выскочил возле Никитских ворот с лозунгом в зубах: «После кино из всех искусств для нас важнейшим является фотография. Ульянов (Ленин), Сталин (Джугашвили)». Здесь, в особняке, украденном у господина Рябушинского, проживал вождь пролетарского искусства.
Якобы вбежав на правах еще эмигрантской дружбы, якобы влетев с трепещущим лозунгом в одной руке и с фотоаппаратом в другой, Аркадий Грустный быстро раздвинул треногу, поставил свое орудие производства на автоматический спуск, быстро присел на валик кресла, щека к щеке с классиком, и жарко зашептал, волнуя легендарный моржовый ус: «Же вудрэ вотр па-сьон, Алексис! Умоляю, скажи изюм! Сейчас вылетит птичка!»
Пробил твердыню непонимания! Через неделю в боевом органе – газете «Честное слово» появился снимок двух гигантов Советской России, сидящих в кресле господина Рябушинского под основополагающим лозунгом корифеев человечества. Здесь же печаталось постановление ЦК ВКП и маленькое «б» о роспуске фотогруппы «Фокус», где под внешне безобидным покровом свил себе гнездо буржуазный объективизм. Учреждался Союз советских фотографов, верных идеям социалистического реализма.
Большие дела стали разворачиваться в здании Росфото на Миусской площади: съезды, конференции, смычки, подписания шефских договоров, недели дружбы, декады сотрудничества, пленумы по идеологическим вопросам. Бюджет союза с каждым годом повышался, вместе с ним рос и авторитет основателя, который теперь подписывался на новый манер – Ким Веселый и в скобках б. Аркадий Грустный. Снимки его тех лет потеряли отчетливость, как будто камере передавалась какая-то странная нетвердость руки. Впрочем, критики объясняли эту нечеткость революционным волнением, этим необходимым компонентом соцреализма, а вовсе не злоупотреблением горячительных напитков.
Критика критикой, а к Киму Веселому уже торопился сподвижник, надежный дворянских кровей большевик Блужжаежжин, вез из Кремля царский подарок, дюжину вина «Киндзмареули». Согласно слухам, винцо было доставлено на Миусы одновременно со знаменитой коробкой шоколада в адрес особняка, сворованного у господина Рябушинского. Согласно опять же слухам (архив, по обыкновению, нем), Блужжаежжин сам благоговейно откупорил бутылку удивительного вина, похожего на историческую «мальвазию» горбатого британца, сам передал бокал учителю, сам и дал понять, что отказ от немедленного употребления будет дарителем истолкован не в пользу получателя. Для пущей убедительности Блужжаежжин и себе бухнул стакан. После распития получатель отправился в виде праха на вечный покой в крепостную стену, а посыльный стал генеральным секретарем Союза советских фотографов. Даритель же, узнав о случившемся, как раз и произнес идеологическую фразу, на долгие годы определившую развитие советского фотоискусства: ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!
III
Нет нужды сейчас последовательно рассказывать славную историю советского фотоискусства, она неотделима от героических свершений всего нашего народа, Партии и Государства; конечно, по ходу повествования придется нам иной раз делать нырки в историю, то в 1956-й, то в 1968-й, не раз придется нам упоминать и 1937-й и даже не всегда по общеизвестным причинам, а просто потому, что это год рождения нескольких наших героев, в том числе и упомянутого уже Максима Огородникова; однако не так уж важны для нас эти нырки, главная задача наша в соответствии с указаниями Партии – освещение и фотографирование героики наших дней.
Скажем все-таки, что заветы классика Кима Веселого, огромнейший портрет которого в сидячей позиции с откинутой фалдой доброго бельгийского сукна, с закинутой ногой, обутой в англо-башмак, с перекинутым через плечо франко-шарфом и с человечно поблескивающими стеклами восточно-швейцарских очков украшает обширный вестибюль цитадели на Миусах, который… где… по поводу чего… фраза безобразно затянулась, и с одной лишь целью – сказать, что заветы Аркадия Грустного не забыты. Партия даровала фотографии свое неусыпное внимание. Больше того, из состава своего «вооруженного отряда» выделила она к концу тридцатых годов особую группу авторитетных сотрудников, и группа сия, законспирированная самым надежным образом, в конце концов выросла в могущественное, хотя как бы и не существующее Государственное фотографическое управление идеологического контроля, замаскированного филиала четырехбуквенного номинала, известного среди благодарного народа под кличкой «внутренние железы». Учреждение это вывески не имело, хотя и обладало огромным штатом сотрудников и автопарком, которому бы позавидовало любое министерство, если бы располагало секретными данными о количестве машин ГФУ.
Если уж появляется в природе тайная полиция, жди – неизбежно возникнет и оппозиция. Жизнь показала непреложность этого закона. Так случилось и с советской фотографией. Не прошло и сорока лет деятельности ГФУ, а впоследствии ГФИ, или, как московские вольнодумцы окрестили ее, «фишки», как зародилось в творческой среде неуместное брожение умов, ненаправляемое перемещение тел, стали проникать в прежде здоровую среду тлетворные западные катализаторы, потом даже и свой отечественный мистицизм робко запузырился – все-таки недодавили! – и вот вдруг, уже в наши дни, вызывают на ковер заслуженного генерала Планщина Валерьяна Кузьмича и говорят ему в строгой, но товарищеской манере:
– Вот вы, Валерьян Кузьмич, все с фотографами Польской Народной Республики возитесь, гребена плать, а у вас под носом, в образцовом коммунистическом городе, тайная секция появилась «Новый фокус» с идеями махрового объективизма и ненаучного идеализма, мальчики альбомчик свой хитренький мастырят под названием «Скажи изюм!». Немедленно собирайте, Валерьян Кузьмич, оперативную группу, даже скорее сектор. Вот ваш бюджет – три миллиона. Для начала хватит?
Жилтоварищество
I
И задумался генерал Валерьян Кузьмич Планщин… Нет, не годится начинать нашу историю такого рода фразой: на кой нам черт вообще все эти генералы, все эти полицейские дела, неужто нельзя без них обойтись, начиная очередную российскую повесть, неужто нельзя, по крайней мере, до предела ужать «бойцов невидимого фронта»?…
Осень, микрорайон, крутится в сумерках некая некрасовская нота вроде «только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она». Нет, нет, народ еще жив, а значит, жива вместе с ним наша заунывная лирика. А вот и «несжатая полоска», или, если угодно, «стареющая новостройка». Гордо задуманный когда-то пятый корпус кооператива «Советский кадр», так и не превратившийся за шесть лет в жилое помещение. Бывают такие незадачливые новостройки в Москве: годы проходят, а стены до запланированной высоты не поднимаются, или крыши не наводятся, или стекла не вставляются, грязи нет конца. Иной раз вдруг начинает ворочаться забытый и проржавевший кран, появляются на вершине две-три ленивые фигуры, хулиганским разворотом закатит на площадку демон грязи – самосвал, свалит кирпича новую горку, сорок восемь процентов брака, и снова на многие месяцы все замирает и новостройка хиреет, стареет, грустные думы, конечно, наводит она.
Мимо, над грязью, по настланным вроде бы уже навеки доскам и штукам бетона тянутся тысячи от станции метро «Аэродинамическая» до Космического проспекта, вдоль которого выстроились более удачливые сестры нашей печальной новостройки, превратившиеся в жилища и давшие неплохой приют вот этим продвигающимся в сумерках тысячам. Обезображенный шесть лет назад переулок живет своей хлопотливой обезображенной жизнью. Федюня, шофер-блатяга из магазина «Диета», разгружает свои блатные заказы. Задом к подъезду «Рос-потребкоопа» подает председательская «Волга». Частники перетаскивают с «Жигулей» на «Жигули» свинцовые аккумуляторы: зрелище довольно смешное, вес предмета не соответствует его объему, не соответствует ему и напряженный изгиб спины. Из заднего двора с тылов овощного магазина быстро вырастает очередь – подвезли бананы.
Никто вроде и не заметил, как вышел из подъезда номер 3 четвертого корпуса кооператива «Советский кадр» молодой рыжий. Только у забора новостройки в рафике «скорой помощи» что-то внутри мелькнуло.
Молодой рыжий с окладистой бородою был не кто иной, как тридцатилетний член Союза советских фотографов Алексей Охотников. Давайте сразу договоримся не путать его с сорокатрехлетним членом того же союза Максимом Огородниковым. Предки первого, очевидно, охотились, снабжали свое племя дичью, предки же второго, по всей вероятности, принесли в славянские шатры первую репу. Произнося имя Охотникова, не скупитесь на «о», в этом случае и Алеша превращается в Олешу, Олексея, потому что явился парень в столицу из поморов, архангельский такой перед нами крепыш. Что касается исконного московского продукта Максима Петровича, то тут жмите на «а», не ошибетесь, произнося Агародников с торопливым заглатыванием окончания.
Итак, Охотников вышел на крыльцо номер 3 и забросил за спину длинный конец шарфа. Четвертый корпус кооператива был, собственно говоря, местом его незаконного проживания. Больше года уже он обитал в маленькой двухкомнатной квартире фотографа Пивоварова (происхождение фамилии, очевидно, не нуждается в объяснениях), который уехал на месяц в гости к своей жене Ингрид, западногерманской подданной, и до сих пор почему-то не вернулся.
Длинная кожанка, шарф через плечо, огненная бородища, поморский сын был издали похож на не очень-то советского субъекта. А ведь когда впервые появился в «Росфото», черносотенцы, разные там Фряскины, Чебрекины, Шелептины, пришли в восторг – наш, наш! Нашего полку прибыло, придется жидам потесниться перед глубинным русским гением. Невдомек было мужепесам, что Олёха Охотников причислял себя к европейскому отряду русской нации, который еще до постройки Петербурга вывозил дровишки на Запад. Не знало злое мужичье, что юность Олехина прошла в тени статуи в ботфортах и треуголке, в некотором даже общении с международной матросней, откуда и добыт был, между прочим, за пару бутылок водки уже названный выше кожаный реглан.
Впрочем, скоро стали замечать так называемые «русситы», что сидит их любимый богатырь в ресторане «не с теми», говорит «что-то такое не то», а главное, снимочки тискает в журнальчиках «не те», не дышит в них душа народная, а по нетрезвому делу даже еще и разглагольствует Охотников о Туринской плащанице как о матери всемирной космической фотографии, то есть в полном разрезе с корневым материализмом. Вдруг оказалось, что «не наш, не наш» молодчик, то ли обманутый Сионом, то ли и сам не чистой воды, с подозрительной библейской курчавостью.
Ослы, говорил Охотников, крутя свои архангельские круги, как бы звеня ими по северодвинскому льду, ослы, вот ослы-то остолопские. Они думали, что я – пень таежный, а меня еще в 16 лет в гэфэушку тягали за наш журнальчик школьный под названием «Ракурс Праги». Они думают, что я на их классика Фолохова молюсь да на Фаньдюка, а ведь мы в Архангельске на Алексе Спендере росли, на Жильберте Фамю, на нашем собственном, можно сказать, авангарде – Древесный, Герман, Огородников… Разве этим ослам понять, что такое наш северный город, куда еще в XV веке европейские послы плыли? Помню, я мальчиком еще был, а мне тетя пальцем показала на двух мужиков в мичманках – это, Леша, идут Юрий Казаков и Виктор Конецкий, два замечательных русских писателя. Я их тогда тайно сфотографировал из-за коленки Петра Первого. Горжусь этой работой до сих пор, человеки! Город наш – город Архангелов, сродни калифорнийскому городу Ангелов, только старее и загадочней…
Итак, этот увалень Охотников вышел на крыльцо и увидел у забора новостройки «скорую помощь». Вот сейчас самое время бодро слинять, подумал он. Вот за крыльцом редакции журнала «Советская выдержка» приткнулся мой «Запорожец». Я иду к нему и, если он заводится, задом выезжаю на проезжую часть. Там шпарят один за другим самосвалы. Все заливается грязью. «Они» выруливают за мной. В это время встречный самосвал левой задней в лужу – жуяк! – ветровое стекло у тихарей в желтой грязи, и – напареули по гудям! Пока они включают дворники, я виляю налево и растворяюсь в сумерках. Тем временем в квартиру приходит Пробкин и принимает датчан, а я успеваю еще заехать за пленкой к Цукеру Сделаны два полезных дела.
Так рассчитывал Охотников, стоя на пороге кооперативного дома, где в незаконно занятой пивоваровской квартире вот уже два месяца как подготавливалась «бомба» – издание неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм!». Чуть ли не каждый вечер собиралась здесь гоп-компания фотографов, дерзостно решившихся прорваться на волю из идеологической зоны. В шутку себя называли «Новым фокусом». У шутки был нехороший душок, ибо старым-то «Фокусом», напомним, называлась мелкобуржуазная, разогнанная Кимом Веселым организация бескрылых объективистов. Шутка усугублялась еще и тем, что себя самих бунтари называли «новофокусниками».
Все шло как бы не совсем серьезно на фоне богемного развала; то вдруг пять-шесть человек, включая женский пол, пьют и поют, а то вдруг чуть ли не полсотни набивается, и тогда от взрывов хохота содрогается ненадежный лифт в лестничной клетке.
Недавно на заседании правления кооператива отставной активист Мешьячин потребовал немедленного выселения подозрительного Охотникова. Зловеще понятным тоном он высказался в том духе, что нельзя смотреть сквозь пальцы на тот факт, что квартира в жилтовариществе советских фотографов превратилась в пристанище для сборищ с определенной подкладкой, с сомнительным душком. Пристанище для сборищ – звучит в самом деле неплохо, и члены правления, полагая, что у Мешьячина полномочия, начали уже разогреваться для гражданского гнева, но тут председатель правления Мидасьян в обычной своей мрачной манере, глаза в пол, предложил этот вопрос снять с повестки дня, ибо он не в нашей компетенции. Членам правления из мешьячинской группировки пришлось утереться, почувствовали сразу битые шкуры, чем пахнет формулировочка.
Среди членов, конечно, присутствовал один скрытый либерал, в том смысле, что, сидя среди членов, он как бы и не являлся либералом. Однако, прогуливаясь в сумерках с либералами явными, скрытый либерал со смешком отмахивался от своего членства, шепотом, округляя глаз, говорил «скоты», выбалтывал тайны собраний.
Особенно любил «скрытый либерал» прогуливаться в сумерках с одним из заводил «новофокусников» Максимом Петровичем Огородниковым. Их, между прочим, многое связывало. Когда-то, в затуманившихся уже с нынешней позиции Шестидесятых, вместе ведь штурмовали твердыни обскурантизма, в общем-то водки немало выпили по рижским и ялтинским кабакам, а это только верхоглядам покажется ерундой, для настоящих же мужчин каждая бутылка, распитая вместе, – непреходящая ценность.
Итак… – боюсь, нередко нам придется употреблять это почти одиссеевское словечко, ибо любое отступление в прозе – нечто вроде зигзага на пути в Итаку, – итак, молодой рыжий, топчась на крыльце, обдумывал план бегства от «скорой помощи», которая третий уже день подряд занимала одну и ту же позицию за забором новостройки напротив его подъезда.
…«Максиму же позвоню с улицы, – думал он, – и скажу, чтобы не приходил. Вот так мы и вставим шершавого по закону подполья»…
Подпольщик из этого молодца вряд ли бы получился толковый. Последующие несколько минут показали, что он все напутал, не рассчитал времени, то ли опоздал, то ли преждевременно выскочил из дому. Во всяком случае, он весьма удивился, увидев приближающуюся фигуру друга Пробкина. Филогенез фамилии этой совершенно не прослеживается, а внешность приближающегося уж никак не соответствовала здоровому корню «проб». Признаюсь, есть в этом имени некоторый элемент авторского лукавства, явное увиливание от прямого ассоциативного пути, по которому следовало бы этого нового, появившегося в промозглых сумерках персонажа назвать Развратниковым или Альковниковым. И впрямь, внешность его как бы иллюстрировала ходячий грех Москвы: красные вечно полуоткрытые губы, застойный взгляд сконцентрированных на ведущей идее современности прозрачных глаз… Веня Пробкин очень был типичным москвичом. Поиск «кайфа» и постоянная готовность к половым безобразиям – вот то, что в серьезной степени характеризует нынешних московских мужчин и начисто ускользает от западных стратегических наблюдателей.
Пробкину, так же как и Охотникову, подходило к тридцати. Он считал свой возраст юношеским, позволявшим «шалить», хотя и был уже многодетным отцом семейства: два мальчика семи и трех лет, девочка-бэби. Он ездил на тяжелом германском лимузине «Мерседес-Бенц 300» с мотором для дизельного топлива. Каким образом роскошное это «ТС» (транспортное средство) досталось Пробкину на фоне всеобщей скудости и собственного вечного безденежья, остается глухой, непробиваемой тайной. На прямые вопросы Вениамин обычно отвечал со вздохом «машина эта – горе мое», имея, очевидно, в виду общественное раздражение в кооперативе «Советский кадр». Кому завидуют, удивлялся Пробкин, мы с Машей живем на почти что одной лапше. В этом он, кажется, не лукавил: Маша, генеральская дочь и бывшая красавица, и сама-то от лапшовой диеты стала напоминать лапшу – белая, длинная, с признаками уже не проходящей измученности. Конечно, соседи-завистники говорили, что измучена Маша не лапшой и даже не детишками, а самим беспредельно развратным изменником-Вениамином, но этому верить можно лишь отчасти, ибо не было у молодого человека в жизни дела более важного, чем обеспечение и поддержание семьи. Только ради семьи он и старался день-деньской по беспредельной Москве – базы, склады, телефоны, НИИ, договора на халтуру. Иной раз после очередной бордельной ночи дружки напоминали ему ради потехи о Маше, о детях. Вениамин тогда смертельно бледнел, шептал вечно красными и мокрыми губами: не трогайте семьи, гады, это последнее, что у меня осталось…
Обычная картина: Веня Пробкин в страшной озабоченности – «чуваки, пожар, я прямо с ног сбился, Машка у меня босая». В жуткой тревоге мечется Веня по Москве и в конце концов обувает измученную жену в бесценные итальянские сапоги с миланской улицы Монте Наполеоне.
Общественность все эти дела, конечно, раздражали до последней степени. Вот, вообразите, выходит голодающее семейство на воскресную прогулку. Измученная «святая» Маша в сапогах с Монте Наполеоне и в жакетке из рыжей лисы, детишки катятся колобками космической эры в ярких «лунных» бутсах, в «дутиках»-курточках, глава семьи, бледный, похмельный, терзаемый воскресной совестью, в замшевом пальто ведет огромного черного, с ярчайшими белыми зубами и сверкающими белками лукавых глаз ньюфаундленда Лонгфелло; не похоже, что чудовище на одной лапше вскормлено… Да ведь это же не забитый московский люд, сама катится международная спекуляция!
Нужно разобраться, решали после воскресных пробкинских прогулок пайщики «Советского кадра», незамедлительно нужно выяснить источники дохода, нужно сигнализировать в ОБХСС, а то и еще куда-нибудь, уж не на подкорме ли у Запада Венька этот Пробкин?
Однако в понедельник с утра Веня начинал шляться по кооперативу и просить денег взаймы – хоть рубль, хоть мелочи немного, мы на одной лапше сидим. А собака? – спрашивали соседи. А собака, товарищи, на спецучете в Министерстве обороны, мясной паек получает, не можем же мы собаку объедать, товарищи? Ты бы лучше «Мерседес» продал, ярились соседи. Придется, вздыхал Пробкин. Эта машина – горе мое. Он стоял в коридоре, облизывая губы и с какой-то жалкой жадностью заглядывая внутрь квартиры соседа, длинные волосы его свалены были в сторону, обнажая огромную царевич-алексеевскую лбину, и у соседей вдруг появилось к нему странное сочувствие. Так и возникли особые отношения, до поры до времени спасавшие Веньку. Сосед, давший трояк или даже рубль, уже чувствовал себя отчасти меценатом, уже снисходительно покровительствовал тунеядцу.
Между тем в мире полуподпольного московского искусства кое-кому Вениамин Пробкин был известен как талантливый фотограф. Официально он числился в штате ежемесячника «Советский мяч», и его печатные снимки ничем не отличались от массовой продукции, но в то же время его «другие» снимки и слайды циркулировали по чердакам и подвалам, и кое-кто даже находил, что в них «что-то есть», а отдельные эстеты даже причисляли его к «новой фотографии», даже такой удостоился чести. Вот, господа, говорили друг другу эстеты, мы все теоретизируем, а в «новой фотографии» рождаются звезды даже из жуликов.
В теории, однако, была существенная нужда, ибо очертить границы «новой фотографии» пока еще никому не удавалось. Основным ее принципом вроде бы считалось то, что на одном снимке и в одном измерении некоторые детали выпирали как бы с суперреалистической четкостью, в то время как другие, видимо не интересующие художника, оказывались «не в фокусе». Трудно сказать, почему именно «новая фотография» вызывала наибольшую ярость партийных идеологов, почему именно на это расплывчатое течение ополчился ударный полк товарища Саурого, отложив даже до поры привычное теснение «ретро», «классиков», «поэторитма» и других незрелых ущербных течений. Партия тоже нуждалась в теоретических, пусть даже антипартийных, работах. Чтобы хорошо бороться с врагом, надо его мать. Чтобы его знать, надо, чтобы он был.
Очевидно было, что странное это фокусирование влечет за собой искажение нашей реальной социалистической действительности, но как оно достигается, вот в чем вопрос. Увы, не объяснишь это полишинелевским секретом классиков отечественного фото Фолохова и Фаднюка, когда большой палец втихаря просовывают в проявитель и размазывают эмульсию. У этих великих товарищей все эти вихри на снимках, порывы, туманные дали являются, конечно, «новаторством», они расширяют творческую палитру (не путать с пол-литрой) соцреалистического метода, в то время как злокозненные «новые фотографы» несомненно вовлечены в западный упадочный процесс, а их попытки объяснить особенности своих снимков комбинацией оптических причин с душевными являются, конечно, происками доморощенных метафизиков, которым партия объявляет бескомпромиссную войну.
Однажды в редакцию «Советского мяча» прибыл боевой отряд из трех человек райкомовских активистов. Идя навстречу многочисленным сигналам трудящихся, райком решил расследовать деятельность Вениамина Пробкина, проверить, соответствует ли он занимаемой должности, не порочит ли и в самом деле то-передовое-которому-служим.
Увы, как и предполагали сигнализаторы, иными словами стукачи, расследование оказалось делом несложным. Будто пузыри из подорванной в шведских шхерах субмарины стали всплывать на поверхность подозрительные Венечкины финансовые отчеты, фальшивые командировки, туманнейшие премиальные по сатирическому фотоконкурсу «Чик», счета за «служебные банкеты» в «Национале» и «Росфото», накладные на японском языке и прочее, прочее, даже биография «Мерседеса» на мгновение обрисовалась в тумане.
Словом, В. Пробкин горел, как швед под Полтавой, или, вернее, как русский утопал под Гетеборгом. И вдруг с партийного дредноута брошен был ему спасательный круг.
Отмежуйтесь от «новой фотографии», товарищ Пробкин, разоблачите коварный ее перекос в «Фотогазете», и тогда будут забыты ваши экономические шалости. Если же не пойдете навстречу Партии, все будет передано в ОБХСС, да еще и по морально-бытовой предстанете перед общественностью, сколько по Москве женщин и девиц опоганили, товарищ Пробкин, будь ты проклят!
Мало кто думал, что полужулик Вениамин пошлет райкомычей подальше, но он это сделал. Больше того, на закрытом партсобрании заявил, что ради своего искусства, то есть ради вот именно дурацкой этой «новой фотографии», готов принять и «аутодафе».
Главный райкомыч Гибенко усмехнулся тогда этому «аутодафе», полагая, что имеется в виду автомагазин, – захотела, дескать, щука в воду, – но потом, когда объяснили, что речь идет в прямом смысле о «жертвенности», страшно взъярился и потребовал немедленного исключения Пробкина из партии. Все даже ахнули: хоть и происходило дело на партсобрании, да еще и не на простом, а на закрытом, никому почему-то в голову не приходило, что такой сомнительный человек является членом нашей родной партии.
Вот тут в данном конкретном случае, впрочем, как везде, торжествует опять закон диалектики под названием «палка о двух концах»: с одного конца членство в партии вроде бы хорошо предохраняет от ОБХСС, но с другого конца возникает малопривлекательная ситуация – беспартийный человек еще может кое-как увиливать от обэхээсины, выпавшего из партии бросают прямо в пасть чудовища.
«Советский мяч» не долго мучился, чтобы уволить Венечку. Старик, ты же сам понимаешь, сказано было ему в хорошей московской традиции. Вернешься (в смысле – из лагерей) – заходи. Халтурой обеспечим.
Итак, безработный, беспартийный и подследственный «новый фотограф» приготовился к худшему, как вдруг все повернулось, и он повеселел.
Вдруг, прямо на перекрестке повстречался ему Олеха Охотников, с которым вместе несколько лет назад в Архангельске расширяли окно в Европу. Широкоугольной оптикой, милостивые государи, промеж ног Великого Питера. Пошли со мной, сказал Охотников, и вот Веня Пробкин обнаруживает себя в кругу людей, с которыми прежде по причине партийности и журнальности и был «не очень-то», только лишь издали, на бегу – шапочкой, ручкой, левым веком, дескать, сочувствую вам, старички, го бегу, бегу, бегу. Словом, оказался в московском фотографическом «андеграунде», в зарождающейся группе «Новый фокус», в которой обнаружил с огромнейшим удивлением и былых своих кумиров, «китов Шестидесятых годов» – Максима Огородникова, Славу Германа, Андрея Древесного, Эмму Лионель, Эдика Казан-заде…
Веня Пробкин всю свою «жизненку», честно говоря, чувствовал себя одиноким партизаном во враждебной национальной (хоть и был чистым русаком) и идеологической (хоть и происходил от завода «Пролетарий») среде. И вдруг оказалось, что целая группа тут собралась всяких отщепенцев и дерзко бросилась промышлять свою удачу в советских лабиринтах.
Какая новая началась у Венечки Пробкина «жизненка», какие воспарения! Духовная, вот именно духовная жизнь, чего прежде даже и не ведал. Употребляя смешанные напитки на незаконной квартире Охотникова, Веня смело бросался в разговоры об искусстве как о средстве тайной эзотерической коммуникации. Такая началась счастливая пора жизни! Господа, кричал Веня, пытаясь пробиться сквозь общий гам, да знаете ли вы, что с вами я впервые почувствовал себя человеком?!
Как ни странно, и обэхээсина отвернула от него смердящую харю благодаря «Новому фокусу». У Эдика Казан-заде оказались друзья в Центральном аппарате Внутренних Дел, любители тенниса, джаза и шашлыков на ребрышках; Эдик был специалистом по всем трем видам. Нельзя сказать, что расследование вдруг автоматически прекратилось, однако повестки на собеседования приходили все реже, дело явно засыхало.
Замечательно все-таки, что у нас все-таки трудно разные вещи скоординировать все-таки, размышлял иной раз Веня Пробкин, несясь через московскую, смешанную с химической солью грязь от Фишера, предположим, Моисея к Шузу Жеребятникову, то есть «осуществляя связь».
Как, право, совсем неплохо, в целом, получается, что всю советскую систему скоординировать невозможно, в общем и целом. Вот, скажем, фишка за нами следит, старики фотари из союза ее подзуживают, шьют политику, того и гляди жутчайший идеологический скандал разразится, а полковники, предположим, из ГАИ все еще по старой памяти Древесного Андрюшу обожают, в МВД ничего не знают, в МВТ ничего не знают, в Мосгорисполкоме ничего не знают, с ними скоординировать не успели, вот благодаря этому еще и можно жить в нашей стране. Страна технологически отсталая, вот что замечательно. Если бы у подлой власти еще и компьютеры работали, житья бы здесь совсем не стало.
Словом, В. Пробкин чрезвычайно наслаждался нынешним поворотом своей судьбы, что к тому же еще и обострялось его и в самом деле искренней готовностью к разгрому, к тюрьме, к пресловутому этому аутодафе, к потере всего на свете, даже и «Мерседеса» своего дизельного; даже блядями своими готов он был пожертвовать ради искусства, хотя эта последняя жертва и не требовалась, к счастью или на беду.
С этим делом, с «Восьмым марта», так сказать, у Венечки все усугублялось: при виде любой бабы отпадала челюсть, увлажнялись губы, взгляд стекленел, в паху начинала сосать невыносимая тяга. Приходилось немедленно брать Даму за руку.
Редко случалось, что женская особа оставалась глуха к такому мощному призыву. Чаще сдавалась, чтобы поскорее отделаться от «странного молодого человека». С каждым месяцем «жизненки» количество женских друзей у молодого таланта увеличивалось.
Редкие вечера в кругу своей «святыни» превратились для Вениамина в мучение. Маша уже ожесточалась от каждого жужжания. Веня, покрываясь путом, кося глазом-предателем, прыгал к телефону, имитировал деловые отношения, сухо уточнял адреса, по которым нужно «забрать материалы», и; уже влезая в дубленку, взывал к своей лапше: Маша, верь!
II
Подойдя к Охотникову, Пробкин, разумеется, попросил:
– Я тебя прошу, Охотников, позвони Маше и скажи, что ты послал меня в Шереметьевку, на дачу Лионель и что я должен вернуться где-то в двенадцать, в общем не позже двух…
– Эх ты, Пробкин, опять ты за свое, – пожурил товарища Охотников. – Об искусстве, к сожалению, мало думаешь. А посмотри-ка по сторонам. Ничего не замечаешь?
Пробкин тут же и увидел «скорую помощь» у грязного замора.
– Опять она?
– Вот именно, а к нам датчане через час приедут, а потом и Макс заявится, и Шуз, и Мойша, и еще кого-нибудь принесет… Так они за сегодняшний вечер многих пересчитают. Надо им шершавого вставить по закону подполья.
– Какие будут предложения? – с готовностью спросил Пробкин.
– А вот вытащим сейчас по мешку антисоветчины и – в разные стороны на моторах, – внес предложение Охотников. – А тот, кто оборвет хвост, вернется и примет датчан. Лады?
Конечно, Охотников опять все напутал – датчане уже заворачивали в переулок во всем блеске своего скандинавского великолепия – «Вольво-турбо» и блондинка за рулем, представители газеты «Гольфстрим».
– Разбежались? – неуверенно спросил Охотников. – Самое время, Пробкин, рвануть. Неприкрытое вмешательство мирового империализма. «Товарищи» растеряны. Мы линяем. Датчане, никого не застав, сваливают. Мы им потом звоним. Все запутывается.
– Да ты что, Охотников, – забормотал Пробкин, не отрывая глаз от приближающейся серебристой соломенногривой за рулем. – Вспомни, как Шуз и Макс нас учат – никогда никуда, ие убегайте, ничего не скрывайте. По конституции имеем право на все, что делаем. Кто это мне запретил с девушками иностранными встречаться?
– У тебя только одно на уме, – проворчал Охотников.
В сумерках махнула белая грива – флашлайт. Тоненькая девица в пиджаке с плечами, едва выскочив из машины, сделала несколько снимков. Ее оптика, конечно, интересовалась безрадостной жизнью тоталитарного общества, нашими тетушками и старушками, придурковатой девочкой, вечно тихо игравшей возле мусорных баков, лозунгом «Выше знамя социалистического соревнования!» на развалинах новостройки.
Шаг за шагом датчане приближались, девице аккомпанировал Пер Рубергардт, глава и единственный сотрудник московского офиса газеты «Гольфстрим». Наши парни ужаснейше волновались: храбрись не храбрись, но встречи с иностранными корреспондентами под бдящим оком «гэфэушки» – занятие не очень-то комфортабельное. И все же Веня Пробкин рванулся:
– May I help you, miss?
Фотографша даже чуть подскользнулась от удивления, увидев двух цивилизованных парней посреди советского старорежимья. Затем последовала еще одна вспышка, уже не фото, а просто улыбка; экие выращены в Скандинавии зубы дивной белизны!
Охотников, конечно, по соседству с девушкой начал «сгорать от смущения», не знал, куда сунуть руки-свои-крюки, как оперировать окладистой бородою. От смущения на девушку как бы «ноль внимания», как бы продолжал какой-то спор с Венькой.
– Удивлен я тОбОю, челОвек, Ох, удивлен…
Проклятый Венька между тем на удивление бегло шпарил по-европейски: вот тебе и урок, растяпа Охотников, поморская интеллигенция, город Архангелов, смотри – простая московская фарца преодолевает языковой барьер даже без помощи алкоголя.
Наконец, закрыв свою «Вольво» на все замки и «секретки», подошел Рубергардт и тут же без всяких опять же комплексов неполноценности зачастил по-русски, рассыпая где попало предлоги и наречия, крутя деформированные существительные вместе с исковерканными глаголами, шепелявя еще по-чухонски, но с какой-то галльской прытью и все-таки абсолютно понятно.
Фотографша только утром прилетела из Копенгагена: Рубергардт писал очерк о подпольном советском искусстве и запросил свой «Гольфстрим» – пришлите Нелли, как можно скорее, мы давно уже не виделись.
Как хорошо, что не слиняли, подумал Пробкин. Есть хороший шанс познакомиться поближе со скандинавским коллегой. Тут у него сразу засосало, где полагается, и, оттирая друга локтем, он повел датчанку в дом, быстренько на ходу иронизируя по поводу советской действительности, особенно по поводу вот этой «скорой помощи», которая, вообразите, мисс, уже три дня не двигается с места, а там внутри четыре жлоба сидят с квадратными будками, у них там, наверное, какая-то звукомашина, они, должно быть, все записывают, что у нас в штабе «Нового фокуса» происходит, вообразите, мадам, а там, между прочим, живет мой руг Охотников, вот именно этот, вообразите, «ле мужик», и теперь вы можете себе представить звукозапись всех и их охотниковских звуков, вообразите, как опытные специалисты потом анализируют все звуки Охотникова, ей-ей, можно им посочувствовать…
Охотников, улавливая свое имя в безобразной англо-франкo-немецкой тарабарщине друга, еще больше дичал, косил глаз на датчанку, грудью наваливался на датчанина, бухал что-то о русских артистических потенциях, о спиритуальном возрождении, об обнадеживающих письмах с Севера.
От машины до квартиры датчане продвигались не менее четверти часа. Фотографша уже нервно хохотала, чувствуя, куда клонит Пробкин. Такая датчанка, конечно, может взбудоражить московский квартал, что и произошло у четвертого корпуса жилтоварищества «Советский кадр». Жители иные шарахались в сторону от живописной группы опасных людей с хохочущей блондинкой посредине, иные проходили нарочито близко, сурово глядя в упор на распоясавшуюся и совершенно не замечающую их бдительности международную молодежь; и зачем таких в нашу столицу пускают?
В конце концов, размахивая руками, говоря одновременно и не слушая друг друга, четверо вошли в квартиру беглеца Пивоварова, где в эти дни уже помещался на рабочем столе в углу огромный, как могильная плита, макет неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм!».
Разглядев фотографии на стенах и просунув палец меж страниц в полумифический альбом, датчанка осознала, что она в компании мастеров, титанов фотоискусства и ей, скромной газетной фотографше, вроде бы надо судьбу благодарить за удачу и давать по первому запросу.
Между тем звонок в спорной квартире не замолкал, и двери, как обычно, хлопали непрерывно – «новофокусники» собирались для вечернего «общения». Явились Цукер с очередной женой, Шуз Жеребятников с бутылкой «Российской», Стелла Пирогова, конечно же, с яблочным пирогом. Потом пошло все гуще и гуще – Эмма Лионель с Гошей Трубецким, Фишер, Фридман, молодой Васюша Штурмин, а потом рука об руку, дыша коньячными туманами, Слава Герман и Георгий Автандилович Чавчавадзе. Все понемногу чего-нибудь приносили. Все, как обычно, несли несусветную крамолу и похабщину, ну, и пальцем показывали в потолок – дескать, там слухач. Хотелось дать понять иностранцам, в каких условиях приходится жить советскому интеллигенту и как он дерзостно на эти условия плюет. Иностранцы, конечно, понимающе кивали – в чем, в чем, а в наличии «слухача» они не сомневались, он там, добавим от себя, действительно был, иначе на что существовало подразделение генерала Планщина: ударение иногда ради собственного удовольствия мы будем ставить на последнем слоге родительного падежа.
А где же Макс, интересовался Рубергардт. Именно с Максом Огородниковым, знакомым уже читателям газеты «Гольфстрим», надлежало ему сделать основное интервью. Надеюсь, придет?
Придет, придет, с готовностью подтверждал Пробкин, оглаживая под столом оробевшие скандинавские коленки.
Стекла в маленькой квартире запотели от горячих пельменей. Охотников и Фишер жарили их на сковороде величиной с колпак от автомобильной шины. Жарка шла по собственной методе – пельмени в сыром виде вываливались на сковороду, сверху бухалось полкило маргарина. Как повалит от сковороды дым – пельмени готовы.
На столе имела место умопомрачительная коллекция напитков – «Солнцедар» за 1 руб. 85 коп. и «Кавказ» за 2 руб. 38 коп. соседствовали с двенадцатилетним «Chivas Regal».
– Это нам вчера ребята из «Нью-Йорк таймс» привезли, – объяснял Шуз Жеребятников Рубергардту. – Извинились, что не успели заехать в «Березку» за датским, то есть вашим, твоим, так твою, Рубер, пивом «Туборг». Извините, говорят, вот всего лишь одна бутылка «Чиваса». Но мы, господа, и этой бутылке рады. Понимаешь, Рубер? Мы рады всему доброкачественному, потому что обычно вынуждены пить сущую отраву, продукты распада социалистической системы…
– А где же господин Огородников? – вновь спрашивал датчанин, нимало не смущенный намеками Шуза.
– Будет, будет, – успокаивали его. – Можете пока преспокойно слетать в «Березку» и обратно…
Ого
I
Тот, о ком все время спрашивают и кто однажды уже мелькнул в самом начале нашего повествования с рифмованным вздором на устах, между тем прогуливался совсем неподалеку в темном переулке между первым и вторым корпусами «Советского кадра». Максиму Петровичу Огородникову было несколько за сорок, и в те моменты, когда его долговязая фигура попадала под свет единственного в переулке уличного фонаря, можно было разглядеть его крупный нос и пушистый под носом пеговатый ус. При более длительном экспонировании несомненно бросилась бы в глаза довольно отчетливая наглость всех черт и примет, свойственная, впрочем, многим баловням судьбы и звездам современного искусства. Бросилась бы в глаза и некоторая странность: весь удлиненно-костлявый тип артиста был на удивление изменчив – за пять минут в нем мог промелькнуть то почти старик, то еще юноша, то какая-то рассеянная растяпа, то сконцентрированный атлет.
Пока, однако, мы этими пятью минутами не располагаем и видим только, как время от времени под единственным фонарем появляются крупноватый нос и пушистый ус, выглядывающие из-за поднятого воротника лондонского плаща.
Переулок этот излюблен скрытыми либералами для совместных, как бы между прочим, моционов с шепотком через плечо «а вы слышали, братцы-кролики?». Один из таких «либералов» как раз и сопровождал в данный момент Макса Огородникова, вернее, как бы прогуливал его, крепко взяв под локоть и обдавая снизу левую щеку артиста горячим концентрированным шепотом. Он подцепил Макса как бы случайно – «Ба, кого я вижу! У тебя есть пять минут?» – и повел в переулок, горячим шепотом повествуя и округляя смешком – скоты, ты же понимаешь, настоящие скоты! – недавнее заседание правления кооператива, на котором Герой Советского Союза Мешьячин предложил выгнать Олеху Охотникова из квартиры «невозвращенца» Пивоварова, а квартиру, ставшую «прибежищем для сборищ с подозрительным душком», опечатать. Самое же замечательное, Макс, состоит в том, что наш мрачный Мидасьян тут же снял вопрос, потому что он не в нашей, ты понимаешь, не в нашей компетенции. Ты понимаешь, конечно, старичок, в чьей он компетенции?… К удивлению либерала, Огородников только хохотнул в ответ на важное сообщение. Он и не сомневался ни минуты, что квартира заклопирована и окружена тихарьем. Странно только, почему гэфэушка так долго смотрит и ничего не предпринимает. Наверное, задумали какую-нибудь гадость сверх всяких ожиданий. Впрочем, хер с ними.
– Позволь? – быстро спросил «либерал».
– Хер с ними! – повторил Огородников не без удовольствия. – Надоело все время о них думать. Они для нас просто не существуют. В общем и целом мы на них кладем.
– Брось, брось, старичок, – зашептал тогда «либерал» еще горячее, еще плотнее беря Макса под руку, увлекая поглубже в тенистые углы, в неприглядную мглу московского фотографического мира. – Тебя здесь любят, старичок, тобой дорожат, не надо так разбрасываться…
– Хорошенькое дело – любят, – ощерился тогда под усами Огородников. – Все альбомы мои зарубили один за другим, журналы снимков не принимают… Думаешь, я не петрю, чей это почерк? Вот и выставку мою отложили на неопределенное время, все мои поездки – в жопу, можешь поздравить, я уже невыездной, почта из-за границы блокируется, телефон на прослушивании… хорошо тут мной дорожат, спасибо за такую заботу!
«Либерал» смотрел на него полным глазом. Такие прогулки в темноте по заставленному полуфабрикатами переулку имели еще и второй смысл, не говоря уже о третьем; и Огородников знал, что «либерал» может вот в таком же стиле с кем-нибудь «оттуда» прогуляться, и «либерал» догадывался, что Макс знает, а потому прогулки такого рода были как бы контактным звеном между опальным фотографом и могущественными невидимками идеологического сыска.
– Однако ведь не собираешься же ты?… – еле слышно или совсем неслышно, одной лишь артикуляцией рта, просто лишь округлением и без того круглого ока, поворотом этого округлившегося до предела органа спросил «либерал».
– А вот именно собираюсь! – громогласно на всю Ивановскую заявил Огородников. – Вот доведут до ручки мерзавцы, я тогда и намылюсь!
– Ну, разбежались? – тут же предложил «либерал», предварительно хмыкнув и цыкнув углами рта в щели переулка, и тут же чесанул под фонарь, под арку, мимо аптеки, в подъезд, в холостяцкую свою квартиру.
Там, в «хавирке» (как он любил называть свое жилье), плюхнулся на тахту, укутал ноги венгерским пледом, попросил у няни (имелась такая няня Ревекка Мироновна) стаканчик югославского пунша, придвинул чехословацкий телефончик, набрал номер друга, доверительного человека, умницы, профессора-киноведа, и между делом, как бы проездом, рассказал ему о намерениях Макса Огородникова «забросить чепчик за бугор».
Между тем Максим Петрович Огородников тоже прошел между корпусами, но в другом направлении, затем вышел на перекресток и поднял трость, подзывая такси. Для того и трость была заведена, чтобы, соответствуя какому-то заграничному черту, можно было в мглистый осенний вечер выйти на перекресток и «поднять трость, подзывая такси».
Фиксируясь с поднятой тростью, он воображал, как его только что высказанная идея «намыливания» уже прыгает сейчас из телефончика в телефончик и как возбуждены будут сегодня вечером заинтересованные лица.
За спиной у него был подъезд номер 3 и запаркованная рядом журналистская «Вольво», а также покосившийся забор новостройки и недреманная «скорая помощь», внутри которой мерцали три сигаретки. Огородников стоял прямо под фонарем, не прячась, а, наоборот, как бы показываясь, потому что принципиально отвергал слежку. Пусть подонки сами нарушают нашу советскую конституцию, а мы не будем. Ничего тайного не делаем. О «Новом» и о «Скажи изюм!» и я, и Шуз, и все ребята треплемся на всех углах; только ленивый об этом ничего не знает. Гэфэушники, устроив слежку, как бы навязывают нам конспирацию. Вот хитрожопая компания, в самом деле неплохо придумано. Сизый Нос начни потихоньку следить за кем-нибудь, и тот поневоле становится заговорщиком.
Максим нарочно торчал под фонарем, кричал «такси-такси», начал даже слегка жонглировать своей уникальной тростью, чтобы его заметила сегодняшняя бригада. Мысли его в данный момент странно противоречили собственным принципиальным установкам.
Пусть, сволочи, запутаются, если уж датчан выследили. Наверняка ведь думают, что я должен быть у Охотникова, а я вот на такси куда-то уезжаю. В погоню, господа гвардейцы кардинала! Только уже плюхнувшись в такси, он сообразил, что принял игру, что они его «сделали», включили в свою диспозицию. Уж если их замечаешь за собой – скрывайся от них или не скрывайся, все одно: ты играешь в их игру. До сегодняшнего вечера я делал вид, что не замечаю их, но с этого момента что-то изменилось.
Он разозлился на себя и повернул голову, ожидая найти за собой слежку, однако «скорой помощи» за хвостом такси видно не было, да и вообще ничего похожего – перся автобус номер 70, а за ним, конечно, угадывался самосвал. Словом, и игра была постыдная, и первый ход в этой игре оказался дурацким и нелепым. Чуть не замычав от злости, похожей на острую зубную боль, он откинулся в кресле такси и попытался вызвать в памяти что-нибудь антизлобное, ну, например, площадь Оперы в Париже.
Вот вам, пожалуйста: прозрачным осенним «апрэмиди» иду так себе по делам, отчасти просто так по авеню Опера и захожу в «Кафе де ля Пэ» посмотреть, нет ли мне там писем. Чудесная сохранилась в этом кафе девятнадцатого века традиция: завсегдатаи находят письма на свое имя на висящей у входа доске, обтянутой зеленым сукном и снабженной особыми металлическими прижимами, под которые как раз и засовывается корреспонденция.
Почему-то именно осенью мучительно тянет в Европу. Поставить треногу перед входом в Жарден Тюильри и делать ленивые снимки проходящего момента парижской вечности. Вот странность – от Мавзолея Ленина, равно как и от пирамиды Хеопса, разит бренностью и распадом. Ворота сада Тюильри вносят некоторый смысл в цивилизацию, намекают на что-то не-пре-хо-дя-ще-е…
Унтер-ден-Линден, бегом, бегом, ползком под колючей проволокой, переваливаешься брюхом через закругленную часть Берлинской стены и вздыхаешь с преогромнейшим облегчением и детской радостью – опять утек!
Ну, а почему же так и не «утек» в свои любимые осенние края, когда столько было возможностей? Потому, что кроме осени с ее европейской ностальгией есть и другие времена года… о да… Откуда все это взялось, почему для меня Европа – такой родной дом? Впрочем, родитель-то, Петяша Огородников, кандидат в члены ЦК РСДРП, вместе со своим старшим товарищем Володей У. был самой обыкновенной эмигрантской сволочью, не так ли? Оттуда, что ли?…
Теперь мне Европы не видать. «Уже развел руками черными Викжель пути…», как в школе учили. Теперь они меня не выпустят, разве что по стопам папаши, в эмиграцию. Там, кажется, у вас и детки уже есть на буржуазных просторах, Максим Петрович? Счастливый путь и постарайтесь забыть свою родину, ибо здесь, кроме вас, еще кое-кто родился. Социализм, например. Оцените гуманизм современных ленинцев – вас не сажают, не расстреливают, а просто под жопу коленкой по собственному желанию… Р-р-р, зубная боль возвращалась, только лишь растравленная парижскими картинками. Всю жизнь под властью этих сук?! Всю жизнь с неестественно зафиксированным поворотом шеи и головы, полуувечным гандикапом проклятого режима? Хер вам, никакой эмиграции от меня не дождетесь!…
– Хер вам! – вдруг вырвалось у него.
– Правильно, – пробурчал шофер такси.
II
Пока он едет, предаваясь зубной боли, оперативная группа генерала В. К. Планщина оперативно трудится на благо народа, в частности держит связь с транспортным средством «скорая помощь», так и оставшимся стоять у разрушающейся новостройки.
Капитан Сканщин Владимир, непосредственно курирующий одного из лидеров «Нового фокуса» М. П. Огородникова, осторожно косясь на шефа, тихо материт другого капитана Слязгина, уже восьмой час сидящего в рафике.
– Да загребись ты, Слязгин, со своими датчанами, напареули по гудям! Как ты мог Огородникова-то упустить? Теперь он целый вечер один будет ходить, жопа с ручкой ты такая, в самом деле, Николай…
– Много себе позволяешь, расшиздяй Сканщин, – рычит в ответ Слязгин, даже зубами похрустывая в адрес проклятого генеральского любимчика.
Капитану Слязгину очень обидно. Без году неделя в «железах» Сканщин-сучонок в теплом кабинете изучает фотоискусство, на выходах работает по ресторанам «Росфото», ВТО, ЦДЛ, ЦДЖ, а ему, опытному сотруднику, приходится по 12 часов торчать в сраном рафике, записывать на дорогостоящую японскую пленку дурацкую болтовню этих «изюмовцев», «новофокусников», или как там еще зовут этот сброд, который давно надо было бы попросту передавить, а не тратить силы и средства. Нетворческая какая-то получается работа, брошу все, махну на БАМ…
– Гудила ты, Николай, – говорит в рацию Сканщин. – Разъедай и гудила…
Генерал Планщин тем временем, делая вид, что не слышит матерщины любимого помощника, делает пометки в бумагах, передает какие-то листы своим хлопцам и девчатам и одновременно говорит по телефону, то есть хмыкает то вопросительно, то утвердительно или рассеянно мычит.
Вдруг генерал встал, подошел к Сканщину, нажатием кнопки прекратил перепалку двух способных специалистов.
– Есть новости, – сказал он. – Огородников решил эмигрировать.
– Да как же?! – воскликнул Вова Сканщин, глубоко пораженный и взволнованный. – Как же так, Валерьян Кузьмич?! Ведь только же начали с человеком работать ж!
Он был искренне огорчен, даже руки задрожали. Хорошо бы сейчас «добрую стопку коньяку», как Валерьян Кузьмич выражается. До боли обидно, между прочим, терять человека-специалиста по фотографии. Только начали ведь работать с человеком, и работа была интересная, творческая. Курировать такого человека, как Максим Петрович Огородников, – все равно что заграничную книжку читать в хорошем переводе, «Над пропастью во ржи», так сказать. Конечно, обидно, что такой человек вот поставил свой талант на службу мировой реакции, но ведь в противном случае никакой и работы ведь не было бы, прав я или нет? А если копнуть, между прочим, в творчестве, то можно найти и здоровое зерно. Вот в цикле «Братск» какие охуенные показаны самосвалы – такая поэзия, в общем-то, труда, в принципе, какой-то исторический оптимизм, товарищ генерал…
– Мда-а, – задумчиво протянул генерал Планщин. – Что-то слишком просто получается с эмиграцией-то…
– Вот именно! – с энтузиазмом откликнулся капитан Сканщин. – Как-то простовато! Какой-то нулевой вариант, Валерьян Кузьмич. Сравните хотя бы внешность Огорода с основной массой. Напрашивается что-нибудь посложнее, Валерьян Кузьмич.
До чрезвычайности взволнованный Володя отошел к окну. Смешно сказать, и получается вроде как бы «слишком в лоб», но из окон кабинета были видны рубиновые звезды Кремля. Володя сморщил пасть, вспомнив «основную массу» Союза фотографов, которая с таким сладострастием стучит друг на друга, а ряшки носит такие, что с утра лучше не показывать.
– Мда-а, – еще более задумчиво протянул генерал. – Слишком простое решение…
III
Однажды Огородникову было сказано: у вас, Максим Петрович, большое есть перед многими коллегами вашими преимущество – такие у вас прослеживаются замечательные, истинно советские корни!
Не было темы более отвратной, более презренной для человека, который и год своего рождения неоднократно проклинал, чем его пресловутые корни, а между тем они действительно были, хоть и неглубокие, но крепыши, уходящие прямо под кожу партии, а следовательно, и народу, ибо известно, что «Народ и Партия – едины». Папаша-то, старбол, Петяша-то, происходил прямиком из ленинской гвардии, не раз пикниковал вместе с основателем на лесопилке Лонжюмо. Прочной кости оказался человечек – прошел невредимо через коллективизации и реконструкции, как говорится, от Ильича до Ильича, по ведомству «самого острого оружия Партии» и в огромных чинах почил десятилетие назад. А вот тому назад некоторое время, а именно в начале 1937 года из Гаража Особого Назначения пришла к товарищу Огородникову новая персональная машина, «Паккард» последней модели, а за рулем сидели кадры новой генерации, юная блондиночка с невинными кудряшками, так восхищавшими в те времена стареющих номенклатурных бойцов. И вот, как раз к концу этого «паккардовского» года, который теперь наш герой в подпитии иногда называет «проклятым» и «Варфоломеевским», как раз и появился на свет Божий ребенок, немедленно названный Максимкой; скорее всего, вслед за обожаемым отцом социалистического реализма, недавно почившим с шоколадкою в руке.
Мадам Огородникова, хоть и забыты уж паккардовские кожаные кресла, и по сей день «не спит, встает, кудрявая», полна энергии, вечная цыпочка и основательный автор по вопросам морали, не исключено, что в больших уже чекистских чинах. Нередко, бренча медальками, появляется она на экранах телевизора, обычно это какие-нибудь юбилеи, чаще всего фронтовые, а ведь она прошла адъютантом члена Главполитупра Огородникова большие дороги Смоленщины, и, поднимая глазки кверху, с «волнительными» интонациями рассказывает о фронтовой молодости, ни разу не покраснеет.
Увы, для Максима в последние годы мать так и превратилась в какую-то чуть ли не «телевизионную дурочку», да и второго своего ближайшего родственника Октября, старшего брата по отцу, он в последние годы лицезрел тоже в основном на «голубом экране».
Октябрь Огородников был фигурой не без загадочности, международный комментатор, годами сидящий то в Бразилии, то в Соединенных Штатах, то располагающийся со всеми соответствующими причиндалами в Париже. Внешность его излучала определенную мощь, настоящий аккумулятор партийной энергии. Обычно он возникал на экранах в периоды драматических конфронтации сил мира и социализма с силами войны и реакции, веским тоном обрисовывал ситуацию прямо с передовых позиций, то есть либо рядом с Триумфальной аркой, либо на фоне Капитолия. Вранье Октября ничем, скажем, не отличалось от обычного газетного и телевранья, однако зрители считали его каким-то особенным человеком, источником какой-то особенной информации.
К матери своей Максим никогда серьезно не относился, а вот старшего брата в отдаленные времена ранней юности, или, как сейчас говорят, «тинэйджерства», едва ли не боготворил. Собственно говоря, именно Октябрь и привил ему начальную тягу ко всякого рода машинам, которая потом перешла в фотострасти.
Какие вообще-то были чудесные времена, наивнейшее начало советских пятидесятых! Два брата из высокопоставленного общества, один долговязый подросток, другой молодой красавец мужчина по очереди управляли огромнейшим ЗИСом-110, часами возились в его моторе, напоминавшем электростанцию Днепрогэс, упоенно оперировали различными «трофейными» и «репарационными» зеркалками, всякими там «кодаками» и «практикаматами»; теория и практика, настоящая мужская жизнь, включавшая и всяческий моторный спорт, и парус на воде, и буер на льду. Говорили они в те счастливые времена очень мало, да и слова не требовались – движение заменяло слово, схема мотора или радио калькировалась на «все дела».
Вот вам, к примеру, сцена летом 1952 года по дороге на Барвиху. По новому гладкому шоссе (конечно, засекреченному, стратегическому, построенному немецкими военнопленными для соединения «госдач» со столицей) едут два полубрата в открытом лимузине. На заднем диване марокканской кожи сидит предмет, на зависть Голливуду, девушка-стиляга по имени Эскимо. Ноги – дай Боже! Никто не разговаривает по пустякам. Октябрь занят рулем, вписывается в виражи, сквозь зубы насвистывает нечто подходящее к тоненькой ниточке аккуратно подстриженных усов – слоу-фокс «Гольфстрим». Пятнадцатилетний Максим приспосабливается щелкнуть «лейкой» в боковое зеркало девушку Эскимо (прозвище подразумевает, конечно, сорт мороженого – пальчики оближешь, а не определенный народ Севера) и воображает уже потрясающий кадр, на котором выйдет вперед сногсшибательная коленка «барухи» и уйдет в глубину ее круглое личико с большим презрительным ртом. «Баруха» же молчит, во-первых, потому, что разговаривать не с кем, а во-вторых, потому, что вообще неразговорчива.
Милиция на пересечениях дорог козыряет. Покачиваются сосны. Где-то слышится пионерский горн. Разворот с визгом шин вокруг скульптуры «Три оленя». Октябрь недовольно покачивает головой: визга быть не должно. Еще раз прокручиваемся вокруг «Трех оленей», на этот раз плавно и стремительно. Вкатываемся в ворота дачи. Ба, во дворе друзья – юноши из дипсемей Громыко и Царапкин. Привезли на буксире лодку с новым американским мотором «Меркьюри». Нужно разобраться. Лады. Мы втроем на озеро, а ты, Эскимо, поучи пацана науке страсти нежной. Октя-я-брь, обиженно тянет девица, но получает в ответ только отдаляющиеся звуки «Гольфстрима». Лады, говорит она. Пошли, Максим. И дальше спотыкачем через многоточие…
К вечеру ошеломленный любовью Максим отвозит Эскимо на мотоцикле в город, по возвращении видит на веранде усталых, но довольных друзей уже с новыми девушками. Славик Громыко учит компанию танцевать буги-вуги. Какой ритм, какой каскад, о, Соединенные Штаты Америки!
Октябрь при виде брата вопросительно поднимает бровь.
– Октябрь, она удивительная, – не без придыхания шепчет вчерашний мальчик.
– Давно видел, что ты на Эскимо поддрачиваешься, – улыбается Октябрь. – Поздравляю. А теперь посмотри, какую машину привез Царапкин.
У Максима подкашиваются ноги – на столе новенький американский магнитофон размером не более стандартной радиолы!
Осенью того блаженного года в «Вечерке» появился фельетон про столичных стиляг под заголовком «Плевелы». Доставалось там в основном сыновьям академиков, но и сын «самого Огородникова» был хоть и глухо, но упомянут.
В семье произошел, по выражению Октября, «страшный хипеж». Папаша колотил кулаком по красному дереву и орал о «предательстве идеалов». Вскоре после фельетона Октябрь исчез, ничего не сказав Максиму. Мамаша пожимала плечиком, знать, мол, ничего не хочу – то ли на Камчатку за длинным рублем направился, то ли в какую-то военную школу поступил. Папаша только хмыкал – посмотрим-посмотрим, может, еще и человеком станет, плевел несчастный.
Через пару лет Октябрь вернулся. Все вроде бы осталось по-прежнему – машины, фото, девушки, джаз, но кое-что и прибавилось – например, великолепный появился английский. Он стал международным журналистом и быстро, год за годом, выходил в первые номера, становился членом всевозможных редколлегий и ученых советов, дослужился даже до депутатства в Верховном Совете СССР. Впрочем, большую часть времени он проводил за границей и однажды «под баночкой» признался Максиму – больше месяца на родине социализма не вытягиваю и, честно говоря, не представляю, как здесь люди живут. Максим тогда посмотрел на брата через прицел своей камеры, и ему показалось, что почтенный международник как был, так и остался стилягой Пятидесятых годов; вот и волосы, еще довольно густые, зачесывает с намеком на «канадский кок» и курит «Кэмел» без фильтра, хрустальную мечту плевелой молодости.
Что же касается статей Октября Огородникова, то они даже среди обычной профессиональной продажности отличались особенной ложью, хотя и пестрели так называемыми «деталями», как бы направленными к элитарному читателю. К «леваческим», как он выражался, делам Максима Октябрь поначалу относился с прежних позиций, усмешливо, как к ребяческим проделкам, однако год за годом, по мере того как Максим все больше «антисоветчиной зверел» (тоже собственного октябрьского изготовления метафоришка), они все больше и больше отдалялись друг от друга.
Иногда Максим узнавал через третьи руки, что приезжал Октябрь в отпуск и даже с матерью, то есть с мачехой своей, встречался, даже и первую жену Макса навестил и привез какие-то подарки, а вот брату, понимаете ли, не дозвонился… Впрочем, бывает ведь и так – суета, суета…
IV
А как вообще-то получилось, что столь известный советский фотограф стал, можно сказать, диссидентом? – такой вопрос обсуждался не раз московскими либерально-художественными кругами по мере того, как развивалась эта история. Ведь был когда-то членом правления ЭСЭСФЭ, даже, кажется, лауреатом премии Ленинского комсомола…
…А кто тогда в комитете премий-то сидел, сплошные ведь леваки, – возникало тут мнение проницательного наблюдателя. В сущности, товарищи, Макс Огородников прошел вполне естественный путь развития. От фрондерства к диссидентству, согласитесь, прямая дорога. Странно, что власти с ним так долго тютькались, вот что странно…
Все это по новой моде высказывалось таким тоном, что невозможно было понять, на чьей стороне симпатии дискуссантов.
…В самом деле, ведь столько лет он и его друзья буквально ведь на грани… порой, знаете ли, все это творчество казалось просто шельмованием власти, а между тем до последнего же времени причисляли же это к своему, к… так сказать, нашему достоянию… странно, что так долго пользовалась эта группа официальным доверием…
В конце концов в таких дискуссиях все-таки происходила еле заметная расстановка: одна сторона как бы ставила под сомнение прежние официальные позиции «этой группы», другая же сомневалась в нонконформистских качествах.
…Позвольте, позвольте, что же в этом странного? Вспомните первые альбомы Огородникова, Германа, Древесного, все эти репортажи с великих строек коммунизма…
Тут вдруг подключался кто-нибудь, только что «принявший коньячку», ибо дискуссии такого рода чаще всего происходили в домах творчества «Проявилкино», «Фэдино», «Раскадреж», где с недавнего времени в буфетах снова была разрешена продажа крепких напитков.
…И между прочим, интересные, свежие, искренние были эти первые альбомы! Очень отличались от обычной казенщины. Вот как раз у Огорода, помните, сцена драки в очереди за шампанским! Какая лепка лиц, характеров…
…Что же, вы скажете, не снимал он эти плотины, самосвалы, экскаваторы?…
…А разве их там не было? И разве не возникало в этих альбомах ощущение странной бессмыслицы?…
…Внимание, братцы-кролики, к нам приближается Кесмеционкин. Давайте-ка лучше поговорим о бабах!
V
За полгода до этого мглистого вечера… Какого еще мглистого вечера? – спросит читатель. Он давно уже потерял в кулуарах романа заляпанную грязью «Волгу»-такси, а между тем она все едет сквозь этот мглистый октябрьский вечер, пересекает площадь Сокол, проезжает мимо аэровокзала, стадиона «Динамо», и нахохлившийся Макс Огородников сидит рядом с водителем, тухлым глазом смотрит в не очень-то отдаленное прошлое: полгода назад.
Зазвонил тогда, майским утром, телефон. Огородников сразу почувствовал – какая-то подлянка. У человека с его телефоном, конечно же, развивается некоторый интимный контакт. Коммуникационной машине ничего не стоит предупредить хозяина о подлянке. Звонок звонку – рознь. Сразу же можно понять, друг ли звонит или какая-нибудь подлянка. В общем-то оказалось – ничего особенного, просто некто Владимир Сканщин из ГФУ; ну, все равно как «гутен морген, это вас из гестапо беспокоят». Голос в трубке напоминал знакомого хоккеиста из соседнего подъезда, такой разбитной москвич.
– Вы меня, по идее, должны знать, Максим Петрович.
– Не имею чести, – согласно литературным традициям (жандарм и присяжный поверенный) ответил Огородников. Какой удалось найти нужный, одергивающий тон, несмотря на мгновенное сжатие кишечника.
– Да разве ж вам, Максим Петрович, меня в «Росфото» не показывали?
Огородников, хотя и высокомерно хмыкнул, сразу же вспомнил – показывали. Вспомнилось в ресторане неопределенное блондинистое лицо за чайным столом – с пирожком во рту. Консультантша секретариата Лолочка, вечная травестюшка с челочкой, привстав на цыпочки и упираясь вечно крепенькими шишечками в руку, вечно ароматным шепотком в ухо:
– Максуша, хочешь покажу твоего куратора?
Огородников был уже наслышан, что в последнее время целое подразделение гэфэушников, молодые люди в замшевых пиджачках, с обручальными кольцами на лапах, повадилось целыми днями заседать в баре, буфетах и ресторане знаменитого клуба Москвы. Потягивают коньячок, дымят американскими сигаретами и не только не скрываются, как прежде, а, напротив, подчаливают с интеллектуальными беседами и представляются в открытую, такой-то и такой-то, сотрудник ГЭФЭУ. Вот замечательные шаги социалистического прогресса – теперь тебе не надо гадать, кто твой куратор, теперь тебе его просто покажут, твоего личного специалиста-лечебника, просто-напросто твоего политического врача, иначе как же прикажете понимать слово «куратор»?
И Лолочка, верный товарищ «четвертого поколения советских фотографов» по столику и постели… – теперь-то, после напоминания о показе, уж не осталось и малых сомнений, кто таков этот бойкий дружок…
– Надо бы побеседовать, Максим Петрович, – хорошо отработанным на оперативных курсах голосом сказал Вова Сканщин. Он стоял в этот момент с телефонной трубкой в кабинете генерала, старший товарищ непосредственно наблюдал начало операции.
Обычно, по науке, люди ужасно «пужались» таких приглашений, это немедленно ощущалось через телефонный кабель. Первый телефонный звонок из «желез» – это всегда полдела, так учил Володю старший товарищ В. К. Планщин. В данном-конкретном, фля, что-то с этой половиной дела не очень-то получалось. Обычно так поднажмешь чуть-чуть голосенком, и клиент плывет, любому можно назначать свидание в гостиничном номере, как бляди. Данный-конкретный, однако, высказался в том направлении, что, хотя, по его мнению, у них нет общих тем для беседы, он, хорошо, согласен принять – принять, товарищ генерал! – Сканщина с товарищем у себя дома. Вы же слышали, Валерьян Кузьмич, каким тоном разговаривает Огород, как будто ему и не из «желез» звонят, а какие-нибудь «фотилы» со своими альбомчиками к классику напрашиваются. Ведь подумать только, товарищ генерал, даже «товарища» поставил под сомнение. С каким, говорит, товарищем? Даже и не на сегодня назначил, товарищ генерал, а на послезавтра, а уж про гостиницу-то я и не заикнулся, товарищ генерал, при такой постановке вопроса. Вот вы говорите, Валерьян Кузьмич, что у них в такие моменты адреналин выделяется, а я этого что-то не заметил…
Молодой специалист В. Сканщин напрасно все же усомнился в эрудиции старшего товарища. Адреналин выделялся, между нами говоря, однако Огородников настолько оказался хитер, что запасся седуксеном, к приходу офицеров успел уже проглотить три таблетки и слегка задремал.
В назначенный час офицеры в отлично пошитых костюмах и галстуках явились «на прием». Фотограф открыл им дверь, обнаружив себя в джинсах на подтяжках и шлепанцах, и прикрыл ладонью рот, неумело скрывая зевок. Позднее Огородников сам удивлялся, как это ловко у него получилось. Смешно сказать, но именно они, а не он выглядели в момент встречи растерянными. Впрочем, может быть, просто тактику переменили, предстать в смущении – простите, так сказать, за вторжение в творческую лабораторию… Уж поверьте, не стали бы тревожить вашу творческую лабораторию, если бы…
– Да это у меня просто кабинет, а вовсе не лаборатория, – все еще как бы борясь с зевотой, обманывая, скорее всего, само-го себя этой простодушной сонливостью, сказал Огородников. – Лаборатория совсем по другому адресу.
– Хлебный переулок, дом семь, квартира двадцать, правда? – выпалил В. Сканщин.