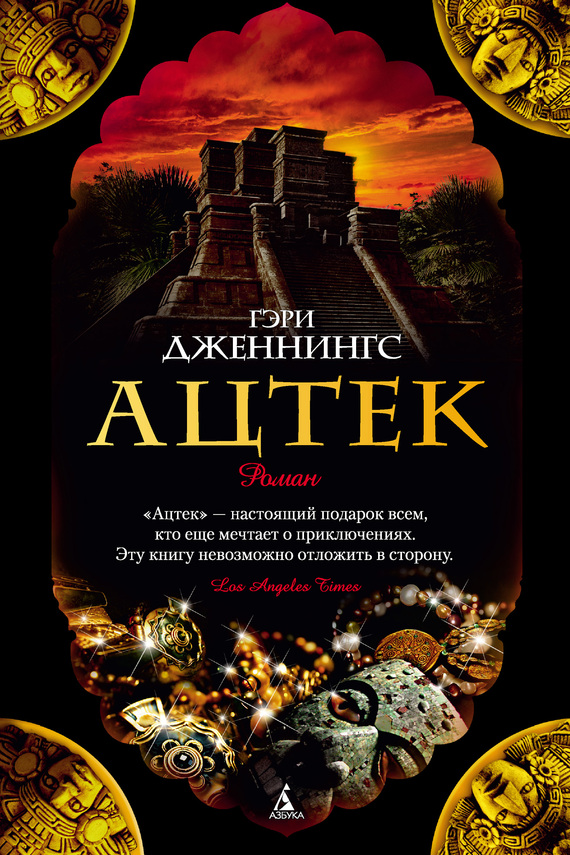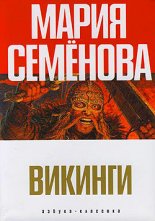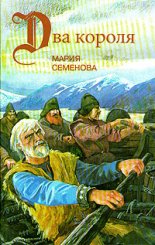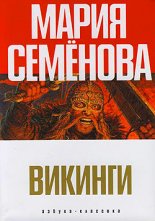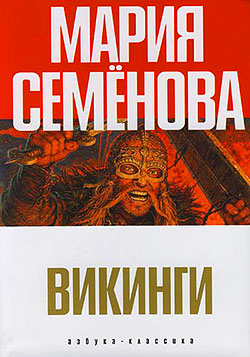Рождение волшебницы Маслюков Валентин

Что бы там ни подразумевал сын под несчастьем, Любомир смолк. И такова была сила чувства, прорвавшаяся в нескольких словах Юлия, что и Любомировы люди смутились… будто услышали непристойность.
Ни разу не оглянувшись на Золотинку, Юлий начал рассказывать. С той самой встречи в сенях красно-белого особняка на торговой площади Колобжега. Он говорил о замечательной, искренней и щедрой улыбке кухонного мальчишки, который оказался ряженной по случаю праздника девушкой. Не обошел и помойное приключение, и битву с рогожным змеем, и отважное столкновение Золотинки с Рукосилом. Забывая помянуть обстоятельства, время и место событий, толковал он скрытую ото всех повесть чувствований и мечтаний. Рассказывал сокровенное, перейдя всякую меру благоразумия. И, однако, подмечая, как расширились в напряженном внимании глаза сестренки Лебеди, как застыла она, вцепившись в решетку, как туманились эти глазки в тот самый миг, когда прерывался его собственный голос, Юлий видел, что рассказ глубоко трогает искреннее и отважное сердце, и значит… Значит, он ничем не оскорбил Золотинку.
Это походило на покаяние и на вызов. Видимо, так оно и следовало — среди толпы, на площади, как каются измученные совестью убийцы. Захваченный страстью откровения, Юлий вполне осознавал ожидающие его впереди стыд и муку.
— Вот как ты заговорил, сынок, — невразумительно пробормотал Любомир, почему-то утративший кураж.
Когда княжич замолк, никто не возобновил прежней необязательной беседы. Государь начал прощаться, вдруг обнаружив, что ему давно пора уезжать. Вопреки прежде выраженному желанию остаться, уехала задумчивая Лебедь, и Юлий не решился ее удерживать. Вслед за вельможами очистила берег великокняжеская стража, на той стороне никого не осталось. Опустела дорога.
Давно уж некого было провожать, а Юлий глядел… И когда обернулся, увидел Золотинку. Низкое солнце забралось под навес, пожаром горели и переливались лучезарные волосы. Она — почудилось? — пожала плечами… и пошла, бросив Юлия на мосту. Боже мой! Недолгое время спустя Юлий, насилуя себя, на виду у всего стана, направился к шатру волшебницы и окликнул служанок.
Внутри было совсем темно, горела поставленная между лилий свеча, а волшебница сидела на утвержденном посреди обширного ковра стуле и глядела на вход. Она заговорила бесстрастным ровным голосом, который ужаснул Юлия.
— Жена за порог, а ты сюда.
Несколько мгновений он силился возразить…
— Бывает так, — наставительно продолжала волшебница, — человек думает, располагает одно — выходит совсем другое.
Княжич вышел вон, путаясь в занавесях. Через мгновение Зимка вскочила в побуждении схватить и удержать. Они совершенно не понимали друг друга. Никто из них, ни Зимка-Золотинка, ни Юлий, не подозревал о разделявшей их пропасти недоразумения.
Принявшая облик Золотинки Зимка, несомненно, обожала наследника. Возбужденное ее тщеславие мало чем отличалось от подлинной и глубокой страсти. И если уж суждена была ей когда-нибудь большая, все переворачивающая, испепеляющая любовь, то, значит, пришла для нее пора.
Несчастье же Зимкино заключалось в том, что опыт прошлого приучил ее к «короткоходовым» чувствам. Предвосхищая страсть, которая озарит когда-нибудь ее жизнь, Зимка с отрочества уже запасала впрок взгляды, жесты и даже самые чувствования, которые отрабатывала на безответных своих поклонниках, рассматривая их как черновые заготовки избранника. В течение какого-нибудь достаточно теплого вечера, за несколько часов успевала она иной раз выказать такое богатство и разнообразие чувств, какое другому, менее поворотливому человеку хватило бы на полгода самых бурных переживаний. Увлекаясь, переходила она от обиды к негодованию и тосковала, приложивши ко лбу ладонь, и выражала слабой улыбкой готовность к прощению, и сразу затем садилась к ухажеру на колени, чтобы в этом беспроигрышном положении осыпать его ревнивыми упреками и расплакаться, зажавши лицо в ладонях, и броситься бежать — в место дикое и безлюдное между двумя розовыми кустами, где привыкла она переживать отчаяние… И особенной расслабленностью жестов, мягко-устало звучащим голосом, приоткрытыми для поцелуя губами искупала она потом размолвку. Не позволяя, впрочем, разгоряченному было поклоннику особенно уж раскатывать губу.
Воспитанные Зимкой ухажеры отвечали ей такими же клокочущими впопыхах чувствами.
Так что действительно влюбленная, влюбленная первый раз в жизни, Зимка-Золотинка не умела выразить себя ничем иным, кроме нелепых дерганий, самый размах и ненужность которых свидетельствовали о захватившей ее страсти.
Вычурные замашки Зимки не были, однако, бездушной игрой — Зимка ревновала. Она — совершенно справедливо! — относила поразительные признания княжича к своей предшественнице и, раздваиваясь, переходила от торжествующей ревности к упоительной злобе. И так она путалась тем мучительнее, что самый предмет ревности уже не существовал, надежно похороненный в бесчувственной каменной глыбе. Но Зимка-то, может быть, как раз и ощущала особое унижение оттого, что счастливой соперницей ее оказалась безмозглая каменная глыба! Нарочитая Зимкина холодность проистекала из доподлинного, хотя и крайне невнятного движения души.
А Юлий… Боже мой! какое счастье доставила бы ему Зимка-Золотинка одним ясным и добрым взглядом. Если бы только умела она улыбнуться, как улыбнулась однажды — без всякого умения! — Золотинка.
Юлий ведь не нуждался в окриках. Излеченный Золотинкой, он умел понимать обычный человеческий разговор…
Красиво устроенная среди лилий свеча оплыла, цветы пожухли. Сгустившаяся ночь оглашалась случайными голосами — они легко проникали под полог шатра. Но напрасно Зимка прислушивалась — Юлий не возвращался. Не имея ни терпения, ни мужества выносить последствия собственной опрометчивой искренности — как она понимала сумасбродство, — Зимка вышла на воздух со скоропалительным намерением разыскать Юлия и… будь что будет!
Был поздний час, по стану горели поредевшие костры, а небо сияло крупной россыпью звезд. Зимка сообразила, что не знает, куда идти. Кого спросить?
— Ваша милость, барышня! — возник из мрака голос. — Позвольте вам служить!
Весьма кстати. Успокоительное и разумное предложение позволило Зимке справиться с первым испугом настолько, чтобы присмотреться к человеку. Отсветы дальнего костра обозначили толстую плешивую голову почти без шеи, перетекающий в жирную грудь подбородок, откормленное брюхо и пологие плечи. Не дожидаясь согласия, ночной человек продолжал слегка задыхающимся полушепотом:
— Если вы ищете наследника… — он замялся, оставляя барышне возможность возразить, и сразу за тем прошептал еще жарче:
— Я все устрою!
— Что ты устроишь? — вздорным голосом сказала Зимка. Проницательность незнакомца оскорбляла ее представления о сокровенной и неповторимой природе переживаемых ею страданий.
А тот, совсем, видно, не понимая тонких чувств, гнул свое:
— С вашего позволения, барышня, я проследил наследника. На мосту он — удалился в тоске, сударыня! Оглашая уснувший дол жалостливыми стенаниями и пенями. Как он от вас выскочил не в себе, я вслед за ним шасть…
— Зачем? — не сдержалась Зимка.
— Услужить, барышня! Без всякой другой цели!
Она не нашлась, что возразить, и с некоторой растерянностью молвила:
— Да сам-то ты кто будешь?
— Ничтожество! Совершенное ничтожество! — успокоил ее услужливый человек.
И в самом деле, Зимка почувствовала облегчение.
— Но я умею быть полезным, — угодливо добавил он.
— Как твое имя? — спросила она, оттягивая миг, когда нужно было все же на что-то решиться.
— Очунная Рожа, барышня, — сообщил незнакомец. — Но я охотно отзываюсь, когда меня кличут Чунька. Буду вам благодарен за это простое, домашнее обращение…
— Заткнись! — обрезала Зимка, грубостью, как это с ней бывало, возмещая замешательство и душевный разлад.
Однако они не нашли Юлия на мосту, как рассчитывал Чунька. Под навесом балагана спали вповалку люди, они ворчали, когда Зимка спотыкалась в кромешной тьме обо что-то живое. Переход на тот берег был закрыт.
Мало-помалу в обсуждение Зимкиных затруднений вступали пробужденные шумом ратники. В порыве самоотверженного усердия Чунька плюхнулся в реку, чтобы переправиться на тот берег и отомкнуть решетку. Выбираясь на сушу, он погряз в тине и не удержался об этом сообщить. Люди просыпались.
— Волшебница ищет наследника! — гомонили в темноте.
— А на хрен ей среди ночи наследник?
— На хрен тебе твоя потаскуха?!
— Дурак, она здесь!
— Кто, потаскуха?
— Убери лапы, какая я тебе девка!
Зимка сгорала от стыда, не находя защиты даже во мраке. Тем временем безнадежно утонувший в грязи Очунная Рожа, не чая уже спастись, пользовался каждым отпущенным ему мгновением, чтобы в голос известить барышню: все в порядке!
— Не извольте беспокоиться, барышня! — захлебывался неразличимый в ночи берег. — Это мы… живою рукою… устроим…
Со стоном Зимка шатнулась прочь, кого-то задела, получила и «болвана», и «суку», ничего не разбирая, слепо наступая на лежащих, обратилась под гам и матерную брань в бегство.
…А Юлий шагал всю ночь по пропадающей в свете ущербной луны дороге. К рассвету он вернулся на топкий берег Аяти несколькими верстами выше походного стана. Холодное купание взбодрило его, он снова пустился в путь и скоро наткнулся на передовой дозор — его окликнули. Дозорные сообщили, что на поиски пропавшего государя снаряжены разъезды.
Юлий вернулся в стан и прекратил тревогу. Не оправдываясь, он выслушал справедливые упреки воеводы Чеглока. И пытался спать, то есть валялся на постели, пока взошедшее солнце не накалило шатер так, что невозможно было оставаться под его удушливым покровом.
Он мало спал, если спал вообще, но утомления не замечал или, во всяком случае, забыл о нем и провел день с Чеглоком, удивляя наблюдательного вельможу совершенным самообладанием. Однако же осторожная попытка Чеглока навести разговор на те деликатные обстоятельства, что удручали княжича, была остановлена негромко, но твердо. Воевода Чеглок, кое-что понимавший в людях (к которым, кстати сказать, он относил и великих мира сего), сделал для себя вывод, что государь принял решение.
Требовалось немного терпения, чтобы уяснить какое.
Замешкав перед прыжком, Нута подгадала миг, когда катившая под уклон кибитка поравнялась с окном. Не то чтобы Нута искала спасения, но все же не так высоко падать: парусиновый верх повозки поднимался над землей на два человеческих роста.
Сжавшись комком, принцесса просвистела в воздухе и хлопнулась на кибитку между распорками, отчего ветхая парусина лопнула, погасив удар. Она провалилась внутрь на гору пустых корзин из-под яиц, зарывшись в которые, застряла без дыхания и без мыслей.
Самое поразительное, что никто ничего не понял — ни возчик, ни путники, что брели по дороге. Все слышали зловещий гулкий хлопок, все вздрогнули, озираясь… и ничего. Не было во всей слованской действительности примеров, чтобы заморские принцессы падали с небес, с поразительным хладнокровием и точностью поражая повозки птичников. Словане и образцов таких не имели. Не с чем было сравнить и сопоставить. Потому, как сказано, никто ничего не понял — слышали, изумились… и разошлись каждый своей дорогой.
Спустившись с горы, возчик снял тормоз или, проще сказать, вытащил пропущенный сквозь спицы задних колес дрын, швырнул его на обочину, взобрался на сиденье и с чистым сердцем хлестнул лошадей.
Что касается Нуты, то она, запавши между корзинами, обомлела и лежала зажмурившись. Потому что была ужасная трусиха. С заморскими принцессами это случается сплошь и рядом.
К тому же не было надобности торопиться. Нута имела сколь угодно времени, чтобы прийти в себя. Оставив внешние укрепления Вышгорода, миновав Новый мост, повозка задержалась у известного возчикам кабака под названием «За лужей». Природное явление, неразрывно связанное с почтенным питейным заведением, можно было лицезреть перед кабаком и в натуре.
Выглянув из прорехи в кибитке, Нута увидела распахнутую настежь и подбитую снизу надежным клином дверь — ни один безумец не смог бы затворить ход в питейное заведение. Разинутый зев его отдавал теплым тлетворным духом, в котором плавали размягченные голоса.
Помягчел, как видно, и возвратившийся из этого тумана возчик — немолодой мордатый дядька, без усов, но с бородой торчком и с сальными прядями за ушами. Мятую черную шапку толстого войлока он залихватски сдвинул на затылок.
— Вылазьте, барышня! — сказал возчик на удивление миролюбиво, когда обнаружил в повозке неожиданность. — Приехали.
— Отвезите меня в стан наследника Юлия, я заплачу, — возразила Нута. — Вот! — она протянула золотую заколку с камешком.
Ценность вещицы слегка окосевший дядька не мог определить, но явленный из кибитки рукав бархатного платья показался ему впечатляющим доводом в пользу таинственной незнакомки.
— А вы, барышня, часом не из немцев будете? — полюбопытствовал он, повертывая в заскорузлых пальцах блестящую вилочку.
Положительный ответ, вероятно, послужил бы достаточным оправданием загадочному появлению незнакомки. На свою беду Нута никакого ответа не дала, не подтвердила и не опровергла догадку возчика и этим его разочаровала. Отодвинувшись вглубь кибитки, она завозилась среди корзин.
— Поезжай в стан наследника. Скоро!
Обиженный возчик взобрался со второй попытки на козлы и тогда пробормотал себе в утешение:
— А все ж таки божья тварь!
С этим глубокомысленным соображением он и тронул. Однако роковая задержка — тот предварительный крюк за лужу, который понадобился возчику, чтобы заложить все остальные крюки, — эта задержка уже оказывала свое воздействие, ломая замыслы и разрушая надежды. На людных улицах ощущалось необычайное возбуждение, которое возчик по складу своего философического ума не склонен был замечать.
И все же пришлось ему сказать «тпру!». Люди сбегались, переговариваясь на ходу, оставляли лавки, чтобы завязнуть в быстро сбивавшейся толпе. Впереди на просторном перекрестке нескольких улиц горячился на скакуне пестро одетый мальчик в разрезной шляпе с перьями. Вероятно, сын боярский на службе у великого государя. Оказавшись в средоточии ожиданий, он испытывал живейшее удовольствие. Нагло покрикивал на людей, замахивался плеткой и вздымал коня на дыбы. И, не начиная читать грамоту, чего все ждали, приставил к губам рог и затрубил, терзая притихшую толпу самыми омерзительными и бессвязными звуками, какие тощий мальчишка пятнадцати лет способен извлечь из охотничьего рога. Наконец, он заголосил:
— Великий государь и великий князь Любомир Третий, Словании, Тишпака, Межени и иных земель обладатель, сегодня в год от воплощения господа нашего вседержителя Рода семьсот шестьдесят девятый, месяца рюина в четвертый день незадолго до полудня по соизволению божию скончался.
— Вы слышали, барышня? — хриплым полушепотом обратился возчик внутрь кибитки. Он и дальше считал нужным пересказывать барышне все, что сумел понять из пространных сообщений вестника. Всю эту жуть про рехнувшуюся заморскую принцессу, которая колдовским обычаем прошла сквозь стены, отравив предварительно свекра и почти отравив свекровь. Был зачитан еще один, отдельный указ, который ставил под сомнение наследственные права Юлия, и доводилась до народа нарочно высказанная воля покойного государя поставить на престол Святополка.
— Вот те раз! — повторял возчик себе. И когда обескураженная толпа как-то нехотя стала расходиться, не зная, что говорить и думать, тронул лошадей, за общегосударственными соображениями совершенно упустив из виду, что по одному из только что оглашенных указов городские ворота закрыты для въезда и выезда.
— Господин хороший! — окликнул он мальчишку на коне, который, важно пересматривая, прятал бумаги в сумку. Мальчишка оглянулся, нахмурившись, ибо не мог сразу сообразить, не содержит ли вольное обращение «господин хороший» чего-нибудь обидного для чести государева вестника и глашатая. — А что, барин, та сказанная государыня, заморская принцесса, супруга нашего наследника Юлия, которая сквозь землю ушла, не из немцев ли она будет?
— Дурак! — коротко выразился глашатай, хлестнув коня.
— Слушаюсь! — мудро ответил возчик.
Покрикивая на народ, он начал выворачивать на Крулевецкую улицу, продолжавшуюся за городской стеной той самой крулевецкой дорогой, что выводила на Аять к полевому стану Юлия. Однако короткий проезд к воротам был запружен громоздкими возами, телегами ломовых извозчиков с огромными колесами, колымагами, дрожками и двуколками. Все было забито до самой двойной башни, которая возвышалась над крышами, перекрывая своей громадой даже самые высокие, в три, в четыре жилья дома.
— Вот те раз! — удивился возчик и повернулся к задернутым полам кибитки. — Как это будем понимать, барышня?
Не получив ответа, он заглянул внутрь полотняного кузова. Большущая прореха наверху, обрамленная колыхающимися лохмотьями, давала достаточно света, чтобы можно было убедиться без тени сомнения: барышня исчезла. А размеры дыры, вполне, значит, подходящие, наводили на мысль, что туда она и прянула — к небу.
Нута слышала все и многое поняла. К тому же она догадывалась, кого называют немцем. Для слованина немец не только обитатель северо-западных лесов, но и вообще чужак. По буквальному смыслу слова — немой. Не понимающий человеческого языка. Причудливое существо, иногда безопасное и нелепое, иногда враждебное. Тот же самый смысл утонченные мессалоны вкладывали в слово варвар, называя так всех чужеземцев чохом, включая и слован.
Так что глубокомысленные изыскания возчика возникли не на пустом месте и не напрасно Нуту встревожили. Прыжок в пропасть, нервное потрясение перевернули все в ее душе, обнажив несвойственные ей прежде черты. Не заглядывая далеко вперед, с хладнокровием все потерявшего человека она принялась готовиться к побегу. Стащила с себя платье, собираясь закутаться в найденный в кибитке половик, но обнаружила, что изнанка дорогого бархата разительно отличается от лицевой стороны, и снова натянула то же платье, только навыворот. Так что получилось из принцессы нечто вполне несуразное и потому не вызывающее подозрений. Осталось только извлечь из ушей алмазные серьги, освободить от заколок и жемчужных нитей волосы да растрепать их, распустить по плечам, как у чернушки, подавальщицы из корчмы. Приспособила она к делу и половик — завернула на бедрах как поневу, то есть несшитую юбку, которая держится одним поясом. Напоследок Нута догадалась скинуть башмачки, стащила чулочки и сунула это все в пустую корзину — возчику на память.
Выкарабкавшись наружу через продранный бок кибитки, она протиснулась вдоль стены и попала в столпотворение, где приняли ее за свою, ничему не удивляясь. Скоро однако Нута вынуждена была осознать, что положение ее, в сущности, безнадежно. Можно ли выбраться из чужого города, не имея ни помощи, ни подсказки? Как разменять на звонкую монету припрятанные под юбкой драгоценности? Куда податься и кому довериться?
Она брела, не смея остановиться и присесть, едва поднимая глаза, чтобы осмотреться. Она давно проголодалась, но не замечала этого, равнодушно поглядывая на румяные расстегаи и кулебяки коробейников. Дурманящие запахи снеди наводили на мысль о чем-то забытом и теперь неважном.
К тому же выяснилось, что босиком далеко не уйдешь. Требуется немало изворотливости, когда на каждом шагу ощупываешь крошечной нежной ножкой камешки, кости, щепки и острые грани горшечных черепков. Нута заново осваивала науку терпения, а всякая наука постигается ведь не в один день.
И кажется, блуждала она по незнакомым улочкам долго — так ей представлялось, — а вышла туда же, где была: замкнув круг, снова увидела в просвете между домами знакомые очертания двойной Крулевецкой башни.
Неподалеку раздавались надсадные наигрыши волынки. Взбудораженная толпа принимала звуки за властный призыв бирючей и потому запрудила проход, стеснив и Нуту.
Волынщик оказался ладным чернявым юношей в пышной куртке с разрезными рукавами. Щеголеватую шляпу он забросил на ленте за спину. Когда народу собралось достаточно, он отнял от губ деревянное дуло волынки, отер его ладонью и с невинным любопытством оглядел встревоженные лица сограждан.
— Нравится? — доброжелательно спросил он, прихлопнув запавший мех, отчего волынка послушно вякнула. — Мне тоже. Звучная погудка, насыщенная и на два лада: если встряхнуть жалейку, лад переменится. — И он действительно встряхнул прилаженную к меху жалейку, чтобы порадовать зевак новым ладом. — Платил-то я за волынку, а получил две. Вот послушайте.
Обескураженный народ, не выказывая радости от удачного приобретения скомороха, стал расходиться. Так что вскоре утомленная Нута осталась перед чернявым волынщиком одна. В смирении ее, в том, как сносила она удручающие завывания расстроенных жалеек, заключалось нечто красноречивое. В сущности, все это время принцесса искала располагающее, открытое и смелое лицо. Теперь, когда она увидела волынщика, искать больше было нечего.
— Ну? — юноша глянул с насмешкой. — Плохо наше дело, я вижу. — Резко очерченный, страстной складки рот его менялся, выдавая подвижную натуру.
— Если мне никто не поможет, — прошептала Нута, оглянувшись, — я погибну.
Конечно, она говорила не совсем правильно, с явным мессалонским произношением, но юноша понял. И не особенно удивился. Он скорее насторожился и окинул девушку быстрым взглядом.
— Если мне не поможет никто! — озадаченно повторил он. — Почему именно никто? А если это будет не никто, а некто? Чем плохо? Вот послушай: если некто мне не поможет, я погибла. Я лично принял бы помощь и от того, и от другого. Но «некто», мне кажется, все же понадежней, чем «никто».
Лепель вернулся взором к крошечным замурзанным ножкам и опять задержался на подозрительном наряде из добротной, незаношенной ткани с вывернутыми наружу швами.
— Ты похожа на чокнутую принцессу, — подвел он итог своим наблюдениям.
— Да. Я принцесса Нута, — призналась она.
— Нута, — озадаченно повторил Лепель (ибо это был, конечно же, Лепель). — Ну не знаю… Не знаю, какая из тебя отравительница… но что касается меня…
Он оглянулся не без тревоги, и Нута, болезненно чуткая и настороженная, приблизилась на шажочек, словно желая юношу удержать. Лепель вздохнул, взял молодую женщину за руку и повел. Они свернули в вонючий тупик, превращенный в свалку. Зато здесь не было чужих глаз и городской гомон доносился заглушенно.
— Ну-ка, ну-ка! — пристроив волынку у стены, Лепель принялся вертеть молодую женщину, беззастенчиво ее ощупывая. Отвел волосы, обнажив шейку, обследовал пальчики с ухоженными ногтями и погладил нежные подушечки ладоней. Потом с какой-то необъяснимой строгостью велел прополоскать ногу в луже и присел, чтобы освидетельствовать ступню на предмет привычных мозолей. Разумеется, ему нетрудно было установить, что маленькая женщина никогда не ходила босиком.
Что оставалось неясным, так это дурачится Лепель или как? Может, он и сам этого не понимал, давно разучившись различать шутовство жизни и шутовство подмостков.
— Бесподобно, бесподобно! — со вкусом повторял он, не обращая внимания на блестевшие в глазах женщины слезы. И ухватил щиколотку так, что Нута привалилась к стене, потеряв равновесие. — Настоящая принцесса! Без подделки! Не то что предыдущая. Надо сказать, с одной принцессой я уже имел дело. Но что там была за принцесса — одно название! — он поднял глаза.
— Ворота закрыты, — сказала Нута, справившись со слезами, — а мне нужно к Юлию. Скорее нужно, скорее.
— А ведь принцесса! — воскликнул он вдруг, словно только сейчас это наконец понял.
Так он и сел на корточки перед Нутой, оставив в покое ножку. Только сейчас, кажется, он осознал в полной мере, что вертел в руках, тискал, ощупывал великую государыню, княгиню Нуту, задирал подол законной супруге наследника Юлия. И тогда сказал без всяких ужимок, совершенно серьезно (что, впрочем, само по себе походило на издевку):
— Вот за это уж точно голову снимут. Не те, так эти.
— Да-да, — закивала Нута. — Непременно. Я должна видеть Юлия. Скоро. — Она достала из-под грязной рогожной поневы пригоршню золотых украшений. — Вот!
— Княгиня Нута! — ахнул Лепель в который раз. — Снимут голову. Точно. И те, и эти.
Последнее соображение, однако, не помешало Лепелю принять золото и небрежно рассовать его по карманам.
— Пойдемте, государыня.
На соседней улочке юноша отыскал лавчонку, за открытой дверью которой вились мухи. Здесь вязала чулок старуха, а на прилавке стояли в горшочках закаменевшие сладости. Старуха зыркнула на девушку исподлобья — вполне равнодушно — и потом в обмен на серебряную монетку передала Лепелю ключ.
Разбитая лестница привела молодых людей в темный проход, где Лепель едва ли не на ощупь отыскал дверь и отомкнул ее.
— Но… но я не могу ждать, — с дрожью сказала Нута, оглядывая подозрительную коморку. В жизни своей не видела она ничего подобного: обшарпанные стены, когда-то побеленные, а теперь от этого еще более грязные; кровать без белья, колченогий стол, кувшин и таз с засохшими подонками.
А когда Лепель оставил Нуту одну и, грохоча по ступенькам, сбежал вниз, она заперлась на засов и вздрогнула от голосов… на потолке. Кто-то ходил по потолку.
Казалось, что ветхие половицы прогибались при каждом шаге. Если человек останавливался иной раз, то не иначе как из опасения провалиться. Они там, наверху, с похвальной осмотрительностью выбирали, куда ступить, но нисколько не выбирали выражений — голоса гремели и ссорились.
Устроив Нуту, доставив ей потом кое-что из еды, юноша вяло двинулся по крутой улице. Лепель вчера лишь попал в столицу и не знал толком, где искать раскиданных по свету товарищей. А дело выходило такое, что лишние голова и руки не помешали бы. Следовало, во всяком случае, переодеть княгиню, чтобы не собирать зевак ее маскарадным нарядом.
Задержавшись на этой мысли, Лепель задумчиво разглядывал щеголеватого всадника. Наряженный в ярко-желтое, красное и синее хорошенький мальчик этот, придворный чин, по видимости, из государевых комнатных жильцов, кричал по улицам указы, а теперь, упрятав бумаги и пустив поводья, ехал себе шагом, уставив высокомерный взор поверх толпы.
Пришлось ему, однако, спуститься взглядом, чтобы с изумлением обнаружить схватившего уздечку простолюдина. Не выпуская повод, Лепель сердечно поклонился. Придворный мальчишка залился краской.
— А что, господин мой, — доверительно зашептал Лепель, поманивая жильца наклониться, — точно ли по кабакам толкуют, что назначена, дескать, награда? — Он еще понизил голос и прикрыл рот ладонью: — За поимку высокопоставленной особы, которую не смею именовать.
Мальчишка нагнулся, но ни слова в ответ на жаркий шепот не вымолвил. Разлитая по лицу краска начала сменяться бледностью.
— Как верный подданный великих государей, — продолжал Лепель, не выпуская уздечку, — не могу оставаться в стороне в этот тяжкий для родины час. Прошу вас, господин глашатай…
— Господин жилец.
— …Господин жилец, проследовать за мной. Я имею важное сообщение.
— Нужно позвать стражу, — сказал всадник полуутвердительно и оглянулся, будто ожидая подсказки или помощи со стороны.
— Не нужно, — решительно заверил его Лепель. — Росточком принцесса не выше вас будет.
Всадник негодующе распрямился:
— Можешь сообщить, где находится княгиня Нута?
— Еще не время, — загадочно возразил Лепель, указывая глазами на близко подступивших зевак.
Жилец кивнул, с некоторой сухостью, впрочем, и позволил скомороху вести лошадь. Они свернули за угол к людному извозчичьему двору, окруженному со всех сторон постройками с навесным гульбищем.
— Это здесь? — не сдержался жилец, беспокойно оглядывая не внушавшее ему доверия место.
— Разумеется, нет, — успокоил его Лепель. — Мы только оставим лошадь и наберем воды.
Трудно было возразить против того и другого, мальчик нахмурился, но промолчал, и они передали жеребца на попечение замотанного служителя. Потом стали к колодцу, где дожидались очереди несколько конюхов, и Лепель, не теряя времени, занялся волынкой. Удаливши дуло, через которое надувают мех, он заткнул отверстие тряпицей, так же обошелся с одной из жалеек, а вторую вернул на место, сняв с нее камышовый пищик или, сказать, сопелку.
— Это зачем? — настороженно осведомился мальчик. Он чувствовал себя в мужицкой толпе скованно и оставался немногословен.
— Видите ли, господин жилец, — зашептал Лепель, — так удобнее наливать — через рожок. Сейчас я все покажу.
И, согласуя слова с делом, вручил волынку мальчишке, объяснив ему, как держать: воронкой рожка вверх. Затем Лепель кинул ведро в колодец и быстро выбрал его за перекинутую через большое деревянное колесо веревку.
Вода зажурчала в широкий раструб рожка, мех понемногу раздувался. Полведра хватило, чтобы волынка приятно округлилась и отяжелела. Оставшуюся в ведре воду Лепель передал кому-то из возчиков, и они пошли прочь под взглядами мужиков.
Больше мальчишка ничего не спрашивал — из гордости или из других соображений. И только уже на пороге гнусной лавчонки он остановился, взявшись за рукоять кинжала.
— Посмеешь провести меня — берегись! Я найду на тебя управу! Я жилец великой государыни Милицы!
— Несомненно, господин жилец, несомненно! — льстиво сказал Лепель. Он облился и запыхался, удерживая на животе там и здесь подтекающую волынку. — Это не займет много времени. Прошу вас сюда, на лестницу.
— Ты пойдешь вперед! — не выпуская кинжала, бросил мальчишка. Наверху, поотстав от спутника, он настороженно огляделся в мрачном темном проходе и обнажил клинок, крепко стиснув его узорчатую рукоять.
Лепель постучал в дверь ногой:
— Государыня! Откройте! Это я. И со мной гость.
В красивом лице мальчика отразилось смятение, когда он увидел отпрянувшую к грязному окну княгиню. Нуту совсем не знали в столице, но, надо думать, комнатный жилец Милицы достаточно наслушался разговоров о маленькой мессалонской принцессе, чтобы все чувства его взволновались при виде этих нахмуренных бровок и крошечных строгих губок.
Зацепив носком дверь, Лепель закрыл ее, а потом напомнил онемевшему жильцу:
— Снимите шляпу!
Малец дико глянул, сдернул шляпу и шагнул вперед, чтобы опуститься на колено.
— Государыня, простите, долг повелевает мне…
— Так-то лучше будет, — одобрил Лепель. Широко размахнувшись, он обрушил на голову мальца полновесный туго скрученный мех. От глухого, но впечатляющего удара придворный чин сунулся княгине под ноги и рухнул. Она не вскрикнула, только глаза расширились, округлившись.
— Раздевайтесь, принцесса, — сказал Лепель, — и чем скорее, тем лучше. Вы умеете ездить верхом?
— Верхом? — пальчики дрожали, завязочки путались.
— Да, на коне.
— Не уверена.
— Значит, умеете, — сказал Лепель, просматривая бумаги из сумки жильца. — А трубить в охотничий рог?.. Впрочем, рог я возьму на себя, а скакать уж вам придется самой. Раздевайтесь, принцесса, не тяните.
Лепель принялся разоблачать мальчика. Оставив его в коротких подштанниках, скоморох разрезал на полосы половик, служивший прежде Нуте поневой, связал полосы между собой и примотал жильца к кровати, уложив его навзничь. К тому времени несчастный очухался уже настолько, что пытался говорить, так что пришлось заткнуть ему рот кляпом. На глаза же пришлось накинуть тряпицу, ибо мальчишка оправился до такой степени, что способен был подглядывать за шуршавшей одеждами принцессой.
Подстегнутая ознобом, Нута торопилась, так же мало стесняясь Лепеля, как стеснялась бы чернокожего раба. А чернокожий раб, но совсем не евнух, подавая раздетой принцессе чулки, потом штаны и куртку, исподтишка дивился детским ее плечикам, трогательной, едва обозначившейся груди… Потом Лепель и вовсе перестал отворачиваться, поскольку принцесса нуждалась в помощи, запутавшись в завязках и застежках. С целомудренной нежностью он объяснил маленькой женщине нехитрую науку мужского наряда, задержавшись, быть может, на некоторых подробностях чуть дольше, чем требовали того обстоятельства. И не отказал себе в удовольствии самолично укротить буйные волосы Нуты, чтобы спрятать под шляпу. Остались только башмаки.
После того, как придворный наряд жильца пришелся принцессе впору, трудно было предвидеть, что крошечные ее ножки утонут в мальчишеских туфлях, как в лоханках. Сгоряча Нута готова была бежать и так, подволакивая башмаки, но Лепель остановил ее порыв.
— Отвернитесь, принцесса, — сказал он, задержавшись задумчивым взглядом на привязанном к кровати жильце.
Взять с него было уже нечего, кроме подштанников, потому Лепель их и стащил. Малец задергался и застонал, беспомощный перед надругательством, но сумел только одно: кое-как подвинул под путами руку и прикрыл горстью срам.
Полотно разорванных по швам подштанников пошло на портянки. Опустившись к ногам молодой женщины, Лепель ловко обмотал ее крошечные ступни, после чего башмаки сели плотно и можно было застегнуть пряжки.
Переодетая принцесса удивительно походила на мальчика. Пожалуй, она выглядела даже привлекательней, чем истинный хозяин пронзительных лимонных штанов и сиренево-вишневого, с белым исподом, кафтана.
Только этот свежеиспеченный хорошенький мальчик никак не мог справиться с ознобом, который прохватывал его временами так, что приходилось сжимать руки. Что, однако, не мешало ему слушать наставления Лепеля с напряженным вниманием.
— В воротах покажите это, — Лепель развертывал грамоты, изъятые у жильца. — Не больно-то убедительная бумага: указ об изменении порядка престолонаследия. Но вы там в долгие разговоры не вступайте, чуть что: пошел прочь, свинья! С дороги!
— Па-ашел прочь, свиння! — старательно повторяла принцесса.
— Так-так! Глаза сверкают… порядок. Я — гонец великой государыни Милицы в стан Юлия. И суешь ему в рожу грамоту.
Пока принцесса, наморщившись от усердия, разучивала подходящие к случаю ругательства, запас которых у нее, как выяснилось, был до смешного ограничен, распростертый на кровати малый глухо постанывал и подергивался тощим телом.
Спустившись с переодетой принцессой к извозчичьему двору, Лепель подсадил ее в седло и, приняв коня под уздцы, повел к воротам. Когда засверкали лезвия бердышей, он сказал ей тихо:
— Прощайте! Удачи! — и хлопнул коня по крупу, отчего Нута неловко мотнулась, ничего не успев ответить.
А может, она и думать забыла о юноше в тот самый миг, когда рассталась с ним, обращенная мыслями вперед, к заставе у башни.
Лепель не уходил. Он слышал взвинченно взлетающий голосок принцессы, которая остервенело, но однообразно бранилась, позабыв в волнении половину того, что пытался внушить ей наставник.
— Сучьи дети! Сучьи дети! — кричала она на всю улицу.
За неимением лучшего хватило и сучьих детей — в подбрюшье темной громады возникла солнечная расселина. Едва растворилась она настолько, чтобы пропустить всадника, как заслонилась тенью, и скоро застучали гулкие доски моста.
Лепель вздохнул. Он понурился и побрел, одинокий в своей унылой задумчивости. Столпотворение на улицах, несмолкающий гвалт, выставленные на всеобщее обозрение страсти и обыденный обман, который вводил в заблуждение всякого, кто готов обмануться, — весь этот праздник бестолковщины не доставлял ему сейчас утешения.
Потолкавшись в толпе около часа, он возвратился в лавку.
Наверху безмолвствовал привязанный к кровати жилец. Залитый водой пол подсыхал. Лепель развязал путы, отомкнул юноше рот и сказал:
— Свободен. Не знаю, конечно, насколько ты в свободе нуждаешься. Извини.
Онемело потягиваясь, юноша сел. Голый и тощий, прикрывая горстью срамное место, он не выглядел ни свободным, ни счастливым. Смазливое личико его с тонко очерченным, нежным подбородком, свежими девичьими губами осунулось… Да, лишенный покровов, придворный чин утратил значительную долю своего обаяния.
Молодые люди молчали: каждый имел собственные причины для уныния.
— Где моя одежда? — неверным голосом спросил тот, что голый.
— Ускакала в полуденные страны, — ответствовал тот, кому легко было шутить, — одетый.
— Как я пойду?
— Оденешь платье. Если принцессе не стыдно было носить такое, то тебе и подавно.
— Женское платье я не надену! — отшатнулся мальчишка.
Потом он самым позорный образом разревелся. И так, размазывая слезы, принялся выворачивать, прикидывать и натягивать узкое в стане платье. В роскошном, скроенном клиньями одеянии, мальчишка гляделся намного привлекательней, чем с этими своими проступающими под кожей ребрами.
— Ну вот. Все подумают, так и надо, — утешил его Лепель. — Да… подожди! — Пошарив в карманах, Лепель высыпал на стол сверкающие серьги, заколки и взялся за длинные волосы мальчика, которые следовало расчесать и уложить, чтобы придать этой красивой головке благообразный вид. — А спросят, где туфли, скажешь: потеряла.
Мальчишка ошалело глянул на подозрительно большие ступни, которые не скрывал даже раскидистый подол платья.
— Из принцесс ты будешь у меня третья, — сообщил скоморох.
Старуха в лавке сбилась со счета петель, когда, потупив взор, пылая нежными щечками, в блеске золота и драгоценностей скользнуло к выходу неземное виденье. Жужжали мухи.
— Оставь меня, — слезным голосом причитал мальчишка. Сгорая от стыда, он чувствовал на себе восхищенные взоры улицы. — Оставь меня, отстань! Я пойду один.
— Я пойду одна, — почтительно поправил его Лепель и, следуя пожеланию вельможной особы, отстал на десяток шагов.
Опустив голову, мальчишка припустился было бежать, но вынужден был придержать шаг, к несказанному ужасу обнаружив, что увлекает за собой порожденную из ничего толпу. Повсюду хлопали двери и ставни, народ запрудил дорогу — непонятно как распространившаяся молва опережала несчастного. Разнузданные разговоры смолкали, буйные головы смирялись, тронутые горестным видом принцессы.
И не нужно было искать стражу — она явилась сама. Конная и пешая. Дворяне в сукне и бархате и одетые в кожу кольчужники.
Закрывшись руками, принцесса остановилась.
— Великая государыня княгиня! — обнажив голову, проникновенно сказал дородный дворянин. — Но почему же вы босиком? Где ваши туфельки?
— Я… я… — залепетал мальчик, задыхаясь слезами, — я их потеряла.
Он безутешно разрыдался. И от этого жалости достойного зрелища небритые стражники бросились расчищать путь, грубостью своей искупая терзавшие их чувства. Принцесса размазывала слезы, смягченные сердца сердобольных слован трепетали. Тысячные толпы черного люда двинулись за несчастной и обездоленной отравительницей.
Исчез только благоразумный Лепель.
Княгиня Нута прискакала в войсковой стан на Аяти к исходу дня. Остановленная стражей, она свалилась на руки десятника и была опознана как женщина, как великая государыня и как Нута. Казалась, княгиня продиралась сквозь неведомые рогатки — на лице ее чернели, кровоточили свежие ссадины.
— Боже мой! — восклицал ошеломленный десятник, с боязливым состраданием придерживая молодую женщину на своей окованной железом груди.
Выбежал из шатра Юлий. Мгновение спустя он подхватил жену: мятая шляпа ее свалилась, распустив спутанные волосы, обнажилось разбитое, распухшее ухо. Зрачки Нуты расширились, обняв мужа за шею, она глядела в упор — лихорадочным, ищущим взором:
— Ты здесь? Ты жив? Здоров? Ничего не случилось? Все хорошо?
Спустив жену на ноги, он крепко ее обнял.