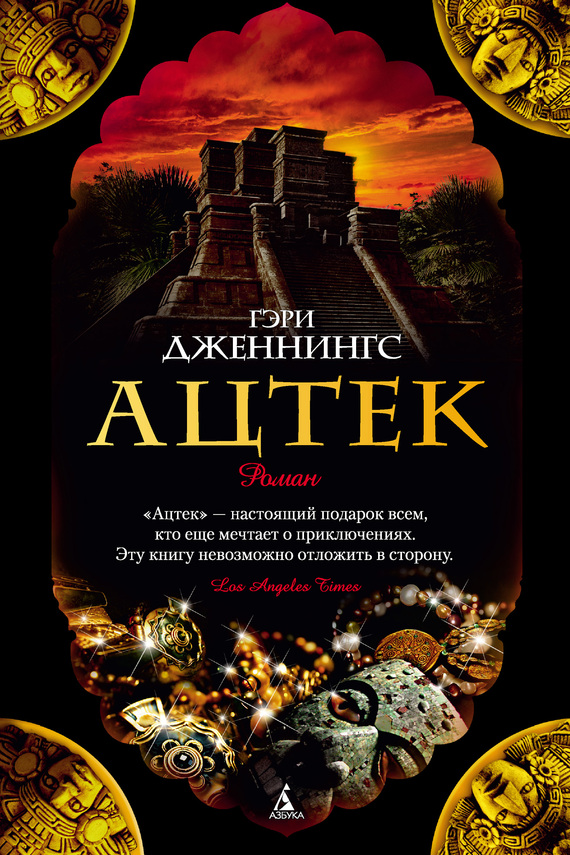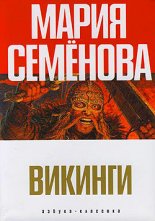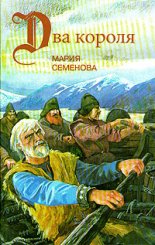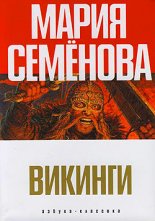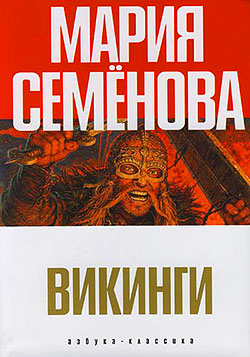Рождение волшебницы Маслюков Валентин

— Что такое? — спросил Лжевидохин не без тревоги.
— А чтоб ты провалился! — тихо выругалась Зимка — для подруги, а для всеобщего сведения объявила: — Я говорю ей, пусть скажет, где искрень! Как она его запускала!
— Затаскала? — переспросил чародей.
Зимка нежно приобняла подругу.
— Старый пень ничего не слышит, — сообщила она, ласкаясь. — Ты можешь сказать мне все-все-все! Отныне мы будем держаться вместе, не разлей вода. Как всегда было. Помнишь? А этот болван…
— Да-да, болван, — подхватил оборотень, препакостно хихикнув.
Зимка осеклась. Да и было с чего оторопеть, когда дряхлый старик принялся злобствовать с противоестественной для него силой: — Жалкая душонка! Холуй! Рабское отродье. Он забыл, что такое воля. Медный болван служил Паракону, а девчонка Паракон выбросила! У нас на глазах!
Удушливый приступ злобы едва не прикончил оборотня, он закашлял, пытаясь расталкивать едулопов, которые ревностно держали его на сложенных, как сиденье, руках.
— Напрасно ты так перед девчонкой лебезишь, она уже не опасна — она выкинула Паракон вместе со своим хотенчиком.
Золотинка потерянно пролепетала:
— Кому порывался… повиновался Порывай?
По-своему пораженная сообщением, отстранилась Зимка, глянула на подругу холодно и оценивающе.
Золотинка схватилась обожженной ладонью за лоб, пытаясь вспомнить, из чего состояла та остроумная игра с Порываем, которой она тешилась, воображая, что надула Рукосила… И — бросилась в следующее мгновение наутек, мимо столбом застывшего истукана во мрак подземного хода.
Поздно она спохватилась — Зимка уж была настороже.
— Держи! — крикнул оборотень.
Зимка послушно рванулась и, пролетев три шага, перехватила беглянку. После короткой борьбы обе оказались на камнях. Утомленная и ослабленная до изнеможения, с обожженными руками Золотинка внизу, а свежая, раскормленная и прыткая Зимка сверху. Стервенея от легкой победы, Зимка отвешивала сопернице оплеухи по-мужски, наотмашь. Избавление для Золотинки пришло с неожиданной стороны — хлынул свет, едулопы подтащили оборотня. Задыхаясь в тяжелом сиплом кряхтении, он навалился сверху на девиц, чем Зимку ошеломил, а Золотинку придавил вовсе. Полыхнул Асакон. Изнемогая в борьбе, Золотинка ударилась еще и затылком — противница ее вскричала благим матом, и сдавившая грудь тяжесть развалилась.
По крайней неразберихе вышло недоразумение: Зимка ударила саму себя с маху затылком о камни! Не в силах уразуметь, как это, находясь сверху, нанесла она себе поражение, девица взревела.
А получилось вот что: когда, не думая о последствиях, Зимка жестоко толкнула подругу на пол, Лжевидохин, озабоченный последствиями еще меньше, выпалил заклинание, коснувшись верхней девицы камнем, и в тот же миг Зимка обратилась в полнейшее подобие Золотинки — в Лжезолотинку. Случилось это тотчас после удара, то есть Зимка-Лжезолотинка, получив Золотинкин облик и тело ее со всеми синяками, ссадинами, жгучими болями и безмерной, обморочной слабостью, в полной мере — без малейшего послабления! — испытала последствия полученного мгновение назад удара!
Разница была только та, что Лжезолотинка от испуга и боли причитала и голосила, а Золотинка стиснула зубы, не издавая ни звука. Отпрянув друг от друга, обе поднялись, шатаясь.
Лжевидохин так их и различал: терпит настоящая, а ложная хнычет. Однако распорядился он без разбора, без малейшего уважения к прежним заслугам той, что хныкала.
— Хватай обеих! — прошамкал он едулопу, когда обнаружил, случайно оглянувшись, что медный болван неведомо чего ради пришел в движение. — Живо! Хватай и тащи!
Двое балбесов, носившие оборотня, принуждены были расцепиться. Отвратительный голый едулоп, этакая балда в три аршина без малого, цапнул девушек за локти и поволок, не обращая внимания, успевают ли они переставлять ноги.
Пошли. Впереди шагал однорукий факельщик. Следом горбатый короткоголовый остолоп с поросшей вдоль хребта гривой: он нес на руках Лжевидохина и сипел от усердия — грузный старик тянул, как никак, пудов на восемь. И далее уже, впритык к гривастому, буро-зеленый обалдуй волочил сбившихся с шагу девчонок, одна из которых беспрестанно причитала.
И, наконец, несколько отставший Порывай, неизвестно что вобравший себе в голову медный человек. Который не повиновался теперь никому, не имел никакой воли и однако же, к безмерному удивлению чародея, вышел из неподвижности.
Порывай заметно отставал и скоро потерялся за поворотами, извещая о себе приглушенным скрипом. Похоже, он неуклонно повторял проделанный беглецами путь. В бездумном упорстве болвана и заключался ужас, нечто такое, что выводило Лжевидохина из себя, лишая его мужества. К тому же чародей забывался и временами переставал понимать, что происходит. Едулопы тащились тогда без всякого руководства, наугад и, попавши в тупик, останавливались.
В момент просветления Лжевидохин велел свернуть в затопленный подвал, где вода достигла девчонкам до пояса, отчего одна из них плаксиво заверещала, что не умеет плавать и что с нее довольно — пусть они ищут себе другую дуру.
Под водой обнаружились ступеньки, и, следуя указаниям оборотня, едулоп отомкнул тяжелую железную дверь, прикрытую с той стороны коверным пологом. Вся орда попала в длинный проход, с левой стороны которого тянулись полукруглые окна, выходившие на запад, в пропасть. С правого боку окнам противостоял ряд тяжеловесных каменных изваяний. Это был уже, очевидно, дворец, одно из нижних помещений Старых палат.
Дверь по распоряжению Лжевидохина снова заперли. К несчастью, оборотень не успел сообщить едулопам дальнейший замысел и обомлел, прикрыв глаза. В ярком дневном свете серое лицо его гляделось мертвенной маской с проваленными щеками и чрезмерно выпуклым, твердым лбом.
Едулопы топтались, не получая распоряжений. Однорукий факельщик держал торчком обгорелую палку, она чадила, горячая смола капала на пол. Другой обалдуй, с путаной гривой, изнемогал под тяжестью хрипевшего старика: по бурозеленой роже катился пот, носильщик пошатывался. Рослый балбес, который держал девушек, тупо глазел на мучения сородича. Едулопы безмолвствовали, не имея ни малейшей потребности обменяться мнениями.
Девчонки, которые нет-нет да и поглядывали друг на друга, презрительно фыркали при виде своего изнуренного и ободранного подобия. Обе подрагивали, переступая занемевшими ногами по ледяному полу.
— А если старый хрен даст дуба, — прошептала одна из Золотинок, обращаясь к напарнице наискось, по касательной, — слушай, я говорю, если откинет копыта… с него станется!., так эти твари, они нас сожрут, а?
Вторая Золотинка только хмыкнула: сожрут и поделом!
Прохваченный сердечной болью, оборотень застонал, слабо ворочаясь, и говорливая Золотинка испуганно на него покосилась.
— Брось! — взвинчено сказала она подруге. — Что толку дуться, когда нам обеим крышка, ты ж видишь… Как бы мы между собой ни ссорились, у нас с тобой много общего.
Тут они глянули друг на друга, словно пораженные справедливостью последнего соображения.
— Думаешь, я сама что-нибудь понимаю? — горячо продолжала говорливая. — Зачем это все старому хрычу понадобилось?.. Мне это не надо, во всяком случае. Мне и своего хватало… И слушай, в животе у тебя пусто. Ты когда ела? Так жрать хочется…
Слово «жрать» неизбежно обратило ее пугливый взор на плотоядную рожу балбеса — Золотинка осеклась. Верно, была она не только говорлива, обидчива и великодушна, но и чрезвычайно впечатлительна. А более всего непоследовательна. Страх смыкал ей уста, и страх понуждал говорить, молоть языком, не заботясь, куда вывезет.
— Ты такая тощая, слушай, — отметила она, имея, однако, в виду, свои собственные, недавно доставшиеся ей стати, — а икры… как у крестьянской бабы. Что ты молчишь?.. — начала она и вдруг переменилась, в розовом обгоревшем лице ее проглянуло нечто мечтательное: — Слушай, а это правда?.. Что хозяин говорит насчет наследника?.. Что у тебя с Юлием, а? Скажи по совести?
— Заткнись! — прошипела вдруг Золотинка с такой внезапной, непримиримой злобой, что говорливое подобие ее не в шутку оскорбилось и замкнулось.
Жутко бухнула дверь.
До нутра прошибленные громовым раскатом, словно оказались они внутри гудящего колокола, обе Золотинки обмерли. И новый удар последовал после неспешного промежутка.
— Порывай! — сорвалась в крик Золотинка. — Рукосил здесь! Спаси меня!
Легкая заминка означала, что Порывай слушал… И снова принялся за сокрушительную работу, самая размеренность которой свидетельствовала о неколебимом упорстве. В полнейшей растерянности металась взглядом Зимка-Золотинка, позабывшая с испугу о спасительном сходстве со взывающей к Порываю подругой. Мутно очнулся Лжевидохин. А едулопы — сытые животные! — вздрагивали и слегка косились на ходившую ходуном дверь.
— Хозяин! — Зимка сделала шаг, но едулоп жестоко ее оборвал, дернул за руку так, что девушка едва устояла на ногах и умолкла.
Сыпалась каменная крошка.
— Порывай! — истошно вскричала тогда Зимка не своим голосом, то есть Золотинкиным. — Стой, Порывай, подожди! Они подсунули меня под дверь, связали и бросили!
— Неправда! — возопила Золотинка.
— Ничему не верь, не слушай! — подхватила Лжезолотинка тем же самым, без малейших отличий голосом. — Обвалишь на меня дверь!
Порывай приостановился.
— Я Золотинка, ломай! — надсаживалась Золотинка при равнодушном попустительстве едулопа.
— Не жалко, пусть! Вали на меня! Пусть я погибну, только никому не верь! — голосила Лжезолотинка.
При таком поразительном единодушии соперничающих между собой одинаковыми голосами Золотинок у медного болвана, и без того свихнувшегося, ум за разум зашел, он отвечал исполненной глухого недоумения тишиной. Еще громыхнул — не в полную силу — остановился. Потом за дверью послышалось томительной поскрипывание…
Истукан удалялся, хлюпала вода.
— Порывай! — вскричала Золотинка в отчаянии. И Зимка, полное Золотинкино подобие, заехала ей по губам ладонью — девушки сцепились, имея возможность пинаться ногами и поражать друг друга одной рукой.
Конец безобразной схватке положил несколько пришедший в себя Лжевидохин. Он прохрипел что-то вроде: цыц! А угрюмый зеленый балбес, что держал девушек, исполнил приказ в меру своего разумения: перехватил обеих за шиворот и так хлопнул друг о друга, что две Золотинки разом на некоторое время утратили дар речи и понятие о пространстве. Так что едулоп, покончив с основным недоразумением, вздернул их на ноги, чтобы возвратить к первоначальному положению.
Все дальнейшее произошло быстро.
Отпустив Зимку-Золотинку, едулоп подтащил Золотинку к черному каменному изваянию и прижал. Ставший на ноги чародей, обдавая тяжелым хриплым дыханием, с усилием поднял руку — полыхнул желтый свет.
Слова замерли на губах, от макушки до пят пронизало Золотинку необыкновенное ощущение: стали явными состав мышц и распоры костей — словно она увидела себя насквозь. Напрягая волю, она выдерживала чудовищное давление колдовской силы. Сопротивление лишь усиливало мучения, понуждая сложиться в коленях и пасть. И однако, она чувствовала, что всякий уступленный вершок будет потерян безвозвратно. Изнемогая, Золотинка заколебалась станом. И подалась вбок. Еще миг, казалось, и ускользнет из-под давящей, чуждой воли, воспрянет…
Но слишком она была слаба и измучена, чтобы сопротивляться давлению волшебного камня. Малодушие захватило ее, вот она поддалась, уступила еще, и вдруг пропали все ощущения разом.
В первый миг она восприняла это как облегчение. Она продолжала видеть. И слышать тоже. Даже яснее, чем прежде, но вместо тела, вместо мучительно явственных ощущений не стало ничего. Утратилась даже голова, мурашки по коже, тяжесть языка во рту, сожженные ладони — пропали любые, даже незначительные ощущения, которые дают представления о самом себе. У нее не стало тела.
Скованному ее взору предстал Видохин: он откуда-то вынырнул и так близко, что трудно было понять, почему не ощущается дыхания и запаха из его пасти, обрамленной гнилыми пнями зубов. Видохин отстранился, промелькнул едулоп, и появилось собственное Золотинкино подобие, которое и воззрилось на нее — скорее с испугом, чем с торжеством. Та Золотинка облизнула в растерянности губы, потрогала взъерошенное золото волос и кинулась бежать — вдогонку за всеми.
Болезненное сипение, вздохи, тяжкий топот едулопов, лепет босых девичьих ног по полу — все удалилось, закрылась дверь.
Напрягая слух, она разобрала далекое журчание воды. Не улавливая естественного напряжения, какое вызывает поворот глазного яблока в глазнице, Золотинка разглядела нечто чернеющее там, где у нее раньше был кончик собственного носа. Если нос у нее теперь и был, то совершенно черный.
Томительный ужас подкрадывался к ней исподволь. Безысходность… Полная невозможность пошевелиться и закричать.
И чувство времени, основанное на телесных ощущениях, тоже отсутствовало. Все, что можно было сказать: прошел неопределенный ряд мыслей. Долго это было или нет, Золотинка услышала грохот: что-то бухнуло раз-другой, задребезжало, медленно поднималась пыль. И появился истукан с тяжелой каменной глыбой в руках. Вот, значит, для чего он удалился, вовсе не обескураженный никакими сомнениями, — он искал увесистый таран, чтобы сокрушить железную дверь.
Медный болван остановился против Золотинки и выронил камень. Потом он ступил ближе, и стена и потолок взметнулись: все перевернулось и обвалилось перед ее глазами, так что она успела охватить взглядом часть коридора. И снова все тотчас же опрокинулось. Но Золотинка оставалась при этом совершенно неподвижна, она не знала чувства равновесия, не кружилась у нее голова и не захватывало дух при самых ошеломительных переворотах. На взор ее набежали мелькающие пятки болвана и растрескавшийся плиточный пол. Стало быть, она очутилась на плече у истукана.
Еще Золотинка успела отметить перемену там, где видела прежде ряд изваяний: одно из них, второе с краю, как выпавший зуб, исчезло. Оно очутилось на плече у Порывая. Золотинка и была этим изваянием. Она превратилась в статую. В ту высокую черную женщину с гладким животом и гладкими руками… что-то такое припоминалось. Трудно только было теперь сказать, были у статуи ноги или же каменные складки покрывала переходили в тяжелое круглое основание.
И недолго она обманывалась относительно намерений Порывая. Медный человек прихватил с собой статую не потому, что распознал скрытую в изящном художестве душу. Просто ему понадобилась крепкая твердая глыба, плотная и тяжелая. Это обнаружилось сразу, когда они дошли до конца коридора. Все взметнулось перед Золотинкой — грохот, пыль, Порываевы руки, грудь, мелькнул пролом. Они прошли сквозь стену! Она успела отметить свежий развал кирпичей и колеблющиеся в клубах пыли обрывки обоев.
С самого превращения Золотинку не оставляло состояние немотствующего изумления, тем более тягостного, что она не имела способа проявить себя и только схватывала все то, что подворачивалось взору: разливы вод, потекшие стены, потолки и пол, обломки разрушенных дверей, проломы, — хватало трех-четырех ударов, чтобы Порывай пробивал стену. Так они выломились во двор, где ровно шумели водопады. Случайный мажущий взгляд не открыл Золотинке людей и никого вообще, кроме дохлых едулопов. Она упала в воду и снова вынырнула.
Медный человек прихватил свой тяжелый пест и вернулся во дворец другим ходом. Предстали все те же разоренные, перевернутые вверх дном, положенные на бок, взлетающие и падающие покои. Местами Золотинка примечала прежние проломы и разбитые двери — Порывай кружил.
Потом он поднялся по лестнице, походя проломил простенок и вышиб дверь, все разметая перед собой, и снова прошествовал чередою затопленных покоев. Открылся обширный мусорный чердак; срываясь с пыльных балок целыми гроздьями, взметнулись летучие мыши.
В глубоких оконцах, прорезавших изнутри кровлю, случайный взгляд выхватывал краюшки расчерченного переплетом простора — повитую размочаленными прядями облаков лазурь.
Порывай ходил кругами, словно потерявшая след ищейка, и останавливался. Потом он взмахнул Золотинкой и с треском перешиб опорный столб в полтора обхвата толщиной — остро желтеющий излом напоминал собой перебитую кость чудовища. А разрушитель продолжал.
Неспешно двинувшись вдоль ряда поставленных по оси чердака опор, он расшибал их одним взмахом каменного песта. И принялся за стропила. Крыша трещала, оседая, с шумным шурханьем целыми пластами осыпалась по краю пролома черепица. Когда крыша обвалилась всей путаницей стропил прямо на Порывая, он разгреб завалы руками и каменным пестом и выломился на волю.
Над изломанными горбами осевшей кровли метались летучие мыши. А на самом перевале, на перекореженном коньке шатались и скользили с оборотнем на руках два голых балбеса. Как занесло их туда под самое небо, сознавал ли чародей сколько-нибудь ясно, где оказался?.. Видение мелькнуло и пропало.
Золотинка провалилась взором в мусор и опять взлетела. В кратчайший миг ей открылись далекие горы и склон с дорогой, по которой валили из крепости расстроенные толпы беглецов. И грязно-белое пятнышко среди людей — Поглум. Медведь ушел, и, значит, ушли все. И Юлий. И Нута. И воевода Чеглок. И Хилок Дракула. И Золотинкино подобие, Лжезолотинка. Все ушли…
И вдруг все кувыркнулось, Золотинка не успела понять, что падает, как резво крутнулась перед ней крыша, стена, водопады и небо. Она плюхнулась в воду, и вода сомкнулась над ней взбаламученной мутью. Еще посыпалось что-то, щебень и камни, на глаза навалился обломок стены. Золотинка почти не видела.
И долго, невозможно сказать, как долго, ничего не происходило, хотя она слышала разносившиеся под водой, бухающие удары. Понемногу поток очистился, по верхнему краю поля зрения побежали быстрые солнечные узоры. Вода, наверное, спала. Золотинка распознала кусочек густого вечернего неба. И что-то темное, необъятное рухнуло… Настала мгла.
Еще она разбирала изредка доносившееся громыхание… И опять что-то ухнуло — окончательно. Тишина окутала Золотинку. Ослепшая, она утратила теперь и слух.
Ничего не стало. Лишенный каких бы то ни было размерений глухой мрак.
Только замкнутая на саму себя мысль.
Бесконечное повторение одних и тех кругов.
Ни отрады, ни перемены, ни возбуждения… ибо и возбуждение выдыхается, когда нечем питаться.
Понемногу и неприметно мысль глохла, тускнела, стирались воображение и память. Раз за разом повторяясь, воображение исчерпывало себя, и становилась ненужной память, которую не к чему было применить.
Золотинка неотвратимо тупела, погружаясь в смутный и безразличный сон.
Не годы — всего лишь недели и месяцы понадобились для того, чтобы Золотинки не стало даже мыслью.
Она исчезла.
Книга четвёртая ПОБЕГ
Если это не была просто трусость, запоздалый испуг, то тогда совесть. Все же такое случилось с Зимкой первый раз. Первый раз в жизни она украла чужое естество — так резко, внезапно, чтобы не сказать грубо, сменила свое обличье и вместе с ним судьбу. Чутье подсказывало ей, что нужно задержать дыхание и замереть.
Устроившись на телеге среди узлов с золотом, которое поместили сюда по приказу Юлия так же, как и саму Зимку (звали ее теперь Золотинкой), она молча куталась в чужой плащ, скрывая чужие ноги, — в ссадинах, синяках и обожженные.
Телега скрипела и содрогалась на ухабах скверной горной дороги, что все падала и падала вниз, прижимаясь к лесистым склонам. За всяким поворотом возникали новые дали, и конца этому не предвиделось. Спереди и сзади глазу открывались вереницы ободранных, возбужденных людей. Потерявшие свои полки ратники; потные, измученные вельможи, что волоклись в общей куче пешком; обезумевшие женщины; неведомо чьи дети с голодными блестящими глазами — толпа. За недостатком лошадей, побитых градом в Каменце, награбленное имущество навьючили на себя. Но и плеч не хватало: брошенные утварь, посуда, ткани, одежда отмечали путь войска на десятки верст — от горных круч до лесных дебрей долины.
Погубленное зря богатство не волновало Зимку, и это само по себе уже наводило на размышления. Неестественное безразличие к брошенной под ноги парче, к грубо разломанному ларцу из слоновой кости можно было объяснить полученными от Золотинки свойствами. Неужто вместе с обличьем Зимка усвоила нечто и от душевного склада своей колобжегской подруги, нечто от ее дурной простоватости?
Сердце было у Зимки, во всяком случае, чужое, и оно сильно билось, когда подходил Юлий, неловко брался за грядку телеги. Распушенные ветром волосы его лохматились, небольшие страстной складки губы упрямились.
Зимка помалкивала, молчал и Юлий. Он шагал обок с телегой и время от времени с заметным принуждением, словно бы через силу, вскидывал глаза, чтобы глянуть. Зимка знала, что это значит. Оттого и сама терялась, не испытывая ни малейшего побуждения рассмеяться воздыхателю в лицо или свойски хлопнуть его по макушке, — то есть прибегнуть к одному из тех испытанных в любовных сражениях средств, которые обычно возвращали Зимке самообладание и радостную уверенность в себе.
Но их нельзя было уличить, ни Юлия, ни Золотинку. Просто Юлий шагал рядом… потом, не попрощавшись, не обронив ни слова, спешил вперед, чтобы догнать повозку жены, великой государыни Нуты. Зимка-Золотинка снова куталась в плащ и молчала.
И, надо сказать, благородная сдержанность выгодно отличала ее от Нуты. Великая государыня, девочка-жена, пребывала в беспрестанном лихорадочном возбуждении. Она болтала без умолку, разбавляя чудовищную смесь слованского с мессалонским коротенькими, к месту и не к месту, смешками. Она помахивала тоненькой ручкой издали и кричала нечто приветственное, до боли в сердце бодрое, когда замечала, что муж ее опять возле Золотинки. Бедная девочка-жена! Великая государыня. Она не смела даже ревновать. Ведь не всякий день кто-то спасает ей мужа! Да еще таким разудалым образом, как эта… как эта волшебница спасла Юлия. А ведь о подвиге знало все войско. И даже Зимка догадывалась, чутко прислушиваясь к разговорам. Она достаточно хорошо представляла себе, как именно, каким таким лихим, беззастенчивым приемом она спасла Юлия и возвратила ему сверх того дар речи.
Во тьме неведомого Зимке прошлого проступали подробности, а она молчала. Ушел, наконец, отвязался, оставив свои бестолковые намеки, голубой медведь Поглум. Огромный, забрызганный буро-зеленой тиной зверь, который заставлял толпу расступаться, тащил из разоренной крепости завернутую в ковер девушку с печальным взором. И вот ушел. Укутал свою добычу, прихватил лапой и полез в гору. Запрокинув головы, люди стали по всей дороге — медведь неспешно поднимался, цепляясь когтями за малейшие неровности скалы.
Не зная, как поддерживать затруднительные, чреватые опасными последствиями разговоры, Зимка училась разнообразить свое молчание — то внимательное, словно бы с поощрением, то недоумевающее, недоверчивое, то скучающее. Но и самое выразительное молчание не спасало ее от недоразумений.
— Три тысячи платьев! — загадочно приветствовал ее бородатый старик с унылым носом. Пошарив в памяти, Зимка узнала дворецкого из Каменца Хилка Дракулу. Признаться, она не удержалась и дико глянула. Старик помрачнел и отошел, то ли пристыженный, то ли оскорбленный.
Намеки и недомолвки изводили Зимку, лишали ее сна, и она, озлобляясь, возносилась в мечтах к тому вожделенному времени, когда — быть может! — получит возможность убрать с глаз долой каждого, кто посмеет изъясняться обиняками. Конечно же, если быть последовательным, то начинать надо было бы с Юлия — от него-то и следовало ожидать наиболее затруднительных недомолвок. Но так далеко — убрать Юлия — Зимка не заходила даже в самых необузданных своих мечтаниях, которым предавалась она в пути, потупив очи с видом благочестивой сосредоточенности.
Назойливость со стороны наследника к тому же ей как будто и не угрожала. Когда войско и весь тянувшийся за ним сброд достигли берега Белой и расположились на месте прежнего стана, где чернели погрузившиеся в воду остовы сожженных кораблей, Юлий надолго исчез, распорядившись напоследок поставить для волшебницы отдельный шатер.
Между тем табор обрастал людьми. Подтягивались, собирались отставшие. Что ни день, кажется, из дальних пределов под высокую руку наследника прибывали владетели с вооруженными послужильцами. Чуяли поживу, тянулись на дым костров купцы с кое-каким товаром. Торговцы, конечно же, нашли дорогу и к Золотинке. Но полное отсутствие готовизны, то есть звонкой монеты, отчеканенного должным образом, готового к оплате золота и серебра, заставляло Зимку пренебрежительно улыбаться, когда учтивые до приторности купцы принимались расхваливать товары царских достоинств и царских цен.
Зимка лишь улыбалась, не на шутку уязвленная и обеспокоенная неопределенностью своего положения. Юлию, похоже, и в голову не приходило, что молодой девушке нужны не только наряды, кров, хлеб, но и деньги, деньги…
Или вот еще незадача.
— Скажите барышне: Елизар Пятой. Да, так и скажите: Елизар, мол, Пятой. Барышня тотчас меня примут.
Так говорил у входа в шатер обладатель зычного простуженного голоса, который вызывал в воображении небритые щеки и грязные сапоги. Зимка хотела отказать, но вспомнила, что простуженный голос, хотя и знаменует собой сомнительное во всех смыслах знакомство, никак не может послужить ее, Зимкиному, умалению, потому что простуженный голос, небритые щеки и грязные сапоги ищут встречи с Золотинкой. И не ей, Зимке, заботиться о чужой нравственности. К тому же, по правде говоря, одетая и причесанная, она второй час валялась на ковровом ложе, изнывая от безделья. Она крикнула, чтобы пустили.
Так оно все и оказалось: мужиковатый проситель остановился, глянув на свои замызганные сапоги. Приятно удивленная собственной проницательностью, Зимка, надо сказать, ничего иного, кроме засохшей глины на сапогах, в памяти не удержала. Уже четверть часа спустя она не узнала бы в толпе средней руки ратников заурядного этого лица и даже отчетливо возглашенное простуженным голосом имя пропало для Зимки бесследно.
— Готово, барышня! — развязно сказал мужичок после недолгого смущения и даже как будто бы подмигнул.
Из-под полы кафтана выскользнула плоская золотая цепь… она влекла за собой изумруд необычайных размеров, помещенный в венок золотых листьев. Зимка приподнялась на ложе, сообразив, что имеет дело с очень дорогой вещью.
И вправду, она не ошибалась. Зимка нисколько не преувеличивала достоинств предъявленного ей товара. Но тут-то как раз и таилась опасность, которую она не в силах была предусмотреть. Та именно опасность, что Зимка никак не преувеличивала. Нисколько. Ей не хватало для этого ни воображения, ни размаха мысли. А ведь никакие преувеличения не покажутся чрезмерны, если первый попавшийся проходимец, хитровато ухмыляясь, предлагает тебе Сорокон — один из величайший волшебных камней, которые когда-либо знало человечество.
Увы! Этим Зимка и отличалась от человечества — она не знала. Не обронив ни слова, она протянула руку и взяла цепь, достаточно увесистую, чтобы потянуть на дюжину-другую червонцев. Без стоимости изумруда, разумеется, которую Зимка не могла определить даже приблизительно.
— Сколько? — спросила она только для того, чтобы отказаться. Но бывалый мужичок не дал ей такой возможности.
— Как договорились, — ответствовал он, поставив Зимку в тупик.
— Но это много, — подумав, выкрутилась она.
— Помилуйте, барышня!
Мужичок нахмурился. А Зимка не могла позволить себе даже этого, она ограничилась кислой полуулыбкой:
— Хорошо. Но у меня нет сейчас на руках всей суммы.
— Хотя бы половину на первый раз.
— А сколько ты считаешь за половину?
Он укоризненно глянул:
— Половина, барышня, это когда сговоренная сумма поделена на две равные части.
— А если поделить на неравные?
— Восемьдесят червонцев на первый случай.
И мужичок хитро прищурился в ожидании дальнейших препирательств. Зимка же перевела дух, прояснив хотя бы что-то о цене.
— Ишь ты какой! — сказала она вполне бессмысленно. — Ладно… Давай. Придешь завтра за деньгами.
Оставшись одна, Зимка поскучнела и обозвала себя дурой. Цена представлялась ей чрезмерной, а назначенный срок — завтра — излишне определенным. Доходили ведь до нее разговоры, что большие люди, истинные вельможи, берут и не платят. Слушая эти сказки еще в отрочестве, Зимка замирала от сладостной веры в чудо. И вот теперь, когда самое необыкновенное и невозможное начало как будто свершаться, она с горечью ощутила, что осталась в глубине души все той же мещанкой из Колобжега — не могла преодолеть в себе подлую привычку платить.
Она позвала одну из служанок, постарше, некрасивую блеклую женщину средних лет, которая внушала ей некоторое доверие глуповатым выражением лица, и велела позвать вчерашнего купца. Того самого, что приносил перстни, ожерелья и шкатулки.
Купец не замедлил явиться, и Зимка встретила его как спасителя. Этот исполненный достоинств человек поражал высокомудрым лбом, обширность которого находила естественное продолжение в залысинах. Недостаток волос сверху уравновешивался черной бородой по самые глаза и ноздри, так что в беспросветной чаще только изредка, при разговоре, посверкивали белые, плотоядные зубы.
— Сколько дашь за эту вещицу? — небрежно спросила Зимка, доставая волшебный камень Сорокон. Тяжелая цепь со звоном выскользнула, провиснув до пола.
Купец выразительно зыркнул и принял цепь:
— Вы хотите продать?… Вещь действительно редкая. Не стану скрывать.
— Еще бы ты посмел скрыть! — возмутилась Зимка.
Честный человек приложил руку к сердцу и сокрушенно вскинулся — мотнул головой, как испуганный оводом жеребец.
— Ты должен назначить настоящую цену. Самому в накладе не остаться, но… и заплатить, — остановила его Зимка.
— Сударыня! — истово воскликнул купец. — Вы исключительно верно подметили существо дела!
— Я не нуждаюсь в твоих… этих… Сколько?
Но купец только вздохнул и зачем-то вытер ладонь о черный с золотыми полосами кафтан, туго налитый сытым брюшком.
— Сколько? — вздохнул он еще раз. — Во всяком случае, больше того, что у меня есть в наличности.
— Я позову другого! — Зимка села. Слишком резко и зло, чтобы можно было усидеть долго. И вправду, она тут же встала.
— Позвольте еще раз глянуть, — покорно сказал купец, заново перебирая подвеску. — Если бы сударыня согласилась получить сумму по частям, — пробормотал он.
— Я согласна! — оборвала Зимка нетерпеливо.
— С рассрочкой на два месяца.
— Да господи боже мой — с рассрочкой! Черт с тобой! Сто червонцев на стол!
— Лады! — согласился купец вдруг с такой непостижимой легкостью, что Зимка как в пустоту провалилась.
На миг она ощутила, что кружится голова — глупость какая-то!
— Для вас, сударыня, я добуду сто червонцев уже к вечеру. Хотя бы мне пришлось разориться и закрыть лавочку.
Вечером того же дня высоколобый купец отсчитал Зимке сто червонцев готовизной, а она отдала ему за это величайший волшебный камень Сорокон. Пятьдесят червонцев она возвратила проходимцу, который доставил ей изумруд, и, не краснея, солгала, что больше нет. Очутились у нее большие деньги, звонкая монета, возникшая как бы из пустоты, из ничего. Что походило на чудо.
И нужно было готовиться, по видимости, к чудесам еще большим. Зимка ждала, изнывая в предположениях, испытывая муки болезненно возбужденных надежд, но не решалась ничего предпринимать, чтобы увидеть Юлия. За несколько дней она не собралась даже проведать Нуту — из опасения чего-нибудь сгоряча напутать. Чутье подсказывало ей, что нужно выждать.
Взвинченные чувства при утомительном безделье и неподвижности сказывались слезами. Они катились по щекам, когда Зимка украдкой бросала взгляд в зеркало. Изредка и ненароком поглядывала она, как вздымается томно грудь.
Насчет последнего, правда, хвалиться особенно не приходилось. Эти козьи груди, маленькие и острые, вызывали у Зимки какое-то жалостливое удивление, от которого пересыхали слезы. И потом эти резкие черты лица, суховатую определенность которых не искупали даже карие глазищи под густыми бровями… Зимка без колебаний отдавала предпочтение самой себе — той ядреной, бойкой красавице, которая исчезла по манию чародея. Верно, тут было что-то и от ревности к своему-чужому обличью.
Забывшись у зеркала, она пребольно щипала чужую грудь, стиснув сосок, и крутила, заводила набок нос, чтобы унизить беззащитную Золотинкину плоть перед повелительным Зимкиным духом. В таком-то состоянии возле зеркала Юлий и застал Лжезолотинку, когда старшая служанка впустила княжича в шатер, а сама исчезла.
Полуденное солнце жгло красное полотно шатра, в его воспаленном полусвете Зимка и увидела юношу, жарко горящее лицо его…
О боже! Когда б он глядел так на нее, на Зимку, а не на подставленную вместо нее Золотинку с испуганными карими глазами! Горькое ощущение несправедливости заставило Зимку наморщиться, прикусив губу, и она воскликнула с неожиданной, пылкой искренностью:
— Как я это все ненавижу! Эти глаза, нос, рот!.. — она прихлопнула себя по щеке и, в надежде стряхнуть наваждение, яростно мотнула головой, рассыпая жаркое золото волос. — И всё, всё!
Взволнованным, но уже не совсем искренним жестом — он отдавал красивостью — Зимка стиснула грудь и прошлась по себе обирающим скольжением рук.
Ошеломленный, Юлий шагнул вперед в попытке следовать за девушкой, за каждым страстным словом ее и движением. Он не замечал преувеличенности, чтобы не сказать недобросовестности. Не только потому, что и собственные чувства его были чрезмерны, но и потому еще, что Зимка не совсем лгала. То была чудовищная смесь искренности и расчета, которая тем губительнее обольщает, что кажется правдивее самой правды.
И все это уж не имело значения: была ли Зимка искусна, ловка и убедительна или выказывала бросающуюся в глаза безвкусицу — раз подхвативши, судьба несла ее победным порывом. Дьявольское везение не исчерпало себя; что бы Зимка ни выкинула, она не могла себе повредить, все шло ей впрок, на пользу, все получалось вовремя и к месту, складывалось один к одному, ослепляя блеском удачи.
Юлий стоял, растерянный и безвольный. В руках он держал лаковую шкатулку, но, видно, забыл зачем. Если и хотел что сказать, то потерял мысль — ничтожную и лишнюю. Жаркие губы его приоткрылись.
И Зимка со сладостным испугом поняла: сейчас. Что-то сейчас будет. Она смешалась, позабыв кривляться. И ничего лучшего не могла сделать. Она опустила очи, чувствуя, что никакая сила не заставит ее взглянуть на юношу. Сердце стукнуло в груди так, что понадобилось опуститься на тахту.
А Юлий… чудилось, споткнулся, сделал неверный шаг — это можно было услышать… Не отводя от девушки взгляда, неловко и осторожно, словно опасаясь нарушить тишину, положил шкатулку на тахту. Потом попятился к выходу, не вымолвив ни единого слова с того самого момента, как вошел. Спохватившись, Зимка застигла взглядом лишь колыхание занавесок.
В резной шкатулке, что оставил Юлий, она обнаружила знакомую золотую цепь с большим изумрудом на подвеске. Ту самую, что продала купцу. Оборотистый торгаш, надо думать, предложил драгоценность государю, имея в виду выручить достаточно денег, чтобы расплатиться с Золотинкой.
— Чудеса, да и только! — пробормотала Зимка и мгновение спустя расхохоталась нездоровым, кликушеским смехом.
Больше она уж не плакала ни наедине с собой, ни на глазах служанок. Теперь она знала, что все в порядке.
Она надела дареную подвеску к платью с глубоким вырезом и покинула шатер, имея единственную цель пройтись по улице походного стана. Даже здесь, в этом сборище бездельно гомонивших вояк и смело вторивших им женщин, среди выпряженных повозок, бочек, сложенной на земле клади, среди копий, мечей и шлемов, среди пряных и дымных запахов, среди вони, которая отмечает скученное становище людей, — даже тут сверкающие волосы волшебницы вызывали восхищение. Разговоры смолкали при одном приближении Золотинки. Разнузданно реготавшие мужчины изъявляли свои чувства поспешными попытками привести в повиновение расслабленные жарой и вином конечности, снимали свои мятые шляпы. Женщины обращали к Золотинке улыбчивые лица. Никто не выказывал и тени зависти к ее превосходству, настолько разительному, что и речи не было, чтобы мериться.
По правде говоря, засидевшаяся в шатре Зимка и не ждала такого торжества. Скромно потупив взор — что не мешало ей с острым чувственным наслаждением впитывать токи благоговейного любопытства, — она прошлась до неправильных очертаний площади, где на высоком, как мачта, шесте полоскалось знамя Шереметов.
Она остановилась перед тройной голубой палаткой. Это было местопребывание княгини Нуты. Латник у входа вытянулся, но там, в закрытом шатре, никак не могли видеть волшебницу. И все же Зимка уловила за провисшими синими полотнищами переполох: взволнованные шепотки, лихорадочный шаг и потом — испуганная, растерянная тишина. Часовой у входа значительно тронул ус и еще раз, повторно, застыл, показывая, что молодцеватая стойка с отставленным в сторону бердышом нисколько его не затрудняет.
Меж раздвинутыми полами выглянуло бледное на солнце личико простоволосой девчушки. Понуждаемая лихорадочным шепотком у себя за спиной, сенная девушка выскочила из шатра и залепетала:
— Великая государыня всегда рада… Просит… видеть царевну-принцессу Золотинку…
Зимка немедленно вернулась, чтобы остаться у великой государыни насовсем. Вцепилась в нее самой требовательной дружбой, какую только может выдержать ослабший духом человек, и не отпускала. Едва ступив под синюю сень шатра, Зимка заговорила и больше не закрывала рта. Поначалу Нута силилась еще отвечать, но это неважно у нее выходило: запнется на пустячном замечании и смолкнет. Блеклое, с таким же синюшным, как у служанок, оттенком личико государыни казалось еще более мелким и незначительным, чем прежде. Слегка раскосые глазки ее, младенческий ротик приняли выражение обиженное и несчастное.
Под ноги ей подвинули низенькую скамейку, потому что в кресле обычных размеров мессалонская принцесса не доставала туфельками до земли. Нута вполне могла бы сойти за ребенка, за хорошенькую девочку, если бы не эта нелепая, неуклюжая шапка на голове. Мессалонский головной убор вызывал в воображении Зимки богато изукрашенный сосуд, ручкой которому служил свисавший на затылок и подобранный к основанию шапки язык бледно-лиловой ткани. Хватким веселым взглядом Зимка живо подметила нелепость Нутиного наряда и, как истинная подруга, не стала скрывать свое мнение.
— А что это у тебя на голове, мать?! — прыснула она вдруг. — Ну, даешь! Кулемой прикинулась. Нет, не пойдет так. Нужно что-нибудь такое… круглое… Не ведро, а, скорее, корзиночку. Гнездышко такое хорошенькое — вот что тебе пойдет!
Невзирая на слабую попытку сопротивления, она стащила Нутину шапку, бросила ее на покрытый сукном столик и взялась копаться в заколках плотно уложенных волос. Служанки Нуты, оставленные без руководства, почли за благо присоединиться к Золотинке. Общими трудами они распустили прическу и взялись все переиначивать.
— Ну вот! — удовлетворенно отстранилась Зимка. — Куда лучше. Это совсем другое дело.
Искусно переплетенный лентами и тесьмой платочек свисал на лоб и на уши прозрачными оборками, там и сям выбивались прядки черных волос. Самый облик Нуты переменился. Исчезло все напряженное, вымученное, что так впечатлило Зимку, когда она только вошла в шатер, и обозначилось нечто трогательное, прелестное такое и простодушное, маленькой девочке под стать.
Нута глядела в зеркало, которое держали перед ней служанки, и молчала, словно подыскивая возражения.
— И не гляди букой! — одернула ее Зимка. — Тебе это не идет. Тебе порхать надо, а ты букой!
Теперь понадобились кисточка и сурьма, чтобы подправить брови. Прежде бритые по мессалонскому образцу и слегка только подросшие, они гляделись блеклым, немного лишь посеревшим следом. Зимка щедро оттенила брови и прогнула дугой.
Немного погодя она принялась переставлять утварь, выказывая при этом немало вкуса и изобретательности. Стол отодвинула, громоздкий дорожный сундук велела выставить вон. Послала девушек за цветами, а вазы, одну и другую, устроила на покрытом сукном полу. И когда неожиданно для всех вошел Юлий — он и сам смутился, обнаружив здесь Золотинку, — она обняла Нуту и взяла ее за руку. Плотно обхватила, ощущая дрожь жилочек, отчаянную борьбу сердечка.
Но если Зимка держала Нуту, помогая ей не упасть, то некому было облегчить Юлию его трудное положение. Он пытался вести разговор, но запинался взглядом, наткнувшись на Золотинку там, где следовало ожидать Нуту, и тщился возвратиться глазами к жене. Стараясь не видеть никого, кроме Нуты, Юлий и в самом деле мало что видел — он ухитрился не заметить разительных перемен к лучшему, которые произошли в ее внешности. Ни слова не сказал о прическе и ушел, пробормотав напоследок что-то невразумительное. Отуманенные глаза Нуты блестели слезами.
А Зимка уже не выпускала подругу. И когда нежной своей рукой она угадывала учащенное биение крови, нечто бунтарское мерещилось в сильных толчках Нутиного сердечка… тогда целовала государыню в висок, еще лучше в шейку — в самую жилочку.
Скоро весь расползшийся по холму стан с бесчисленным уже обозом двинулся берегом Белой в столицу. По воде, в лодках, везли женщин, золото и припасы. Тут уж естественно было потесниться. Как только Зимка обнаружила, что супруги ночуют раздельно, залезла к Нуте в постель и там уютно устроилась.
Войско и весь разношерстный сброд тянулись короткими переходами не спеша. Говорили, что наследник писал отцу, великому государю Любомиру, и получил ответ, и что все недоразумения разрешились. В том смысле, вероятно, что великий государь Любомир и наследник Юлий обошли молчанием главную статью разногласий — Милицу. Но она была, великая мачеха. Разоблаченная ведьма, проклятый принародно оборотень. Она вернулась, воспользовавшись первой же оплошностью престарелого государя, чтобы возвратить себе его дряблое сердце и вместе с ним ложе, престол и власть.
Но вооруженные толпы, возраставшие в числе по мере того, как медлительный поход приближался к Толпеню, понимали намерения наследника как-то по-своему. Ничем иным нельзя было объяснить разудалое зубоскальство у костров, оскорбительные для чести Любомира и Милицы запевки и словечки — непонятно с чего возникшее ощущение победы в не бывшей еще битве.
Явственно ощущавшийся в войсках дух отваги замещал порядок. При всякой попытке распределить людей по полкам концы не сходились. Так, ставши у моста через реку, Юлий насчитал в течение часа четыре тысячи вооруженных людей, но во всех пяти наличных полках по отчетам начальников не набиралось и полутора тысяч ратников.
— Остальные миродеры. Бездомные собаки войны — миродеры, — сумрачно заметил Чеглок, наблюдая застеленную пылью дорогу.
— Как навести порядок? — повернулся Юлий к боярину Чеглоку.
Седой вельможа с обманчивой внешностью простоватого мужика — обширные щеки, нос картошкой, густые разросшиеся брови, которых никогда не касались щипчики цирюльника — имел готовый ответ:
— Повесить пятьдесят человек, государь.
— Почему ж именно пятьдесят?
— Вряд ли вам будет по силам повесить пятьсот.
Юлий вскинул глаза. Взгляд его выражал укор, которого даже Чеглок, давно огрузневший душой и телом царедворец, не мог не почувствовать. Впрочем, умение читать в сердцах государей всегда входило в число обязательных учебных предметов для придворных, а Чеглок уж был далеко не школьник. Последние дни и недели боярин присматривался к наследнику со все возрастающим удовольствием.
— Государь, — негромко молвил он, оглянувшись так, что полковники сразу же сообразили придержать коней, — государь, — повторил он, когда спутники отстали, — люди пойдут за вами, если поверят, что вы готовы идти до конца. Они ждут, что вы снимите с них груз сомнений, неопределенности, да и совести тоже. Да — совести. Это участь вождя — все принять на себя.
— Я понял. А кто снимет с меня мои грехи? Тяжесть преступлений, которую вы хотите на меня навьючить?
— Они и снимут.
— Кто?
— Да они же — толпа. Они простят вам все за успех.
Юлий сдернул светлую шапочку с пером, обмахнул испарину с лица и натянул шапочку снова, еще плотнее, на самый лоб.
— Чеглок! Я не буду воевать с собственным отцом. Ни при каких обстоятельствах.
— Я это уже понял, государь, — вздохнул Чеглок. Они встретились взглядами, юноша и матерый, почти седой мужчина: посмотрели так, словно не было между ними пропасти в тридцать лет. — Только прошу вас, государь, — молвил воевода, еще раз оглянувшись на отставших спутников, — не говорите об этом никому, кроме меня.
Юлий хмыкнул, не удивившись просьбе.