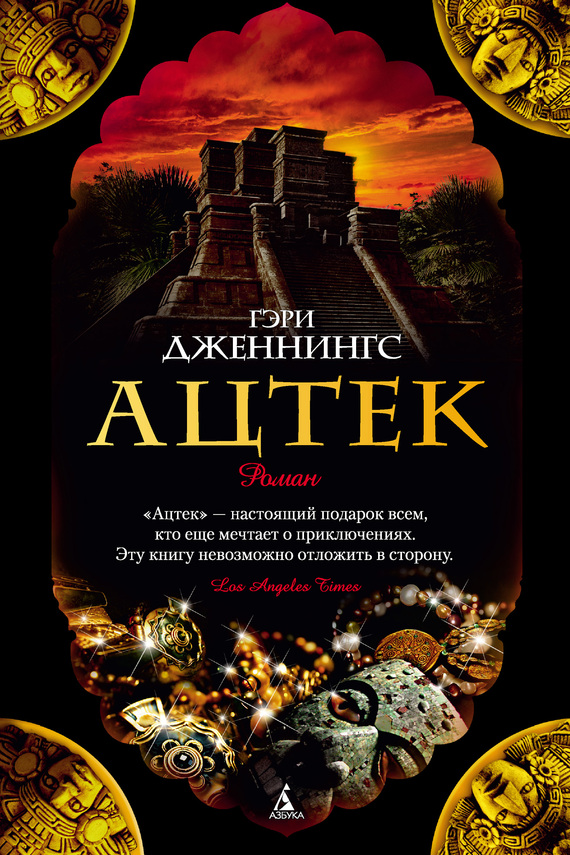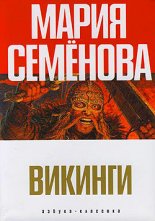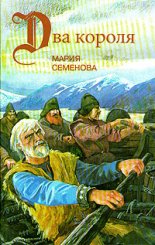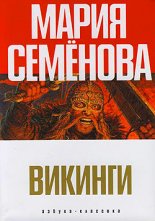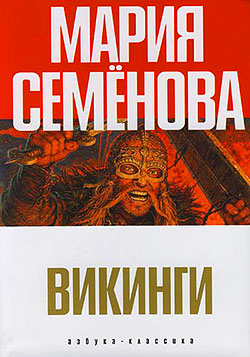Рождение волшебницы Маслюков Валентин

— Покажи.
На большом плотном листе бумаги разместилась нестройная шайка закорючек, среди которых при некотором воображении можно было распознать изображения человечков или частей тела: руки и ноги, головы, глаз, ухо, и наоборот — человечек без головы. Толпы закорюченных человечков перемежали всякие обиходные предметы, вроде топора, пыточной дыбы, виселицы, тюремных решеток, цепей.
— Но ты же хвастал, что никогда ничего не забываешь, — язвительно заметил Лжевидохин, приоткрыв расхлябанный рот.
— Пока что не забывал, — сдержанно отозвался Замор и потом, тщательно выговаривая слова, добавил: — Простите, государь, я не ослышался, вы сказали «о пигаликах»? Обо всех или об одном? — Лжевидохин молчал, затруднения судьи доставляли ему удовольствие. — О каком все ж таки распоряжении идет речь?.. Было распоряжение отделать пигалика Ислона, которого вы, государь, заподозрили в нечистой игре. Это распоряжение… оно исполнено, как его отменить? Тело я вывез на невльскую дорогу…
— Разве не было указания хватать всех пигаликов подряд? На заставах? — спросил Лжевидохин.
— Нет, государь, — отвечал Замор. В голосе его прозвучала несколько даже преувеличенная бестрепетность, с какой и должен встречать верный долгу служака выговор начальства.
— Ну и слава богу! — легко согласился Лжевидохин. — Тем более, что я такого распоряжения, сдается мне, и не давал. Искать надо пигалика Жихана, того, что сбежал от государыни из корчмы Шеробора.
— Уже распорядился, — склонил голову судья.
— Но без грубостей. Без этих ваших штучек. Вывернуться наизнанку, а найти.
— Вывернемся, — заверил судья без тени улыбки.
— И чтобы ни один волос с головы Жихана не упал.
На этот раз Замор отвечал без запинки:
— Головы мерзавцам поотрываю!
По всей видимости, усматривалась закономерная связь между необходимостью отрывать головы, чтобы уберечь волос, — ответ совершенно удовлетворил Лжевидохина.
— И сам за все ответишь!
— Это уж как водится.
— Я говорю, Жихан мне нужен живым или… только живым, — начиная раздражаться, возвысил слабый бабий голосок оборотень.
Однако Замор с легкомыслием здорового человека, который устает следить за причудами больного, позволил себе двусмысленность:
— Надеюсь, малыш отличается крепким сложением.
— Пошути у меня! — с обессиленной, но страшной злобой стукнул кулаком о поручень кресла Лжевидохин и так глянул своими гнилыми глазками, что судья не отозвался на этот раз ни единым словом, даже утвердительным, а только вытянулся, тотчас растеряв всякие признаки игривости, если можно было усмотреть таковые в его предыдущих замечаниях.
— Теперь принцесса Нута. Что она?
— Ничего не ест.
— Ну, этой вашей жратвой и пес бы побрезговал.
— Прикажете улучшить содержание? — спросил Замор без тени недоумения, с подобострастием.
— Посмотрим… Давай Нуту, — велел Лжевидохин, не обращая больше внимания на собеседника.
— Прикажете проявить почтение? — остановился тот на пороге.
— Когда ты научишься проявлять меру, а, Замор? Мера — основание всех вещей.
— Хотел бы я знать, где мне ее найти, эту меру — при моих-то делах?! — пробормотал тот, но эту дерзость приберег уже для себя — когда переступил порог и наглухо закрыл дверь.
Маленькая принцесса не особенно переменилась, если не считать ржавой цепи на ногах: все то же посконное платьице и передничек, в каких застало ее нашествие великой государыни Золотинки на корчму Шеробора. Разве что волосы слежались — ни расчесать, ни помыть в темнице, да потерялась лента.
Поставленная пред очи грозного чародея, Нута глядела без страха и без вызова, она, кажется, не совсем даже и понимала, что перед ней великий чародей. Повелитель Словании, покоритель Тишпака и Амдо представлялся ей дряхлым, вызывающим жалость старичком. Лжевидохин оглядывал маленькую женщину с любопытством.
— Почему цепь? — спросил он наконец, удостоив вниманием и Замора, и тотчас же перешел от вопроса к выводам: — Пошел вон, мерзавец!
Нечто неуловимое в детских губках Нуты открыло Лжевидохину всю меру постигшего маленькую принцессу превращения — она насмешливо улыбнулась! И тут же жалобно вздрогнула, испугавшись прянувшей ни с того ни с сего собаки.
— Фу! — отозвал пса чародей. — Мне доложили, — сказал он потом, оставив побоку предварительные заходы, — ты нынче говоришь только правду.
— Да, — подтвердила она тихо.
— После дворца?
— Прежде я была ужасно лживая, — сказала она, пожимая плечиками. Не знаю, что произошло, я больше не могу… тошнит от лжи.
— Ну, предположим, — пробормотал Лжевидохин. В повадке его не осталось ничего наигранного, и тот, кто мог бы наблюдать оборотня во время давешних его объяснений с Ананьей и Замором, заметил бы разницу: великий государь и великий чародей подобрался, стал суше и тверже, словно бы впервые встретил достойного хитрости и ума собеседника — это была Нута. — Предположим, — протянул он раздумчиво и опять цыкнул на собак, которые плотоядно, роняя слюну, глазели на маленькую женщину. — Но как ты полагаешь, это хорошо или плохо?
Нута помолчала…
— Я думаю, говорить правду всегда хорошо, — сказала она твердо.
— Независимо от последствий?
— Да.
— Ответственное заявление. Ты это понимаешь?
Она кивнула, но уже не так уверенно. Некое неясное беспокойство шевельнулось в ней в предвидении новых вопросов.
— Раз так, надо установить, что же такое «хорошо». Что ты считаешь благом? Смерть — это не благо. Ибо Род Вседержитель сказал: живите!
— Правильно.
— Однако правда всегда благо?
Нута лишь кивнула, она ждала, что дальше, предчувствуя ожидающие ее загадки.
— А если правда ведет к смерти, она благо?
Нута молчала. Нетрудно было понять, куда клонит оборотень, и потому она не стала говорить, что «если смерть ведет к правде, то…» и прочие представлявшиеся ей бесспорными соображения.
— Да… — сказала она вместо того без уверенности, — я зову людей во дворцы, хотя понимаю, что для большинства из них это непосильное испытание. Люди идут за мной…
— Вот ведь ты усомнилась! — с живостью перебил ее Лжевидохин. — Однако же когда ты проповедовала на площадях не повиноваться властям, то есть уговаривала людей лезть на рожон, когда ты увлекала за собой толпы доверчивых простаков, обещая им отпущение грехов, если они пойдут за тобой, ты не сомневалась тогда ни в чем. Люди потому и шли, что верили — ты знаешь ответ. Чудовищная, непобедимая самоуверенность твоя заражала истосковавшихся по вере людей. Да-да, именно так. Отними у тебя уверенность, и кто за тобой пойдет? Кого бы ты увлекла?.. Вот ты стоишь передо мной, сомневаясь… И знаешь почему?
— Почему?
— Потому что стоишь перед силой, которая может смять тебя в мгновение ока. А может оставить жизнь… для того, чтобы погрузить тебя в беспросветный мрак мучений, о которых ты по наивности не имеешь и представления. Вот почему! Потому что сила сильнее правды! Сила, а не правда, заставляет тебя сейчас взвешивать каждое слово и выбирать выражения. Но ты не выбирала выражений, когда взывала к толпе и опускала людей на колени. Слова текли из тебя вдохновенным потоком. Где они сейчас?
Торжествующая речь донельзя утомила старика, он тяжело дышал… потом сделал попытку подняться в кресле, слабо махнул рукой, словно цепляясь за ускользающую опору, и обмяк. Собаки насторожились и, обступив хозяина, неотрывно за ним следили. Едулопы, в медных кольчугах, с потухшими факелами в руках, стояли истуканами у стены, как заснули, хотя глаза их под низкими бровями оставались открыты.
Ничего не замечала, захваченная противоречиями, Нута.
— Вы говорите страх, — начала она после долгого промежутка; тихий голос ее удивил собак. — Вы говорите страх?.. — Лжевидохин ничего не говорил и полулежал, обронив голову на высокую спинку кресла. — Я-то как раз хочу освободить людей от страха… И не страх, нет не страх заставляет меня сейчас выбирать слова. Правда, правда заставляет меня терзаться. Иногда мне кажется, я взяла непосильную ношу… Это самое трудное: уберечься от сомнений. Самое мучительное. Но сомнения я беру себе, а людям даю веру.
Наконец и Нута заметила, что Лжевидохин ее не слышит, он, может быть, вздремнул. Нута не шевельнулась, занятая трудными мыслями, она недвижно стояла, задумавшись, и это спасло ее от собак и от едулопов.
Лжевидохин слабо встрепенулся. Вроде того как ненадолго заснувший человек. Задышал — и увидел перед собой узницу. Выражение лица женщины ничего не могло объяснить оборотню, и он с усилием прохрипел:
— Я хотел видеть тебя по одной единственной причине: мессалонские послы требуют свидания. Как видишь, я тоже иногда говорю правду.
Бледное личико принцессы омрачилось.
— Я никого не хочу видеть, — сказала она.
— Собственно, на родине у тебя, в Мессалонике, никто тебя не ждет. Так что послы пытаются сохранить лицо и только. Если же ты будешь избегать настырных соотечественников, то поставишь их в затруднительное положение.
Нута молчала.
— Я велю снять оковы.
— Они меня не беспокоят.
— Вот и врешь! Вот я тебя и поймал! — мелким бесом обрадовался Лжевидохин. — Видишь: невозможно удержаться, чтобы не соврать! Чем мельче, чем безразличнее повод, тем легче врать. Таковы люди!
Нута не возразила, и Лжевидохин продолжал с самодовольным смешком:
— Понятно, я могу представить тебя послам и в оковах. Ты ведь не станешь отрицать, что мутила народ. За такие вещи тебя не приветят ни здесь, ни там.
— Где Взметень? — спросила Нута. — Я никого не видела, с тех пор как ваши люди нас разлучили. Взметень и все остальные… они пошли за мной. Я увлекла их…
— И совратила, — негромко подсказал Лжевидохин, едва Нута замялась. Он поглядел на маленькую принцессу с застывшим, бесстрастным вниманием, словно имел основания ожидать от нее чего-то действительно занятного и приготовился ждать.
И Нута не выдержала:
— Если вы их не тронете. Обещаете отпустить. Я буду молчать с послами. Не буду жаловаться. И все такое.
Лжевидохин вышел из созерцательной неподвижности не прежде, чем Нута окончательно спуталась.
— Мне ничего не остается, как отвечать откровенностью на откровенность. Увы, Взметень и все остальные, как ты говоришь, они мертвы. Взметень убит. Его казнили как изменника. И остальные тоже — изменники.
Еще мгновение выдерживала Нута жуткий взгляд гниловатых глаз — и поникла.
Когда ее увели, Лжевидохин вспомнил Замора — и тот перед ним предстал. Вскоре затем в коридоре послышалось сдержанное смятение… и на пороге явился судья Приказа наружного наблюдения Ананья. Заморовы люди, что пытались остановить его, отстали и рассеялись, тогда как сам Замор, приостановившись, с холодным выражением опущенных уголками губ простер к двери руку, как бы представляя на суд государя непрошеного гостя.
Тщедушный тонконогий Ананья и деревянного сложения сухорукий Замор не обменялись при этом ни словом. На этот раз недолгое противостояние между тонконогим и сухоруким закончилось в пользу Ананьи. Замор, не имея более причины оставаться, вынужден был покинуть комнату.
— Государь! — с чувством воскликнул Ананья, едва убедился, что дверь плотно прикрыта. — Сообщение о блуждающем дворце!
Встрепенувшийся было Лжевидохин ожидал чего-то другого, ожидал так жадно и нетерпеливо, что не сразу сообразил значение новости. Разочарованный, он снова отвалился на кресло и позволил Ананье продолжать.
— Я счел необходимым немедленно разыскать вас, государь… — Ананья говорил все медленнее, останавливаясь в ожидании отклика. — Не знаю, успеем ли обложить подступы к дворцу войсками. Как далеко это? Понятно, пока разведчица не расколдована, у меня нет подробностей.
— Надо успеть, черт побери! — внезапно очнулся оборотень. — Поднять всех на ноги! Всех вверх ногами поставить! — и он, беспомощно дернувшись, оглянулся на едулопов-носильщиков: — Ну, вражьи дети! Взяли!
Новое рождение блуждающего дворца — где-то в предгорьях Меженного хребта — отозвалось по всей стране. Молва о межибожском явлении подняла уже не тысячи, а десятки тысяч возбужденных противоречивыми толками и безумной надеждой людей. По всем дорогам Словании устремились они к Межибожу, несмотря на объявленный накануне указ великого государя, который под страхом свирепых наказаний — виновного и всех его родственников в первом колене — запрещал разговоры о блуждающих дворцах и какие бы то ни было надежды.
Так что великий государь Могут узнал новость не первым; как ни велик он был и могуч, все же он был один, а народу — море. С опозданием на одиннадцать часов узнала о блуждающем дворце и Золотинка-пигалик.
Утреннее солнце нащупало открытую настежь дверь и щели окон неприметной лесной хижины, которая снаружи выглядела как буйный куст бузины. Свежая зелень, пробиваясь из старых бревенчатых стен, сплошь оплетала крышу серого от времени теса, зелень свисала занавесью над входом и прятала узкие волоковые оконца. Внутри крепко спал на ложе из мха пигалик.
Хитроумная волшебница Золотинка цветы обратила внутрь избушки, и они сплошным ковром покрывали подгнившие стены. Грозди винограда свисали над притолокой, груши, сливы и вишни отягощали прогнувшийся от времени потолок.
Прежде Золотинка не тратила себя на пустяки, и, видно, произошло что-то действительно важное, если она так разукрасила свое случайное убежище.
Золотинка не забывала последний разговор с Буяном. С тех пор, как она спустилась с гор в Слованию, не было, кажется, и часа, чтобы она не вспомнила о назначенном ей деянии. Мысль о необходимом и должном витала в снах и преследовала наяву. Мысль зрела, утверждаясь, как нечто непреложное. Теперь помыслы Золотинки обратились вперед, к неведомому городу Толпеню и Рукосиловой твердыне Вышгороду, и это был первый признак, что пора колебаний прошла.
…Белое перышко скользнуло в сумрак напоенной сладкими запахами избушки и щекочущим поцелуем коснулось щеки пигалика. Тот чихнул и открыл глаза.
— Здрасте! — сказала Золотинка, приветствуя перышко. — И доброе утро! — важно добавила она, приметив, как далеко перебралось за гнилой порожек солнце.
Перо бесшумно порхало, и пигалик, который не выносил безделья, осторожно поднявшись с моховой постели (всюду валялись опавшие ночью спелые плоды), оделся, сунул перышко за ухо и побежал к ручью умыться.
Кстати, выскочивший из куста бузины мальчишка нисколько на пигалика не походил. Это был коротко стриженный в скобку большеглазый круглолицый пастушок в посконных крестьянских штанах и такой же много раз латанной рубашонке. Так что не всякая ворона распознала бы оборотня на лету даже и с десяти шагов. Торопливо умывшись, Золотинка нарвала на косогоре большие лопушки мать-и-мачехи. Теперь достаточно было чиркнуть по листу волшебным камнем, а потом провести перышком, чтобы на зеленом бархате лопушка проступили ярко-синие строчки. Оглянувшись по сторонам, Золотинка взялась читать.
«Здравствуй, друг мой Жихан! — с мудрой осмотрительностью писал Буян. — Блуждающий дворец появился вчера месяца зарева во второй день в восьмом часу пополудни южнее города Межибожа в двадцати шести верстах. — Выпалив это сногсшибательное известие одним духом, Буян продолжал все так же торопливо и многословно, но уже спокойнее. — По-видимому, блуждающий дворец опять родился на крови — там, где среди обширных, на несколько верст посадок едулопов погибли сбившиеся с дороги дети.
И все же предположение о связи дворцов с местами острых людских страданий ставится у нас под сомнение. Кое-кто утверждает, что это противоречит целому ряду твердо установленных уже обстоятельств; что касается меня, я лично остаюсь при прежних своих воззрениях. Однако надо заметить, что шесть дворцов (Межибожский — шестой!) не дают еще оснований для безусловных выводов. К сожалению, не имею ни времени, ни права посвящать тебя в подробности научных споров, должен только сообщить для твоего личного сведения — совершенно доверительно, при строжайшей тайне, разумеется! — что некоторые знатоки вопроса ставят появление дворцов в прямую связь с полетами змея Смока. Змей, как ты знаешь, последние двадцать лет не покидает горного логова на вершинах Семиды, где, наверное, будет менять шкуру. Однако кое-какие редкие и невразумительные его полеты последних лет нами отслежены. Впрочем, уверен, что и в этом случае выводы делать рано.
Сейчас, когда я пишу тебе это письмо, в ночь на третий день зарева, нельзя сказать ничего определенного и об особенностях нового дворца под Межибожем. На этот час во дворце как будто бы никто не бывал, он растет последовательно, без потрясений, которые, как известно, сопровождают гибель проникших во дворец людей и пигаликов. Доступ ко дворцу затруднен зарослями молодых едулопов, которые окружают его со всех сторон, и это дает основания полагать, что в ближайшее время, в ближайшие дни, возможно, никто из случайных людей в него не попадет.
Наши лазутчики уже направлены ко дворцу, они будут на месте, вероятно, в течение суток. Однако они имеют указание во дворец не входить, если только не откроется никаких новых обстоятельств, которые дают надежду, что на этот раз обойдется без жертв. До сих пор — и это не поддается объяснению — дворцы выказывали полнейшую несовместимость с пигаликами. Из пяти разведчиков, что проникли внутрь, погибли пять.
По правде сказать, Жихан, — говорю это от своего имени, поскольку не имею полномочий Совета восьми — мы очень надеемся на тебя. Отчаянная нужда и тревожное положение в Словании вынуждают меня (без всяких полномочий со стороны Совета восьми) еще раз подтвердить, что, если бы ты попытался сделать все возможное, чтобы поспеть к дворцу до его развала и решился бы во дворец войти, я бы не стал отговаривать тебя от этой опаснейшей и, вообще говоря, возможно, — я думаю — безнадежной затеи. Должен также отметить для чистой совести, что в случае успеха (крайне сомнительного!) твой подвиг остался бы без какой бы то ни было награды со стороны Республики. Прежде всего, потому что ты действуешь самостоятельно, без поручения Совета восьми. И второе, что особенно важно, твой давешний побег крайне усугубил… — тут Золотинка не сдержала ухмылки, так и не приучив себя к добропорядочному лицемерию пигаликов, — …и без того тяжкую вину твою перед Республикой. Мы не можем поручить тебе исследование дворца, не можем потребовать у тебя отчета о проделанной работе, не можем просить об этом, но не можем, понятно, запретить тебе и то, и другое. Тем более, что ты и сам знаешь положение дел — прямо скажем, аховое.
Решение, разумеется, остается за тобой и только за тобой. Точное расположение дворца указано на приложенном к письму чертежу.
Должен также сказать, что если бы я действовал по поручению Совета восьми, то нашел бы, может быть, средство, чтобы облегчить тебе путь к Межибожу — время не терпит! К сожалению однако, я действую на свой страх и на свою ответственность, изрядно к тому же ограниченную с тех пор, как после твоего побега я был выведен из состава Совета восьми и в нем осталось вместо пятнадцати членов четырнадцать (мое место по-прежнему никем не занято). Так что могу только посоветовать тебе в частном порядке воспользоваться при случае помощью камарицкого лешего Крынка. Вряд ли ты сможешь его найти, если будешь нарочно разыскивать, другое дело, если заплутаешь, тут-то Крынк и явится, явится и нужда в помощи. Так что, коли встретишь ненароком лешего, передавай ему привет от Лопуна, это один из немногих пигаликов, который сумел найти общий язык с камарицким лешим и даже оказал ему кое-какие услуги. Может статься, в память о Лопуне Крынк быстро доставит тебя на южную окраину своих владений. В противном случае, если имя Лопуна на Крынка не подействует, не трать времени на уговоры и уноси ноги подобру-поздорову.
Как бы там ни было, решать тебе.
Желаю удачи.
Всегда помнящий тебя Буян. Целую».
Это был первый поцелуй, который Буян позволил себе за годы знакомства.
Мимолетные слезы проступили на глазах пигалика… Что нисколько не помешало ему тотчас же заняться делом. Он наскоро собрал холщовую котомку, отправив туда после недолгих колебаний и хотенчик — мало на что уже годную рогульку, которая хранила в себе бестолковое желание Юлия. Волшебный Эфремон, коснувшись стены, брызнул ядовитыми лучами — оплетающие избушку побеги тотчас пожухли, листья свернулись на глазах и почернели. Все было кончено в ничтожную долю часа, ничего не осталось от любовно ухоженного рукотворного сада.
В общем, оставалась только дорога, все тот же изнурительный бег без пристанища. На просторном лопушке мать-и-мачехи с помощью почтового перышка Золотинка развернула чертеж Камарицкого леса, чтобы присмотреть путь к его южным окраинам. Не так уж много, когда по прямой, верст пятьдесят, но этими дебрями, то гористыми чащами, то болотами — черт ногу сломит! Нужно было рассчитывать на два дня пути — в день не уложиться, а три уже невозможно! Да потом еще сто верст до Межибожа, и еще — двадцать до блуждающего дворца. По правде говоря, не много надежды успеть.
Разобравши один чертеж, Золотинка изготовила на другом лопушке новый — крупнее, с большими, более четкими подробностями. И озадаченно обернулась. Неприятное было ощущение, будто за спиной кто-то стоит и подглядывает через плечо. Вновь уставившись на чертеж, но уже слепо, она припомнила, что не раз ощущала нечто подобное — неразгаданный чужой взгляд.
Дремучий дремотный лес… лес глядел… Легкий насмешливый ветер побежал по вершинам. В который раз уже она чуяла чужого. Неуловимый запах лесной нежити. Золотинка неспешно подобрала брошенные на траву лопушки с чертежами, тщательно, даже тщательнее, чем нужно, свернула их и чиркнула Эфремоном, обращая в золу.
Сразу что-то закряхтело вверху, посыпалась древесная труха, словно дуб вздрогнул и шевельнулся толстыми своими ветвями. Глупо было притворяться и дальше. Золотинка глянула. И еще успела заметить большой корявый сук, который взбежал вверх по стволу, пытаясь спрятать свои сухощавые стати среди зелени. Замер, не желая признавать, что разоблачен. Это был долговязый, локтей десять, а то и двадцать в длину сук, похожий на чудовищных размеров кузнечика с нелепыми конечностями и крошечной головкой-сучком, на которой чернели глазки.
Едва Золотинка распознала прянувший от нее сук, как по счастливому наитию испуганно ахнула и хлопнулась наземь задом, выражая тем самым крайнюю степень изумления, какая только доступна пигалику. Леший, однако, коснел в притворстве, он замер, как может замереть только неживое, не волнуемое кровью, неодушевленное существо, и Золотинке ничего уже не оставалось, как вскрикнуть в голос:
— Крынк! Род Вседержитель, это Крынк!
Казалось, что и после этого отчаянного призыва к знакомству Крынк не выдаст себя, будет играть в прятки и дальше, может быть, врастет в дерево, действительно обратившись суком, — это ничего ему не стоило… Как вдруг он захрустел суставами и прямо с вершины дуба, где Золотинка с трудом его различала, прыгнул вниз, обернувшись в нечто чудовищно грузное. Земля так и ухнула, приняв на себя рослого, косая сажень в плечах, перекошенного и волосатого мужика в длинном сермяжном кафтане.
Голова у него сдвинулась на левое плечо. Налево же был запахнут перепоясанный красным кушаком кафтан, на волосатых ножищах перепутанные сапоги — правый на месте левого. Верзила-леший в два человеческих роста.
— Вам привет от Лопуна! — мужественно сказала Золотинка. Леший превышал пигалика в четыре или в пять раз — над сидящим малышом он возвышался жутковатой башней. — Привет от Лопуна! — пропищала она еще раз, полагая, что леший туговат на ухо.
На красной роже его, увенчанной острыми волчьими ушами, не отразилось ничего.
— Гы-ы! — косноязычно замычал Крынк, как деревенский дурачок. — Гы-ы! — негодующее ревел он, протягивая лапу в сторону почерневшей, совсем уж увядшей избушки.
И тут Золотинка сообразила, что, лихо расправившись со своим садом, совершила в глазах потрясенного лешего непростительное преступление. Крынк ожесточенно плюнул ей под ноги:
— Тьфу!
Свирепый вихрь развернул его на одной ноге, взметнув полы кафтана, леший взлетел, мгновенно распадаясь на клочья, — целый стог развеянной ветром листвы. И тот же завывающий вихрь подхватил Золотинку, бросил кувырком вниз — в бездну, только она и успела сообразить: падаю, в землю!
Грохнулась!
Она очухалась на дне глубокой ямы, вся засыпанная песком. Песок продолжал сыпаться с крутых откосов, а выше, над ямой, в потемневшем, иссиня-черном небе ходили ходуном могучие ветви дубов, ревела буря.
— Вот тебе и привет от Лопуна! — пробормотала Золотинка.
Однако нужно было выбираться как можно скорее. Она раздумывала недолго. В следующий миг в руках ее очутился хотенчик Юлия, который и рванул ее вверх, увлекая к собственному ее подобию в городе Толпене, к Золотинке Ложной. Оставалось только диву даваться силе слепого и неразумного влечения!
Едва она перевалилась через крутой край рытвины, обсыпая его вниз, едва поднялась на колени, вверху опять засвистало и тяжелый, как двадцать мешков с отрубями, мужик хлопнулся с небес наземь со всей яростью полоумного лешего.
— Гы-ы-ы! — проревел он и протянул мохнатую лапу… Целая вечность прошла, пока Крынк выдавил из себя второе слово: — Дай! — сказал он. — Дай!
Хотенчик, что скакал у Золотинки на привязи, ожившая палочка-рогулька поразила замшелое воображение лешего, который, понятное дело, имел особое пристрастие ко всему деревянному.
— Ишь ты! Самому надо, — пролепетал пигалик.
— Надо! Мне надо! — возразил Крынк с воем.
Золотинка быстро распознала грубую, простую и прямолинейную, что жердина, натуру лешего. Благодарность, как и прочие человеческие чувства, была ему неведома. Давать-то Крынку как раз ничего не стоило. Оттягивая ответ, она стащила с плеч котомку, вроде бы собравшись упрятать туда хотенчик, и тут узнала катавшиеся в котомке плоды: груши, яблоки и персики из избушки.
— Достань мне ветку персика, я вырежу тебе живую палочку. Такую же, — сказала она и, заметив натужное выражение дубоватой рожи, повторила еще раз, как глухому: — Персик. Дерево персик.
— Персик? — озаботился Крынк, несколько растеряв первоначальный напор. — Дерево персик — нет.
— Дерево персик растет на юге, — сказала Золотинка, небрежно махнув рукой в сторону Межибожа. — Он растет там, где много солнца.
Она извлекла из мешка персик, крупный, мясистый плод.
— Вот, — протянула она руку, бесстрашно ступая к лешему, и тут же, не договорив, ухнула в яму, как надломилась.
Такого коварства трудно было и ожидать. Персик вроде бы произвел впечатление на дуроломную голову — и тем не менее Золотинка опять в яме!
— Растет на юге! Где солнце! — крикнула она, не сдаваясь. Жуткое мгновение успела она пережить, ощущая, что сейчас вот рухнет сверху земля и раздавит могильной тяжестью…
Крынк повторил эхом:
— Где солнце! — засвистел, свиваясь вихрем, ветер, зашелестели, застонали, выгибаясь, верхушки деревьев.
А Золотинка уже послала к Толпеню глупого хотенчика, и он потянул ее больно режущей руку привязью. Она вскарабкалась наверх быстрей прежнего, но лешего не застала. Затихал убежавший на юг вихрь. И притих лес, смолкли запуганные птицы, разбежалось, опасаясь хозяйского гнева, зверье.
Золотинка прикинула направление к Межибожу — если уж бежать, так не теряя головы, — и пустилась быстрым торопливым шагом. Не прошло однако и четверти часа, как издалека зашумело и засвистало, буря закружила по лесу, выламывая ветки и опрокидывая деревья. Золотинка остановилась, прикрыв голову, и припала к траве. С поднебесья грохнулся все тот же краснорожий, скособоченный мужик.
— Где? — проревел он, вздымая новые вихри. — Нету!
Надо было понимать так, что Крынк уже побывал на южной окраине своих владений.
— Так ведь я как раз туда и иду! — обрадовалась она через силу. — Туда мне и надо. Давай покажу!
Дрожащими от спешки руками Золотинка развязала котомку, чтобы заранее достать персик; сунула его в зубы, снова перехватив завязки, — и накатила буря.
Умопомрачительный грохот, треск сокрушенных деревьев стиснули ей грудь, сломанные верхушки и целые стволы рушились на перекрученный бешеной завирухой орешник — некуда было бежать и прятаться. Золотинка, закусив персик за косточку, припала к земле трепещущим листочком, вихрь выжимал дыхание.
Плотный, сминающий бока вихрь смахнул ее с тверди, подбросил так, что не было уже ни верха, ни низа, спутались земля и небо. Судорожным комком кувыркалась Золотинка, то сдавленная до удушья, то раздираемая на части — ее распирало изнутри. Все смешалось, как первозданный хаос, ледяная бездна сжигала ее жестким, будто песок, ветром — ветер обдирал лицо. Казалось, выдуло из головы все, не осталось ни чувства, ни мысли, только бесконечная, беско-оне-е-е-е-ч-н-а-я, раздира-а-а-а-ю-ща-я-я каждую-ю-ю клеточку существа тряска…
Так Золотинка грянулась вниз и распростерлась на земле.
— Где? — ревел над нею скособоченный Крынк, и она уразумела, что ничего, на самом деле, не кончилось.
Крынк плюнул на Золотинку, отчего она ухнула в яму без задержки. Сокрушительные плевки следовали один за другим, земля проваливалась все глубже — не яма уже, но бездна! Она очутилась на дне пропасти, над ней клонились на вывернутых корнях готовые рухнуть деревья. Рука ее все еще сжимала развязанную котомку, в которой прощупывался запутанный в тесемках хотенчик, а все остальные вылетело. Нельзя было мешкать ни мгновения, но Золотинка силилась подать голос и не могла… пока не сообразила вытащить завязший в зубах плод.
— Да вот же он, вот! Провалиться мне на этом месте, если я его не нашел! — завопила Золотинка. — Вот персик!
Должно быть, Крынк услышал, потому она выиграла несколько мгновений. Сильным ударом лаптя она загнала косточку персика в песок и тотчас же обожгла его Эфремоном, чтобы немедленно наложить заклятие. Вольно или невольно она вложила в заговор весь свой душевный переполох, сдержанный только тисками рассудка, и росток ударил вверх сильной зеленой струйкой, листочки расправлялись на нем, что хлопушки, тоненькое деревце стремительно поднималось.
В страшной спешке Золотинка стянула через голову рубаху, вывернула ее наизнанку, то есть на левую сторону, и мигом натянула опять. Потом она схватилась за основательный уже, в руку толщиной стволик персика и начала карабкаться по ветвям, поднимаясь вместе с быстро растущим деревцем. Крынк плевал, но яма не углублялась, а деревце разрасталось.
Все ж таки Крынк уставал плевать, он надсадно хрипел и пусто харкал без слюны, а деревце, огромное уже дерево локтей двадцать в высоту, не уставало расти. Верхушка его — вся в цветах и в плодах! — победно вознеслась над краями провала, заполоняя собой все вокруг. И вот могучий персик вынес Золотинку на свет, и Крынк напрасно хрипел, от усилия весь багровый, всё «тьфу!» и «тьфу!» Бесплодная злоба лешего обратилась пересохшей желчью, и он отступил — измученный, ошеломленный и озадаченный. Кто знает, может быть, восхищенный.
Золотинка оказалась на спасительной тверди. Возможно, в дуроломной башке лешего совершалась трудная и важная работа — острые волчьи уши его шевелились, как бы пережевывая засевшую в голове мысль, но она не видела нужды дожидаться, что из этого выйдет. Вывернутая на левую сторону рубашка защищала ее от новых причуд лешего, а впереди, с южной, подсолнечной стороны, посветлевший лес обращался знойным, желтеющим полем — то были границы владений Крынка.
Золотинка заспешила к солнцу, сдерживая естественное желание бежать, и когда уж ступила за последние березки и осины, оглянулась.
— Привет от Лопуна! — крикнула Золотинка лесу, но никто не откликнулся.
И, сколько ни вглядывайся, не видно было ни скособоченного великана с волчьими ушами, ни безобразной проплешины, на которой буйствовал диковинный чужестранец персик, — все поглотил мягкий зеленый шум. Как не было.
Судя по всему, за какой-нибудь час Золотинка отмахала почти что пятьдесят верст — от избушки в дебрях Камарицкого леса до южных его пределов. Неплохо для начала. Впереди, однако, оставалось еще два раза по столько: верст сто до Межибожа. А если считать со всеми поворотами да немалый хвостик от Межибожа до блуждающего дворца — сто сорок, сто пятьдесят верст. Места тут были всё богатые, густо населенные и распаханные, с давно сведенными лесами, тут не полетишь кувырком через города и веси, всякие нахальные способы передвижения заказаны.
Золотинка прибавила шагу, благо осталась она налегке, без вещей: с пустой котомкой и даже без шапки — все растрясло над лесом. С высокого, поднятого над полями холма она увидела большую проезжую дорогу внизу и кресты у росстани… Обвисшие на крестах тела распятых едва угадывались. Она вздрогнула. Люди эти могли быть живы.
По разбитой дороге волочилась мужичья телега, пыльною вереницею брели калики перехожие в белых рубахах. Собака, что провожала телегу, пугливо оглядывалась на хозяина. Сбросив оцепенение, Золотинка скатилась вниз, под откос, и нашла на обочине дороги бессильно присевшую, изможденную голодом нищенку.
— Ничого не ведаю, внучок. Ничого. Старая я, старая, — подняла женщина голову.
Распятые на крестах люди, однако, давно уронили головы и были мертвы; в душном пыльном воздухе разило сладковатой вонью. С невольным облегчением Золотинка оставила позади кресты, прибавила шагу и догнала путников.
Из отрывочных замечаний, выразительных вздохов и восклицаний она мало-помалу уяснила, что распятые на крестах преступники были последователи еретического князя Света, под именем которого, как говорили, скрывался беглый монах из Сурожа. «Просветленные» проповедовали всеобщее возрождение, очищение от скверны, общность имущества, бескорыстие, братскую любовь и особенные свои надежды возлагали на Палаты Истины — блуждающие дворцы, которые должны были покрыть собой всю землю. Попутчики ее много чего знали об учении князя Света, но ничего не говорили и, значит, ничего не слышали о последнем дворце под Межибожем. Катившаяся с юга весть, выходит, не достигла здешних краев, и Золотинка опять прибавила шагу, обогнав уныло тащившуюся телегу.
Необыкновенная, целеустремленная резвость коренастого мальчишки в разбитых лаптях, конечно же, заставляла задуматься недолгих попутчиков и встречных. В деревнях, почуяв пигалика, трусливо брехали собаки, провожали Золотинку за околицу рассыпанной сторожкой стаей. Брошенные по страдной поре старухи и старики сурово глядели из-под руки, вспоминая, когда, дай бог памяти? видели последний раз пигалика и какие происходили потом несчастья. Но Золотинка понимала так, что дворец все спишет. Она спешила бегучим шагом и не могла придумать, как поспешать шибче. Чтобы успеть.
После полудня она решила остановиться. Наловила в озере пескарей — те прыгали прямо в подол рубахи. Разожгла в укромном овражке костерок, чтобы запечь рыбок, а потом забралась в чащу лесного острова и легла спать, полагая, что ночь, может быть, более удачливое время для торопливых пигаликов. Авось что-нибудь и придумается. Она поднялась до полуночи, в темный безлунный час и, пока доедала запеченных давеча пескарей, задумчиво вслушивалась в далекий собачий лай, которому вторили бродившие где-то недалеко волки.
В эти смутные времена, когда люди ожесточенно истребляли друг друга, доставляя обильную добычу стервятникам, волки покинули глухие дебри и держались поближе к жилью, к дорогам и пустошам — они хозяйничали в ночи. Выбравшись на дорогу, Золотинка остро ощутила, что осталась одна на свете. Вселенная опустела, люди скрылись за частоколами укрепленных усадеб, попрятались в свои домишки, наглухо закрыв двери и окна. А кто остался без пристанища, те сбились таборами возле костров, окруженных тьмой, — там, где терялся, уступая мраку, мерцающий красный свет, подступало ничейное царство нежити.
Золотинка не трусила, потому что и сама ощущала себя частью ночного мира, не была она беззащитна перед лицом затаившейся тьмы. И потом, проспавши зря шесть или семь часов, она не чувствовала себя вправе дожидаться луны, чтобы пуститься в путь. Дорога различалась как слабо светлеющий туман и терялась в пяти шагах, стоило только остановиться. Но Золотинка не останавливалась, потому похожая на туман дорога не кончалась, а разворачивалась все дальше и дальше — в безвыходный мрак, где жили в перевернутой бездне звезды, а все остальное лежало мертво и недвижно.
Нечто такое от мертвечины было и в завываниях волков, словно самая тьма выла — бездушно и бессмысленно. Но вот волки почуяли добычу и ожили, то есть смолкли. Оглянувшись, Золотинка уловила у себя за спиной бесшумные тени. Две… и уже три. Она остановилась — остановились и тени; она не видела их, но проницала внутренним оком на расстоянии ста или ста пятидесяти шагов.
Звери заколебались, угадывая неладное. Но и Золотинка не торопилась. Она достала последнюю из запеченных рыбок, понюхала ее, смачно чмокая губами, сказала сама себе: вкусно! и бросила приманку во тьму. Однако звери попятились, поджав хвосты, — этого нельзя было видеть, но Золотинка отчетливо уловила рассеянный в немой пустоте страх. Добыча смущала и сбивала волков с толку. За расстоянием Золотинка не могла еще завладеть их волей, нужно было набраться терпения и ждать.
Она неспешно сняла пустую котомку, нащупала на обочине траву, что-то вроде кустистого чернобыля, и принялась ее рвать, чтобы набить мешок. Осталось потом только перевязать горловину, и получилось довольно сносное седло.
Волки опасливо, с томительными остановками подкрадывались все ближе, и всякий раз, когда волшебница пробовала достать их щупальцами своей воли, пугались — дыбили на загривке шерсть и прижимали уши, замирая. Когда же Золотинка оставляла зверей в покое, то начинала робеть сама, потому что глаза и уши обманывали ее. Волки растворялись во тьме, и можно было воображать себе все, что угодно, — звери мерещились в десяти шагах, на расстоянии стремительного броска. Любопытство и более того алчность подталкивали их все ближе.
А Золотинка, стараясь отвлечь себя, сооружала упряжь из имеющегося в наличии — пояса, веревки и опять же котомки. Дело осталось за малым — оседлать волка. Чутко настороженный слух уловил мягкие шаги… Померещилось или нет, она раздвинула тьму внутренним зрением — волки, захваченные врасплох, шарахнулись дать деру, да не тут-то было! Полыхнул Эфремон, высвечивая, словно сжигая, каждую травинку и кустик, камешек на дороге, застывших в столбняке зверей, их вспыхнувшие безумным ужасом глаза и вздыбленную шерсть.
Поздно, голубчики! Сюда!
Обречено переставляя ноги, два матерых седых волка двинулись на повелительный зов, как деревянные. Третий исчез, ухитрился ускользнуть еще раньше. Но и двух хватит, прикинула Золотинка, она рассчитывала, что второй будет не лишним, — побежит рядом, как заводная лошадь, на перемену.
Начинать следовало, очевидно, с того, что крупнее. Золотинка возложила набитую травой котомку на болезненно подрагивающую спину серого и только завела под брюхо подпругу — мелко дрожащий зверь слабо дернулся, ноги подогнулись — и пал на дорогу, вытянув голову с разинутой пастью. Без дыхания. Сердце остановилось, поняла Золотинка, когда попыталась поднять слабодушного зверя на ноги. Скончался на месте от разрыва сердца. От избытка чрезмерно сильных впечатлений. Второй дрожал рядом, в трех шагах, и Золотинка испугалась, что может потерять и этого — похоже, и он был близок к обмороку.
Она накинула седло и некоторое время выждала, давая волку время освоиться с новым положением. Когда Золотинка, наскучив ждать, подтянула и завязала подпругу, а потом, вставив ногу в самодельное стремя, вскочила волку на спину, тот устоял. Она гикнула, ударила под брюхо пятками — и они помчались мягким, словно стелющимся над тьмой галопом.
Потом взошла луна и странствие на споро бегущем звере обнаружило свои приятные стороны. Залитые тусклым светом поля, темные гряды перелесков, немо застывшие деревни вносили известную новизну в утомительное однообразие скачки. Временами приходилось слезать с волка, чтобы поправить сбившееся набок седло, да нужно было неусыпно следить за направлением — вот, собственно, и все заботы. Золотинка никак не могла внушить ошалевшему зверю понятие юго-юго-запада, всякий раз он норовил свернуть к лесу, невзирая на то, что указывали звезды и луна.
На рассвете они выбежали к широкой возделанной долине, где приютился в речной излучине под горой уютных размеров городок. Выходило, что это как будто бы Межибож, хотя Золотинка испытывала подозрение, что невозможно на самом деле совершить столь точный, безошибочный бросок за сто верст ночной скачки через поля, ручьи, заболоченные луговины, леса и буераки.
В любом случае серого пора было отпустить. Золотинка расседлала волка, он сделал несколько неверных шагов, сразу же обессилевший, и, покачнувшись, рухнул. Следовало надеяться, что очухается.
Озаренный едва поднявшимся солнцем, в резкой чересполосице тени и света — сверкающих граней шпилей, башен и крыш, город казался рядом. Но теперь, когда Золотинка принуждена была полагаться только на собственные онемевшие от езды ноги, самые близкие расстояния слагались в нечто весьма заметное. Солнце уже сушило росу, и городские ворота растворились, впуская в себя нагруженные крестьянские возы, а Золотинка только-только еще спустилась к дороге, чтобы замешаться в толпу.
Тянувшиеся в город крестьяне ни о чем ином и не говорили, как о блуждающем дворце. Возбуждение проникло на погруженные в утреннюю тень улочки. Продвигаясь к торгу как средоточию городской жизни, Золотинка раз и другой должна была сторониться, пропуская озабоченно скачущих куда-то всадников, спозаранку уже вооруженных и в доспехах. Городская стража, все эти седобородые, толстые дядьки с похожими на орудие мясника бердышами, сосредоточилась возле корчмы, обычного, по видимости, места сбора на случай чрезвычайных обстоятельств.
На торгу, где продавцы и покупатели смешались, словно забыв, зачем они все сюда собрались, охрипшим голосом угрожал глашатай: «…Под страхом жестокого наказания! А буде кто этот наш, великого государя Могута, указ не слышит в своем малоумии, и того ослушника казнить смертию без всякого снисхождения!..» Угрозы великого Могута и его приказных мало занимали Золотинку, которая скромно пристроилась в задах толпы. Надобно было знать дорогу к блуждающему дворцу, то есть, вообще говоря, установить, куда же она все ж таки попала?
Что же ей было делать, дернуть за рукав зазевавшегося мужичка, чтобы ошарашить его вопросом: «Дяденька, а как называется этот город?» Чувство изящного, так тесно связанное с чувством меры, подсказывало Золотинке, что грубая любознательность со стороны замурзанного семилетнего сопляка едва ли будет правильно понята. Но невозможно было придумать ничего умнее. Оказывается, очевидное и само собой разумеющееся — это самая неуловимая вещь на свете. Напрасно Золотинка толкалась в толпе, потупив глаза и насторожив уши.
— Врешь! А вот и врешь! — тихо упорствовал худосочный мужичок с красноватыми больными глазами. — Что я тебе говорю: один на десять, да вынесет. Есть люди, знают. Слово знать надо. Золото и узорочье, платье. Одно платье восемьсот червонцев станет!
— Врешь — восемьсот червонцев! — тотчас же отзывался пойманный за руку прохожий. — Таких платьев-то отродясь не бывало! Что же оно, катаного золота, что ли?
Забыв, что мгновение назад еще он пытался вырваться от непрошеного собеседника, случайный прохожий — видать, из сапожников, в кожаном переднике — ждал объяснений. И готов был спорить, согласный, однако, принять всякий разумный довод.
Есть люди, что и выносят. Кому ведь как повезет. Одному на сто, или вообще одному из всех, но повезет. И иные, говорят, несметно обогатились, счастье гребли лопатой — вот что носилось в воздухе. И, если один на тысячу, то почему не я? Почему не я, если все прошлые потери, уроки жизни и тягостный, опускающий плечи опыт, если все это обернется вдруг ничего не значащим сном на пороге сулящего чудеса дворца. Молод ты или стар, болен или здоров, холоп или господин — что это значит перед лицом вступившего в жизнь чуда? Перед лицом великого равенства удачи?
Неужто счастье отвернулось от всесильных? От повелителей и господ, от преславного и вездесущего Могута, который недаром запугивает народ, пытаясь удержать его от губительного для власти избранных опыта?
Эта крамольная, ошеломительная в своей дерзости мысль бродила в разгоряченных противоречивыми толками головах, не вовсе еще усвоенная и принятая. Необыкновенное возбуждение заставляло обращаться друг к другу совершенно незнакомых людей, и оно же, то самое возбуждение, понуждало их удерживать при себе нечто особенно сокровенное — главное.
Казалось, что даже глашатай, в десятый раз повторявший безнадежным голосом все те же угрозы, предупреждения и увещевания, понимал, что никого уже ни от чего не удержишь. Понимала это выставленная у перевоза стража, назначенная никого не пускать на правый берег реки, где скрывался вдали за холмами «блазнительный обман рассудку», и возмещавшая свое бессилие бранью да колотушками. Можно ли перегородить реку? Люди находили лодки, не гнушались бочками и брусьем, дерзали вброд и вплавь. Они покидали город в одиночку, целыми семьями и ватагами.
Без затруднений переправившись на тот берег, Золотинка обнаружила, что по прибрежным лугам и ракитнику плутает немало случайного с виду народа. Здесь были и пришлые, не знающие дорогу люди, они не сторонились деревенского мальчика в лаптях и обращались к нему с расспросами. Так она и сама узнала, наконец, название города, который только что покинула. Это был не Межибож, а Дроков, расположенный верстах в тридцати ниже по течению реки Руты. Пробиравшийся вдоль реки народ понемногу выходил на дорогу, и здесь уже все топали в одну сторону, не скрываясь.
Тут можно было видеть мать с младенцем, верно, больным; бежавших из дому мальчишек, счастливых и взбудораженных своей преступной свободой; одиноких, себе на уме путников, которые намеренно держались наособицу; целые уже обозы состоятельных горожан — походные шатры на повозках, ковры и челядь; деревенскими мирами снялись с места крестьяне; и сами собой объявились в несчетном множестве нищие и нищенки; бродяги, мелкие воры и разбойники с большой дороги — они мирно следовали общим путем. Многоголовый, внушающий какое-то ожесточенное веселье исход.
Верстах в пяти или шести от Дрокова, там, где дорога, углубляясь в горы, вошла в каменистую теснину, дорогу перегородил конный разъезд. Полдюжины латников, которые без труда сдержали несколько пытавшихся объясниться путников, отвечая на вопросы вопросом:
— Куда прешь, скотина?!
Народ — кто прежде еще не догадался — безропотно поворачивал назад и, не особенно даже скрывая намерения, лез в гору, чтобы обойти заставу стороной. Вскарабкалась и Золотинка на заросший можжевельником косогор. Здесь, в чаще, в лесных дебрях, люди быстро теряли друг друга из виду. Четверть часа спустя, убедившись в полнейшем своем одиночестве, Золотинка нашла достаточно большой лопушок и восстановила на нем чертеж окрестностей Межибожа, который прислал ей Буян. Теперь она могла определить свое местоположение достаточно точно, и не было надобности полагаться на чужие суждения. Следовало, по-видимому, пробираться далее напрямую, избегая больших дорог.
Ближе к полудню Золотинка оказалась в неглубоком ущелье, по дну которого бежал бурный мутный ручей, и должна была следовать проложенной по склону козьей тропой, повторяя все ее повороты. Протянувшееся верст на десять ущелье опять завело ее в сторону от цели, на юг и даже юго-восток, влево от истинного направления и кончилось отвесной стеной. Тропа ныряла под высокую голую скалу и там терялась, во что, однако, не хотелось верить. Золотинка давно уже подумывала о привале, искала только укромного убежища, где можно было бы расположиться на дневку. Она прихрамывала — новые как будто бы лапти быстро разлезлись на камнях, еще быстрее рвались намотанные под лапти онучи, левой ногой она чувствовала острые неровности тропы и щебень. Изнурительное солнце колом стояло над каменной западней ущелья.
Но тропа действительно продолжалась — узкой полочкой под скалой. Неверно ступая от усталости, Золотинка придерживалась за камни и с отупелым бесстрастием взирала в отвесную пропасть саженей две или три глубиной, на дне которой бурлила быстрая шумная вода. В воздухе тянуло свежестью разбитых водопадом брызг, ручей низвергался где-то рядом, за поворотом, и оттуда… доносились невнятные человеческие голоса. Совсем не мирные голоса… они становились громче, но не более прежнего понятные по мере того, как Золотинка продвигалась вокруг скалы, не имея возможности уклониться от встречи.
По мокрому скользкому склону рядом с водопадом тропа вывернула в узкий, похожий на щель подъем, и взору открылась — словно не было за спиной ущелья — широкая, поросшая лиственным лесом пустошь. На желтом от цветов лугу у ручья сорная зелень покрывала развалины крупного красного камня — одинокая усадьба или небольшой замок, от которого уцелела теперь лишь тонкая угловая башенка, которую поддерживали остатки обвалившихся стен. Вокруг этой-то башенки и собралось человек тридцать-сорок разношерстного люда, в которых Золотинка безошибочно признала искателей блуждающего дворца.
Сначала она так и решила, слегка оторопев, что эти развалины, эта куча камней и есть дворец… В чем, впрочем, не трудно было и усомниться.
— Вылезай, тебе говорят! — кричали горлопаны, обращаясь к вершине тонкой башни. На Золотинку, надо сказать, никто и не глянул — мальчишкой больше, мальчишкой меньше! Все взоры притягивала к себе ветхая, полусгнившая кровля. Хотя ничего примечательного там, наверху, не виднелось.
— Может, будем в прятки играть? — возмущался дородный, красный и потный от натужного крика мужчина, похожий по одежде на лавочника средней руки.
Кое-кто приготовил камни — угадывалось нездоровое возбуждение давнего и бесплодного препирательства. Приблизившись, Золотинка уразумела, куда они обращают свои доводы, призывы и угрозы: наверху башенки, под самой крышей зиял пролом, слегка расширенная бойница, может быть, или, наоборот, частично заложенное оконце. В этой темной дыре не видно было человеческого лица. Из того же провала под крышей спускалась наземь грубо свитая из луба веревка, конец которой оплетал треснутый, с отбитым горлом кувшин.