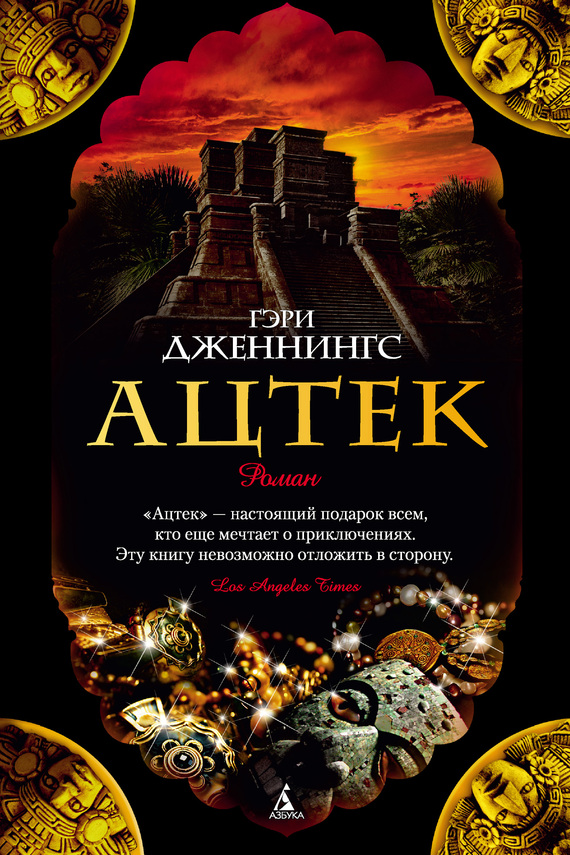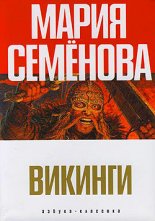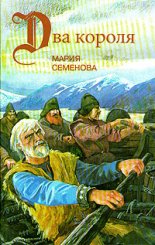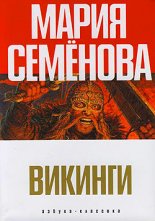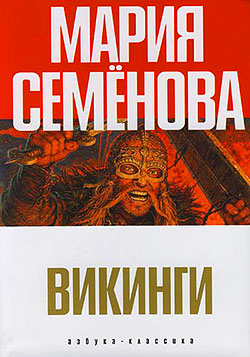Рождение волшебницы Маслюков Валентин

Они были счастливы, как может быть счастлива не сознающая себя молодость, счастливы, как никогда прежде и, вероятно, никогда потом. Вечер, ночь и еще день, и снова ночь — бесконечная и быстротекущая пора! Они не тратили даром ни мгновения. Они бездельничали и нежились, будто располагали вечностью, но каждое бездельное мгновение дня и ночи вмещало в себя ту упоительную полноту чувств, которая обращает время в нечто почти вещественное, почти осязаемое, в нечто наполненное яркостью красок, звуков и ощущений. Они были счастливы даже во сне, да и не спали вовсе, кажется, ибо, и смыкая глаза, находились в объятиях друг друга, ощущали сквозь дрему сцепление рук, прикосновение бедер и смешавшееся дыхание.
Ничто не занимало их ни в прошлом, ни в будущем. Зимка не знала, как великий князь Юлий обратился в свинопаса, и не желала знать. Юлий не ведал, где шлялась его неверная жена, слованская государыня, как провела она разделивший их пропастью год, и не делал ни малейшей попытки проникнуть в эту тайну. Конечно, Зимка не забывала, что Юлий пасет свиней, напротив, — помнила и умилялась. Со смехом задрав подол, носилась она с хворостиной по лесу, чтобы загнать ввечеру диких хрюшек в сплетенное между деревьями стойло. А Юлий не забывал, что Золотинка его — великая государыня и княгиня. Поднявшись с рассветом прежде любимой, он бережно чистил ее красное платье, разглядывая его с восхищением, как человек, никогда не видевший богатого, отделанного серебром наряда… гладил нежнейший бархат, уже помятый, в лесном соре, и вдруг, не сдержав внезапно хлынувших слез, зарывался лицом в подол и мотал головой, покачиваясь.
Раздевшись донага жарким полуднем, они купались в тайном лесном озере, где высокие ели толпились по берегам, растопырив ветви, чтобы укрыть влюбленных от нескромных взоров. И не было тогда ни свинопаса, ни государыни, ни свергнутого, потерявшего престол и страну свою князя, ни предавшей его княгини — только прекрасные в своем бесстыдстве мужчина и женщина. Обнаженные тела их светились в совершенно черной, но прозрачно чистой воде. Вода эта, залитая в крошечное озерцо до краев, стояла недвижно, на века застыла она, ожидая влюбленных, ибо никто, кроме Юлия и Золотинки, никто другой, кажется, никогда не морщил еще эту гладь, ничей смех и разнузданные бултыханья не поднимали волну и не пугали заснувших в лесной чаще птиц.
Только они двое: статный, темный от солнца юноша и молодая женщина, словно точеная статуэтка слоновой кости. Любовная рука художника вырезала эти черты… воплощение слившейся с явью грезы, затея потрясенного воображения, которая всегда убедительней заранее предуказанного образца и установленного общественным мнением совершенства.
Юлий шалел. Он упивался взглядом. Довольно широкие для женщины, прямые плечи Золотинки когда-то его смущали, в ту пору еще… словом, давно; давно уже понял Юлий, что чудесные плечики эти как раз и даны Золотинке для того, чтобы он, Юлий, никогда не нашел нигде и ни в ком ничего подобного… И эти худые, трогательные ключицы… Юлий любил все: от завитка золотых волос над ухом до узкой длинной ступни… И невысокая грудь с твердыми от холодной воды и холодными же сосками. Гибкий стан — чтобы обнять. И бедра — чтобы обмерло сердце. Колени и крепкие икры, которые хотелось нежить… и влажный песок между пальцами на ногах — припасть губами.
Когда Золотинка говорила смеющимся большим ртом, таким живым и подвижным, Юлий вглядывался, пытаясь постичь милый и звонкий лепет. И отводил глаза, горько уязвленный неосязаемой, но неодолимой преградой, что разделила их души в насмешку над слиянием тел.
Юлий не смел просить милости; однажды уже Золотинкой спасенный, он помнил — не забывал никогда! — какой нечеловеческой мукой и усилием далось ей это спасение. Юлий гнал от себя надежду и все равно надеялся, что Золотинка повторит подвиг, вернет ему разумение слованской речи. Нельзя было только этого просить. Ибо то, что случилось с ним год назад (когда на руках у Поплевы, больной и беспомощный, после битвы под Медней, он услышал об измене Золотинки), было его слабостью. Вина Золотинки оставалась в стороне, то есть не подлежала обсуждению. Его же слабость — она видна. Сначала поражение под Медней и второе поражение едва ли не тотчас — потеря смысла слованской речи. Болезнь или порча, однажды уже излеченная, возвратилась — он перестал понимать людей и остался совсем один. Так низко павши, Юлий не смел просить помощи, чтобы подняться. Просить у той… у кого нельзя было ничего просить.
Он помнил это, даже когда любил.
Золотинка, хорошенький круглолицый пигалик, сброшенная лошадью на берегу неведомой речки, едва опомнившись, обратилась к Кон-звезде. Мессалоны на своем языке называли ее Полус звезда, другие народы именовали по-своему, ибо каждый считал ее своею. Кон ведь — это и есть конец и начало, предел, основа основ и ось, на которой вращается мироздание. Золотинка обратилась к родной своей Кон-звезде, чтобы сообразить, вращается ли еще мир, и если да, то каково положение дел со сторонами света — в Словании, по крайней мере.
Надо признать, она испытывала сильнейшее побуждение вернуться и показать Чепчуговой дочке, что мир-то еще вращается! И много чего изменилось под луной с тех пор, как притихшая Золотинка вошла безответной приживалкой в почтенный дом Чепчуга Яри.
Ну да черт с ней!
Пропавший хотенчик, надо понимать, попал теперь к Зимке, которая давно уж не отделяла себя от великой слованской государыни Золотинки. Но Золотинка-пигалик напрасно ломала голову, пытаясь уразуметь, какое же применение найдет этому волшебному средству Золотинка-Зимка. Золотинка Чепчугова.
Золотинке и в голову не приходило, что хотенчик поведет Зимку туда же, куда вел до сих пор, как можно было подозревать, прежнюю свою обладательницу. Таково было заблуждение умненькой Золотинки. Тут оказалась она слепа, как самая простодушная, впервые влюбившаяся девчонка. Чистая душа, она и мысли не допускала, что пустая, ветреная Зимка Чепчугова способна на сильное чувство, которое откроет ей тайну где-то укрывшегося Юлия. Одно только казалось несомненным: рано или поздно хотенчик попадет в руки властителя Словании, и тогда Золотинкино положение станет крайне затруднительным, если не вообще безнадежным. Невидимые щупальца чародея протянутся в поисках незаметного до сих пор малыша…
Золотинка решила идти всю ночь, придерживаясь прежнего направления на восток северо-восток, а утром выбрать подходящее деревце, чтобы вырезать новый хотенчик. Хотя, вообще говоря, потеря невосполнимая: всякий хотенчик обладает собственным норовом и, главное, неповторимым, все более богатым и разносторонним опытом — примерно как волшебный камень.
Она прошагала часа два, иной раз припускаясь бегом, когда обнаружила у себя за спиной свечение… Ледяное сияние растворялось в чистом эфире, где каждая звездочка теснилась в сонме других, еще более слабых и мелких. Золотинка нашла пригорок повыше и села, не спуская глаз со слегка колыхающегося сияния. Она ждала подземных толчков и дождалась. Раз — будто померещилось, и другой — отчетливее.
Выходит, да — блуждающий дворец!
Пятый по счету с тех пор, как объявился более года назад первый.
Трудно было определить расстояние — версты или десятки верст. В свое время Буян обмолвился, что подземные толчки ощущались на расстоянии двадцати верст, но говорил он скорее предположительно — пигалики ведь и сами ничего толком не знали. Так что, если двадцать верст, Золотинка успеет дойти до места в течение четырех часов, принимая во внимание трудности бездорожья.
На место она добралась к началу дня, когда все уже было кончено. В окрестностях канувшего под землю дворца гудели толпы собравшегося на светопреставление народа. Среди множества говорливых очевидцев не было, однако, ни единого человека, кто действительно прошел через дворец, то были, так сказать, очевидцы второго ряда: они слышали тех, кто сам видел.
Толковали о явлении народу спасительницы — великой государыни Нуты, которая скрывалась под личиной чернушки, чтобы вернуться на престол, когда «пробьет час». Иные с примечательной запальчивостью утверждали, что великая государыня Нута вызвала волшебный дворец своей волей, чтобы заманить в него нечестивцев, дерзнувших преследовать Спасительницу. И только горстка чистых помыслом уцелела.
Если ожидания толпы относительно Нуты представлялись Золотинке восторженным недоразумением, то упорные толки о нечестивых и верных заставляли задуматься. Появление блуждающих дворцов породило множество противоречивых и часто уже совершенно невероятных слухов, они бродили в народе, возбуждая волнения и надежды; люди снимались целыми деревнями и, возбуждаемые неведомыми пророками, устремлялись на поиски Беловодья — счастливой страны изобилия, некошеных трав и непуганых зверей, где вольному воля, а спасенному рай. Имелись, понятно же, учения и прямо противоположного толка, появлялись целые «согласия» религиозно убежденных людей, которые ставили волшебные дворцы-ловушки в непосредственную связь с очевидным уже концом света, относительно точного срока которого различные согласия между собой только и пререкались. Одни ожидали Князя Света, другие Повелителя Тьмы, и те, и другие с равным основанием ссылались на блуждающие дворцы, как несомненное свидетельство в пользу своих далеко идущих построений. Самое удивительное при этом, впрочем, что и те, и другие, почитатели Света и почитатели Тьмы, надеялись так или иначе на перемены к лучшему.
Впрочем, общие умопостроения не мешали очевидцам подмечать частности — иногда очень верно. Вряд ли в народе, к примеру, могли знать, что толковал член Совета восьми Буян пленнице пигаликов Золотинке, когда напутствовал ее перед побегом. Тогда он, показав чертеж Словании, отметил, что медный человек Порывай, похоже, гоняется за блуждающими дворцами. Пигалики отложили на чертеже бессмысленные с виду петли и кривые, которые описывал по лику земли рехнувшийся истукан, и везде, где можно, проставили счет дням и часам. Так обнаружилось, что истукан целенаправленно двигался (напролом, через города и веси, поля и буераки) к прорывающимся из-под земли блуждающим дворцам. Порывай чуял их через расстояния и заранее, но не поспевал к событию. Потеряв цель, он сбивался с толку — на многие недели и месяцы (от первого появления дворца под Ахтыркой до второго и третьего прошло совсем немного времени, а следующего пришлось ждать более полугода). Это все было видно на чертеже как на ладони: за осторожным заключением пигаликов стояли упорные и кропотливые наблюдения. Когда же Золотинка вышла на волю, она с некоторым смущением обнаружила, что доверительное сообщение Буяна давно уже не тайна. На деревенских завалинках, по кабакам никто и не сомневался, что истукан гоняется за дворцами. На завалинках мыслили просто: после этого — значит в следствие этого.
Научные изыскания Золотинки в толпах возбужденных очевидцев прервало появление великокняжеских карет, очень уже хорошо ей знакомых. Золотинка подалась назад и, в то время как народ напирал к поезду, взобралась на откос, в кусты, и оттуда уже ужасалась, наблюдая бегство великой государыни Зимки, погром, избиение прислуги и последующее похмелье несколько растерянной, озадаченной собственным буйством толпы.
Она оставила побоище и, не передохнув после ночной гонки, прошагала верст пятнадцать, прежде чем укрылась в лесной глуши на привал.
Еще через два дня совсем зеленый хотенчик, резвясь и играя, привел ее в Камарицкий лес — обширные лесные дебри, которые невесть где начинались, а кончались верст за сто до столицы. Истоптанная свиньями трава под дубами и сами свиньи — мелкие черные твари, что злобно хрюкали на чужака, — указывали на близость деревни или какой заимки в лесу. Золотинка упрятала больно тянувший руку хотенчик, когда выбежала из зарослей большая пастушья собака и с самыми свирепыми намерениями кинулась на обомлевшего в первый миг малыша. Золотинка едва успела остановить пса взглядом; от неожиданности она порядком струхнула — все ж таки нужно иметь в виду, что пигалику ростом с ребенка и маленькая собачка — зверь, а это была собачище! Настоящий волкодав. Ей понадобилась время, чтобы вполне овладеть собой и затем, не размыкая губ, установить взаимопонимание со слишком уж разбежавшимся зверем.
Наконец зверь виновато завилял хвостом и вовсе лег на траву, распластался и заелозил, чтобы выразить тем самым высшую степень нравственного умаления перед малышом-пигаликом.
— Вот так-то! — назидательно сказала псу Золотинка и почесала его за ухом. — В следующий раз не дури. Где твой хозяин?
Пес вскочил и засуетился от избытка усердия; бросился в заросли, часто оглядываясь, и наконец исчез там, где угадывалась за деревьями солнечная полянка. Послышался приглушенный голос, коротким недовольным замечанием человек отправил собаку обратно, и та выскочила на Золотинку, страдая от противоречивых чувств.
Она двинулась к полянке, все тише и тише, почти на цыпочках… Солнце ударило в глаза…
И Золотинка застыла, ослепленная.
На крошечной, размером не больше спальни, полянке резвились в помятой траве двое, мужчина и женщина. С неприятным потрясением, которое испытывает осознавший собственное безумие человек, Золотинка узнала себя, золото разметавшихся волос… и только багряное отделанное серебром платье (такого у Золотинки никогда не было) открыло ей, что это Зимка, невесть как очутившаяся здесь с Юлием. Темный от солнца бородатый пастух в белых посконных штанах был Юлий. Повалив юношу наземь — а он и не думал сопротивляться! — Лживая Золотинка делала с ним, что хотела.
Какой-то провал в сознании, и настоящая Золотинка очутилась на полянке. Возмутились и чувства, и разум, все смешалось, и на миг почудилось ей, что перед взором предстало порождение нечистых ее, сладострастных снов… и сама она на себя со стороны смотрит? И Юлий? Неужто Юлий. Но если Зимка… то как же Юлий?
Это я! Я — Золотинка! — хотела она крикнуть и вымолвить не могла слова, позвать на помощь. Впору было бежать — ноги не слушались; а эти двое продолжали ее терзать, ослепленные похотью.
Вдруг истошно вскричала.
Крикнула та, другая. Яркое лицо ее в россыпи золотых волос неузнаваемо подернулось. Юноша перекрутился волком, чтобы встретить опасность.
И, видно, опасность эта — бледный, что тень, малыш с разинутыми глазами — поразила его, смешав намерения. Он оглянулся, словно рассчитывал получить объяснения у подруги. Златовласая красавица хватила расстегнутый лиф платья, но испуг ее невозможно было приписать одной стыдливости.
В следующий миг Золотинка бросилась бежать, не разбирая дороги.
Пигалики быстро бегают. И если тотчас вскочивший на ноги охотник рассчитывал поймать дичь в три прыжка, то ошибся. Юлий понесся стелющимися хищными скачками, пигалик бешено молотил ножками, рассекал собой хлещущие ветки, словно закаменел, не чувствуя ни боли, ни усталости. И Юлий, который не всюду мог проскочить, не нагибаясь под ветвями, отстал.
Тогда Золотинка остановилась почти внезапно с каким-то отчаянным, полуосознанным ощущением непоправимой глупости. Задыхаясь, она обернулась на треск веток. Глупо бежать, сказала сама себе, и в следующий миг задала стрекача — мелькнуло в воображении зрелище — Юлий схватил за шиворот, а маленький загнанный пигалик верещит: не тронь меня, я — Золотинка!
Все что угодно, только не стать посмешищем. Слишком больно далось ей прошлое, слишком мало она в себя верила, чтобы вынести еще и это. Она помчалась с отчаянием в душе и с болью, в ужасе от того, что сама же и натворила.
Ветки трещали то тут, то там, словно Юлий успевал заходить со всех сторон, и Золотинка уразумела, что это она мечется, потеряв голову, а не Юлий. Тогда она заставила себя остановиться; ничего нельзя было расслышать, кроме надрывного биения сердца, которое она долгое время принимала за топот погони. В лесу было глухо и сыро, несмотря на жаркий день, солнце едва пробивало сплетения могучих дубов и сосен. Где-то высоко шумели под ветром верхушки…
Ничего как будто не оставалось, как изломать хотенчик в мелкую щепу и распылить его по ветру. Значило ли это, что Золотинка образумилась, вспомнив о деле? Ведь, наверное же, возвратилась она в Слованию не для любовных воркований где-нибудь на укромной поляночке… в красном платье с галунами. Наверное же, не для этого… Да только образумилась она уж больно быстро — сногсшибательно быстро.
Золотинка озадаченно чесала голову и ухмылялась, готовая уже и смеяться. Чего же, право, не смеяться, если Юлий жив! Жив… и она нашла его. Золотинка помнила это, несмотря на самые горестные свои вздохи. Оттого в отчаянии ее было нечто деланное, искусственное, словно она нагнетала страсти из приличия, чтобы найти оправдание позорному и необъяснимому бегству.
Невозможно вроде уйти, не объяснившись… Но и глянуть в глаза Юлию теперь — немыслимо!.. И, выходит, пора браться за дело: отправляться на поиски сначала Порывая, а через него дворца. В сущности… в сущности, Золотинка всегда знала, где-то в глубине души помнила, что счастье ее невозможно, пока не исправлен мир. И что же, поэтому невозможно совсем?
И потом ведь, подумала она вдруг с пронзительной болью, разве он меня любит? Кого он любит? Зимка — не Золотинка, но и та Золотинка, Ложная Золотинка в красном платье с серебряными галунами — она ведь тоже не я. Не я и не Зимка, нечто совсем другое, третье… И можно ли требовать справедливости там, где катаются по траве? Разве справедливости они ищут, те, кто упал в траву, ослабев от неги?.. Можно ли возвратить любовь объяснениями? И кого он должен любить — малыша пигалика?
Взъерошенный, с листьями и мусором в волосах, малыш тронул глаза — были они сухи: как оплакать несбывшееся? На это и слез нету. Только горечь.
Ее ли это вина, что, поддавшись слабости, она пошла за хотенчиком, заранее понимая, что верная и услужливая палочка-выручалочка не поведет ее к Рукосилу-Могуту, в логово к пауку? Туда, где начало и конец, средоточие власти? Где сходятся нити добра и зла, скрестилось прошлое с будущим… Все остальное только следствие… Уступив желанию, она пыталась уйти от неизбежного, от неизбежного же не укрыться.
К тому же она остро ощущала, что отпущенный ей судьбою срок краток и ненадежен: сколько сможет она шнырять по Словании незамеченной? Она уж предчувствовала на себе — мурашки по коже шли — всевидящее око Рукосила. Чем дольше оттягивать столкновение, тем безнадежнее… И кто знает, сколько успела она наколдовать, сколько золота в волосах добавилось у той Золотинки, которая обретается сейчас в некой неведомой пустоте, неявленным, существующим лишь как возможность бытием? И однако же, бьют неслышные и невидимые часы, она неизбежно золотеет, и когда-нибудь — кто знает когда! — хорошенький маленький пигалик вздрогнет, скорчится и упадет, внезапно обратившись в золотого болвана.
Жизнь ее коротка. И если уж выбрала она себе эту участь: возвращение на пепелище, без надежды на отдых, делать нечего — браться за гуж и тянуть. Поединок с Рукосилом, он, в сущности, все и решает.
— Вот так вот! — молвила она со вздохом, поглаживая собаку Юлия. Как-то ведь псина нашла пигалика в глухомани, ткнулась, понурившись, слюнявой мордой в лицо. — Ладно, не убивайся, — сказала псу Золотинка, — ты здесь и вовсе ни при чем.
На порядочной лесной дороге, где можно было отыскать даже следы телег, пес забежал вперед и потрусил в десятке шагов, оглядываясь. По-хорошему следовало бы отослать его обратно к Юлию, но Золотинка тянула, смутно ощущая, что, когда убежит пес, оборвется последняя связь… и надежда на связь с Юлием.
В глубоком нравственном потрясении Золотинка шагала за собакой и скоро перестала понимать дорогу, словно махнула на все рукой. Разъезженный путь неведомо где и как обратился в тропинку, едва намеченную в непроходимом с виду буреломе. И вдруг за поворотом совсем неожиданно открылись строения одинокой заимки.
Длинная поземная изба и расставленные вокруг двора четырехугольной крепостью службы под такими же тесовыми кровлями. Промежутки между глухими стенами построек перекрывал серый от времени тын из высоких кольев. Собака Юлия, призывно оглядываясь, вбежала через открытые ворота на безлюдный заросший травой двор, где стояли возле колодца запряженные лошадью дрожки, и вскочила на крыльцо.
— Сюда? — спросила Золотинка с сомнением, только сейчас сообразив, что чуткий пес преподносит ей какое-то свое, по-собачьи разумеемое утешение. Мысль о бесполезности всяческих утешений снова затронула в ее душе что-то болезненное. Она вошла во двор, открыто пренебрегая предостерегающим урчанием сторожевой овчарки на цепи.
Нигде не видно было человека, в раскрытом настежь овине пусто. Лошадь в дрожках, опустив голову, жевала овес из мешка, подвешенного прямо под мордой. Так кормят на ходу заезжие, второпях, путники. И однако у крыльца на маленькой ухоженной грядке росли синие ирисы и золотые шары. Цветы… цветы внушали доверие.
Легонечко стукнув в дверь дома, она очутилась в низкой, но просторной горнице с громадной печью сразу у входа и подвесными полками через все помещение. Крошечные оконца оставляли жару и блеск полудня за стенами, но все же было достаточно света, чтобы Золотинка оторопело остановилась.
За покрытым скатертью столом посреди горницы сидел Юлий.
А слева, ближе к Золотинке, сторожил ее взглядом острых маленьких глаз на щекастом бритом лице дородный человек, похожий на сельского приказчика или помещика средней руки. Пастух сидел, помещик стоял и, значит, господином тут все ж таки был наряженный пастухом Юлий, а этот, второй, — приказчик. Руку он положил на меч, словно бы невзначай. Стрижен он был по-крестьянски, в скобку, а платье господское.
— Спокойнее! — сказал приказчик и, оставив меч, взял Золотинку за шиворот.
Чего она и опасалась с самого начала.
— Вы душите! — просипела Золотинка.
— Выкладывай все и поживее! — возразил приказчик, встряхнув пленника чуть осторожнее. — А то у меня есть средство!
— Какое? — спросила Золотинка, пользуясь возможностью перевести разговор в спокойное и разумное русло.
— Муравейник.
— Зачем муравейник? — Золотинка, сколько это было возможно в полузадушенном и полуподвешенном положении, покосилась на Юлия, ожидая найти в нем сочувствие. Напрасно — он глядел настороженно и внимательно, словно не доверял обоим.
— Зачем ты бежал? — спросил приказчик.
— Я сам пришел, зачем же хватать? Это обидно, в конце концов! — сказала Золотинка.
Неожиданный довод — что обидно — подействовал, как ни странно, на хваткого малого. Он выпустил ворот, но отступил к двери, имея в виду отрезать пути к бегству — звякнул засов.
— Ладно. Выкладывай. Только живее, времени у меня мало. А у тебя еще меньше. Можешь считать, что у тебя его совсем нету.
Колкие глазки приказчика в припухлых веках ничуть не смягчились, но Золотинка не боялась этого человека. Не научившись еще читать мысли, она, однако, безошибочно чуяла дух настроений и страстей и, конечно же, способна была отличить настоящую угрозу от запугивания — разный у них запах. Сколько бы толстяк ни сердился, она угадывала в глубинах его натуры нечто по-настоящему основательное и неспешное, нечто такое, что всегда удержит его от скоропалительной, не помнящей себя жестокости.
— Послушайте, — сказала она, — вы поймете, почему я бежала… ну, бежал, все равно, вы поймете это, когда узнаете, кто я такая на самом деле. Я не пигалик… Я хочу поговорить с Юлием. Оставьте нас! — решилась она вдруг.
— С каким Юлием? — деланно удивился приказчик.
— С тем свинопасом, который сидит за столом, когда вы стоите.
Надо отдать должное верному малому, он сделал что мог, чтобы не выдать смущения. Но это было и все, что ему удалось, возражения замерли у него на устах… промолчал.
Золотинка ступила к столу на середину горницы. Расстегнутый ворот белой рубахи Юлия открывал темную от крепкого загара грудь; встрепанные беготней волосы придавали ему дикий, простонародный вид, но этот взгляд… сведенные брови. Что-то болезненное угадывалось за этим взглядом — загнанная на задворки сознания, но никогда не оставляющая тоска.
— А знаешь, тебе совсем не идет борода, — сказала она с вымученной небрежностью.
Юлий никак не откликнулся.
— Мой хлопец не понимает чужих. Он дурачок, — заметил тот, кто наблюдал за свиданием.
Истина забрезжила в ее уме, она ступила ближе, наткнулась взглядом на край стола, который приходился ей чуть ниже подбородка, и опомнилась: каким смешным, нестоящим существом представляется она ему сейчас… Юлий поднялся. Прежде она не думала, что он окажется таким большим. Его великанский рост унижал ее ощущением неодолимого расстояния.
— Вы действительно друг Юлия? — беспомощно обернулась она к приказчику. — Могу я говорить все? Это опять тарабарщина? Да?
Он пожал плечами, как человек, который уклоняется от ответа, но Золотинке довольно было и этого. Она обошла стол, преграждая Юлию путь к выходу и тронула его за руку:
— Юлий! Я — Золотинка! Я и есть Золотинка, заколдованная Золотинка.
В лице его, где твердо сложенный рот и напряженные у переносицы брови образовали такой знакомый, привычный склад, ничего не изменилось. Помедлив, юноша оттолкнул руку пигалика и сделал попытку миновать его, чтобы покинуть горницу. Мысли его оставались там, где ждала его встревоженная, ничего по-прежнему не ведающая Золотинка — на солнечной полянке.
— Остановите его! — горячечно заговорила Золотинка, обращаясь за помощью к приказчику. — Я действительно Золотинка. Я — волшебница. Если он впал в тарабарщину… не первый раз, однажды я уже вылечила Юлия. Как вас зовут?
— Обрюта, — ответил тот, оказывая ей ровно столько доверия, сколько оправдывали обстоятельства.
Горячечные нотки в голосе пигалика заставили задержаться и Юлия, он вопросительно посмотрел на Обрюту, и тот придержал князя.
— Если вы это сделаете… — начал он не без сомнения.
— Сделаю!
Она снова перехватила Юлия за руку, а он глянул поверх пигалика на Обрюту, пытаясь угадать, что это значит.
— А та, другая? Выходит, ненастоящая? — сказал тот с вновь обострившимся недоверием.
— Оборотень Рукосила, — отмахнулась Золотинка. — Это на самом деле Зимка Чепчугова из Колобжега.
— Ага! — неопределенно крякнул Обрюта. Кажется, он выглянул невзначай во двор — скрипнула дверь — и заново задвинул засов.
Юлий, все равно не понимая, уставший от безразличных ему разговоров, нетерпеливо подался к выходу. Придерживая его одной рукой, Золотинка засветила Эфремон, который налился холодным сиреневым сиянием и, наконец, заставил Юлия что-то такое заподозрить — он остановился в ожидании.
К несчастью, Золотинка не знала никакого нарочного заклинания против тарабарщины, ведь недуг этот довольно редок; она надеялась на старый опыт. Она торопилась, пытаясь воссоздать в памяти те сильные, пронзительные ощущения, которые испытывала тогда в Каменце, сжимая юношу в объятиях. Неясно было только, нужно ли обнимать его и сейчас и как это сделать, если, обращенная в пигалика, она едва доставала Юлию до живота?
Наверное, это было бы нелепо. А Золотинка про себя точно знала, что чудесное исцеление в Каменце было красиво исполнено. Не только страсть, не только мужество и сила духа решают дело, но и красота. Изящество решения, красота исполнения — непостижимая, изменчивая сущность, которая составляет непременное условие всякого подлинного волшебства.
Красивое волшебство — это такое же изначальное понятие, как острое железо, твердый камень, жаркий огонь.
Было все, не хватало красоты, и Золотинка чувствовала это, хотя и пыталась задвинуть опасения неудачи куда-то на задворки сознания. Нужно было сосредоточиться. Сквозь пелену забвения она проникла в однажды уже испытанное состояние… многократно усиливая побуждение волшебным камнем…
Но Юлий… Наскучив нелепыми ужимками пигалика, он толкнул ее вполне ощутимо. Прикосновения пигалика были ему неприятны, и когда малыш попытался приладиться к бедрам, притязая на объятия, Юлий больше не стал сдерживаться.
Золотинка очнулась, грубо разбуженная в трудном своем забытье.
Обрюта не вмешивался и смотрел сощурившись, похоже, он отказался от всякого собственного суждения до тех пор, пока не будет иметь в руках нечто более осязательное, чем слова.
И нужно было начинать все сначала.
При полном, все более суровом молчании Обрюты она промучалась еще малую долю часа, когда Юлий восстал окончательно и бросил вдруг с недоверчивым нетерпением в голосе:
— Долго еще?! Чего ты хочешь?
Как и тогда, при первой их встрече в Колобжеге, он прекрасно изъяснялся по-словански, понимая, однако, человеческий язык в одну сторону: от себя к людям, но не от людей к себе. И Золотинка, не имея возможности подготовить и расположить Юлия к требующему сотрудничества действию, встречала глухую стену сопротивления, перед которой бессилен волшебник. Ибо ясный, вполне сознающий себя разум, состязаясь с волшебством, имеет все основания выйти победителем.
— Отстань, говорю, отвяжись, наконец! Обрюта, разберись с этим… карапузом.
Это было крушение.
— Не получается? — вкрадчиво спросил Обрюта. — Вот и я думаю, что не должно получиться. Если бы это было возможно, разве та, другая, не сделала бы то же?
— Да ведь она оборотень! — огрызнулась Золотинка.
— А вы, простите?
— И какая другая? — продолжала она, теряя самообладание. — Я одна! Золотинка вообще одна.
— И я так думаю, — многозначительно пробормотал покладистый малый.
— Я ухожу, Обрюта, всё. Я рассказал. А ты поступай, как знаешь. — Юлий показал глазами, что и кто стоит за его безличными высказываниями — пигалик.
— Сейчас, мой мальчик, я с тобой, — отвечал Обрюта, не спуская глаз с пигалика.
— Постойте! — вскричала Золотинка, едва не плача. — Вы мне не верите! Я вижу!
— Да что за разговор: верим — не верим! Не то, сударь, не то… — поморщился Обрюта. — Допустим, я верю. Но, по правде говоря, нет ни единого свидетельства в вашу пользу. Позвольте все же называть вас сударь.
— Ладно! Только для вас! Глядите! — Она выхватила из-под куртки хотенчик, и Юлий тотчас насторожился.
— Чтобы вы знали, чтобы Юлий знал. Мне это важно, потому что мы должны быть вместе и ни в коем случае не друг против друга. Это хотенчик, — бессвязно продолжала она, но слушатели, то есть Обрюта как слушатель и Юлий как очевидец не ожидали от нее особой последовательности поступков и красоты слога. — Это хотенчик, — повторила она. — Он помог мне разыскать Юлия.
— Дальше, — мотнул головой Обрюта, отметая пустословие.
А Юлий зачарованно потянулся рукой, чтобы тронуть столь памятный ему предмет. В эту протянутую руку она и вложила свою надежду.
— Волшебная палочка, хотенчик. Увидим, куда хотенчик поведет Юлия, и тогда судите.
— Полагаю, что к вам, сударыня! — невольно поменяв сударя на сударыню, отступил Обрюта. Но сумрачное выражение лица вполне уравновешивало скромную уступку.
Юлий стиснул хотенчик. И первый раз, кажется, посмотрел на пигалика с настоящим желанием понять.
— Это я знаю, — сказал он. — Волшебная палочка-водительница Золотинки. Но не та, что сейчас у нее в руках. Другая. Прежнюю она потеряла еще в горах. Откуда это у тебя?
— Неважно, неважно! — возразила Золотинка, словно Юлий мог ее понимать. — Просто другой хотенчик. Пусти его.
Юлий и без пигалика знал, что нужно пустить хотенчика. Угадывая значение опыта, он тревожно посмотрел на рогульку.
— По правде говоря, сударыня, — осторожно заметил Обрюта, — если уж выбирать из двух, я предпочитаю вас. Хотя ту еще и не видел. Я вообще люблю малышей.
— О! — засмеялась Золотинка в лихорадке. — Хотенчика не проведешь красным платьем с галунами. Он выбирает душу.
Непонятно почему скривившись — как от горькой пилюли, — Юлий подкинул рогульку под потолок.
Обвиснув неряшливой привязью, хотенчик неуверенно закачался. Не выказывал он никакой резвости, не бросился стремглав к пигалику. И тут мелькнуло у Золотинки догадка, что трудно было иного и ожидать. Но прежде еще, чем успела она утвердиться в этом утешительном соображении, хотенчик, вяло вильнув, поплыл мимо онемевшего малыша.
И легонечко тюкнул в оконце.
Тогда Золотинка перестала понимать что бы то ни было вообще. Сердце испуганно билось.
А щекастый, толстокожий малый насмешливо хмыкнул.
— Что у вас там за окном? — пролепетала Золотинка, едва владея голосом.
— Свинарник, сударь! — ответствовал Обрюта. — Он пустой.
— А дальше? — продолжала нести околесицу Золотинка.
— Лес.
— А потом?
— В лесу все равно свиньи, — вздохнул Обрюта.
Дальше Золотинка уж не решилась продолжать эту игру, но Обрюта и сам был малый не промах.
— А кроме свиней поджидает сейчас Юлия слованская государыня Золотинка. А еще дальше большое село Безуглянки, там поджидают государевы ратные люди. Они рыщут по всей округе, отыскивая пропавшую государыню.
— Я что-то не понимаю, — пробормотала Золотинка.
— Признание это делает вам честь, сударь! — бесстрастно отметил Обрюта.
Вдруг Юлий, словно очнувшись, порывисто кинулся к двери и рванул запор.
— Стереги пигалика! — бросил он с порога и выскочил во двор.
— Придется, сударь, потолковать! — быстро сказал Обрюта, придерживая пигалика на месте, и устремился за князем.
Низкая широкая дверь осталась открыта, и Золотинка слышала Обрюту, который говорил: «Я сейчас за тобой, мой мальчик! Постой!».
Но Обрюта не мог оставить пигалика, он метнулся опять к крыльцу и остановился.
А Золотинка, не касаясь зависшего в воздухе хотенчика, засветила Эфремон и провела им поверх палочки. Хотенчик вздрогнул и обвалился на пол замертво, как всякая другая деревяшка.
Свалился в обморок или, можно сказать, во внезапный обморочный сон. Желание Юлия заснуло в нем до нового пробуждения, которое зависело уже от волшебницы. Она торопливо замотала охвостье и спрятала палку под куртку. Тут как раз и заскочил в горницу Обрюта.
— Послушайте, маленький сударь, — заговорил он с ходу, — давайте по-хорошему. Придется во всем разбираться. Поэтому я свяжу вас до возвращения.
— Это бесполезно, — сухо возразила Золотинка. — Я умею развязывать узлы.
— Ничего, найдем управу, — не смутился Обрюта.
— Если вы действительно друг Юлия, вы должны были слышать такое имя: Поплева, — сказала она, отступая.
Обрюта мгновение колебался.
— Поплева — названый отец Золотинки и мой добрый товарищ. Зимой он ходил в столицу…
Недоговоренное означало: и имел тайное свидание с государыней. Имел тайное свидание и что, не понял?
— Где он сейчас?
— Вы много от меня хотите, сударь, — возразил Обрюта.
— Я хочу видеть Поплеву. Все станет ясно после нескольких слов.
— Несомненно. Несомненно. Я понимаю. Вы хотите видеть Поплеву. Вероятно, потому, что он очень далеко.
— Но где же он? Мне нужно его видеть! — возразила Золотинка. — Где Поплева сейчас?
— Дайте-ка лучше камешек. Что на руке, что светится. — Ступивши ближе, Обрюта выдвинул меч из ножен. Бдительный взгляд его не сулил ничего хорошего.
Через открытую на солнце дверь доносился, затихая, топот копыт и визг колес — это выкатился из ворот Юлий.
— Дайте камешек по-хорошему, — предупредил Обрюта. — Я, пожалуй, верну его, как только сумеем договориться. Дайте камешек, и я устрою вам свидание с Поплевой. Постараюсь устроить.
— Простите, Обрюта! — возразила еще раз Золотинка. Она подняла Эфремон в лицо противнику — мгновенная, как молния, вспышка обожгла глаза. А Золотинка (вовремя зажмурившись) бросилась мимо застывшего в мучительном ослеплении человека. Она выбежала во двор — вскочил цепной пес, увернулась от какого-то парня с дубиной — в ворота и в заросли.
Только ее и видели.
Когда Обрюта очухался и стал различать вокруг себя встревоженные лица, он успокоил работников, заверив, что они поступили правильно, отказавшись от погони за пигаликом, как дела безнадежного и небезопасного. Не особенно сожалел он и о сиреневом камешке, который чудом только (полагал он) не попал ему в руки, ибо в противном случае пришлось бы ломать голову еще и над камешком.
Пустившись в лес вдогонку за Юлием — поспешной такой, недостойной положительного человека рысцой, — Обрюта перебирал в уме оставшиеся на его совести заботы. Оставалось их малым счетом четыре или пять. Одна из них состояла в том, чтобы достойно приветить слованскую государыню, а вторая — чтобы незамедлительно ее сплавить. Нужно было подумать о безопасности Юлия, приискивать князю новое убежище, притом, что широкое распространение хотенчиков в среде всякого рода проходимцев делало простую перемену места мерой недостаточной и, может быть, запоздалой.
Далее маячили в голове изрядно запыхавшегося от бега, облитого потом Обрюты: рыщущие по всей округе в поисках пропавшей государыни разъезды; сенокос; охромевшая кобыла Звездочка; жена и простывший обед; наконец, воспаленное горлышко младшенькой — Любавушки. И уж совсем в отдалении, в некой покрытой целомудренной пеленой дали мерещились ему дыба, кнут и прочие принадлежности столичных застенков. Последние, однако, не принадлежали к числу первоочередных забот, и потому Обрюта, привыкший во всяком деле к последовательности, старался по возможности исключить и дыбу, и кнут из круга ближайших помыслов.
Яркое платье великой государыни Золотинки он приметил в тени дубов еще за сотню шагов и ужаснулся — багряная отметина, если верить Юлию, вертелась возле свиней уже третий день.
Задыхаясь от быстрого шага, Обрюта заторопился представиться, но прежде успел почувствовать, что тут у них происходит. Растревоженная и как-то нетерпеливо раздосадованная государыня напрасно пыталась добиться от любимого сколько-нибудь внятных объяснений. Неуверенный в себе и виноватый от невозможности успокоить женщину, Юлий откровенно обрадовался Обрюте; нуждалась в посреднике и Золотинка. Обрюте позволили говорить. В двух словах растолковал он свои отношения с Юлием, изложил свою часть происшествия, как видел он его и понял, после чего без задержки перешел к делу:
— Государыня, — заявил Обрюта, сопровождая обращение новым поклоном. — Вся страна встревожена вашим исчезновением. Посланные в поисках пропавшей государыни дозоры уже бесчинствуют в деревнях и селах. Так что страна встревожена. Умоляю вас, государыня, ради вашей же безопасности немедленно возвращаться в столицу. Если люди нынешнего государя найдут вас в лесу с Юлием, полагаю, никакие объяснения уже не помогут. Вы в смертельной опасности. Спасение вижу одно: заново потеряться, а потом найтись где-нибудь подальше от моего имения. У нас тут, в Безуглянках, наслышаны о постигших вас дорожных превратностях, я думаю, вы сумеете оправдаться… — Она сердито дернулась, но Обрюта, вполне понимая преимущества своего положения, не обращал внимания на эти бабские штучки. — Сумеете оправдаться, если там, в столице, возникнет такая необходимость. В Камарицком лесу можно блуждать неделями. Не вы первая, государыня. — Добравшись до конца, Обрюта перевел дух.
Однако великая государыня не считала вопрос исчерпанным.
— Так кто же этот пигалик? Вы ничего не добились? — она придержала Юлия, который, скучая непонятным ему разговором, пытался выказать свои чувства поцелуем.
Обрюта безропотно повторил все, что считал важным. Только опустил кое-какие невероятные и не заслуживающие внимания подробности, вроде того, что беглый заморыш называл себя Золотинкой.
— И все? — спросила Лжезолотинка с укором.
Карие глаза красавицы заставили Обрюту струхнуть. Он боялся красавиц.
— Все, — истово сказал он. — Не считая мелкого глупого вранья, о котором порядочному человеку и поминать совестно.
Глубокомысленный тон Обрюты заставил Лжезолотинку смутиться.
— Ничего не понимаю, — сказала она некоторое время спустя.
— Да, вот и пигалик то же самое говорил, — скромно подтвердил Обрюта и прикусил язык, ибо внезапный взгляд государыни свидетельствовал о вновь пробудившихся сомнениях: верно, взошло ей на ум подозрение, что она не успела до сих пор оценить старого дядьку Юлия. Обрюта поспешил состроить самую скучную и безразличную рожу.
— Вылечить тяжелый недуг Юлия, — медленно заговорила она, не спуская глаз с собеседника, — не так-то просто. Нужно большое нахальство, чтобы браться за это трудное дело. Я бы сумела справиться, имея на руках Сорокон, не иначе. Меньшим тут не обойдешься. И не верится, что пигалик, кто бы он ни был и какую бы цель ни преследовал, был настолько наивен, что действительно рассчитывал вылечить Юлия от тяжкой волшебной порчи, которую накликала на князя еще Милица, колдунья дошлая и коварная.
Обрюта молчал, показывая своим приниженным видом, что противоречить не смеет.
— И у него, значит, был хотенчик? — внезапно спросила Золотинка.
— Был.
— Чем же вы можете это объяснить? Откуда?
— Я думаю, это заговор, — отвечал Обрюта после добросовестных раздумий.
Внимательно поглядывая на Обрюту, Зимка все же рассказала кое-что о предыдущем столкновении с тем же пигаликом в корчме и, не добившись от толстощекого простофили никакого отклика, отступилась.
Полчаса спустя онемевший, мертвенно-безучастный Юлий оседлал коня и подвел его жене. Прощание было недолгим. Они уж три дня как прощались. Щемящее счастье этих дней было прощанием, в исступленных объятиях их была разлука — они сознавали это. И оба оказались не готовы, когда неизбежное наступило. Три дня Юлий не спрашивал ничего, не делал попытки объясниться, чтобы хоть как-нибудь уразуметь, откуда Золотинка явилась и куда уйдет, и потому, не задаваясь вопросами, все больше и больше верил, что, как бы там ни было, она никогда уже не вернется в Толпень.
Но Зимка, Зимка-то много чего передумала. Она была счастлива с Юлием и неспособна к нищете.
Придавленная предчувствием ожидающих ее в столице испытаний, она пала духом. Достала хотенчик и со слезами на щеках изломала его, сколько смогла. Древесная дрянь кружилась в воздухе и оседала на губах Юлия. Взбираясь на коня, Золотинка плакала. А Юлий смахнул с лица сор… Потом приподнял подол платья и поцеловал загрубелые, в ссадинах и комариных укусах икры. Вот и все. Мертвенное спокойствие его становилось тем глуше, чем больше Золотинка рыдала. Понурившись, размазывая слезы, государыня пустила лошадь шагом. И обернулась:
— Не ду-думайте, — прорыдала она. — Я сделаю все…
— Стерва, — задумчиво молвил Обрюта, провожая княгиню взглядом.
— Тошно мне, пусто. Пусто в груди, — глухо молвил Юлий, оглянувшись на дядьку.
— Вот и я говорю, — подтвердил Обрюта, кивая, — стерва! — Он сокрушенно вздохнул и, глядя ясными глазами, проникновенно добавил: — Задушить мало!
С подавленным стоном Юлий кинулся Обрюте на шею. А дядька думал тем временем, что нужно взять Юлия за руку и отвести вглубь Камарицкого леса за сорок верст от имения в глухие и дикие предгорья — к давнему своему знакомцу монаху-отшельнику, который семь лет назад, по слухам, нуждался в тихом и богобоязненном послушнике. Может статься, отшельник послушника уже нашел, а может, уже и потерял, может, и кости монаха уже истлели… В этом прискорбном случае, прикидывал дядька, следовало бы, пожалуй, пристроить Юлия за самого монаха, в ту же келью, если она еще не разрушилась.
Обрюта оставил юношу на несколько часов, чтобы собраться в дорогу. Однако, возвратившись в лес ближе к вечеру — в высоких кожаных сапогах и с припухлой котомкой за плечами, — он не нашел Юлия.
Прежнее растительное существование было уже невозможно для Юлия. Нельзя было жить день ото дня в глуши лесов, не ведая ничего, кроме птиц и зверей. Но это значило, что Юлий не знал больше, как жить вообще, потому что возвращение в мир было так же невозможно, как невозможно было оставаться на прежнем.
Тогда он ушел. Загнал свиней в загородку, напился воды, положил в сумку нож и направился к северу, рассчитывая выбраться из Камарицкого леса на просторы равнины. Одно то уже само по себе, что свиньи собраны среди бела дня и в загородке, должно было объяснить Обрюте, что пастух ушел сам, по своей доброй воле, а не захвачен людьми Рукосила. А сверх того Юлию и сказать было нечего.
Где-то там, на север и на восток, куда Юлий держал путь, лежала Медня, маленький городок под Толпенем, который навсегда лишился доброго имени, давши название приснопамятной битве, тому самому несчастному побоищу, что разом перечеркнуло затянувшееся благополучие страны. Говорили «битва под Медней» и просто «Медня», слово это означало позор, поругание и страх. «Медня» раскроила время на две неравные части, из которых прошлая была жизнью, но как бы не бывшей, похожей на сновидение, а нынешняя стала действительностью, грубой и несомненной явью, но не жизнью — существованием.