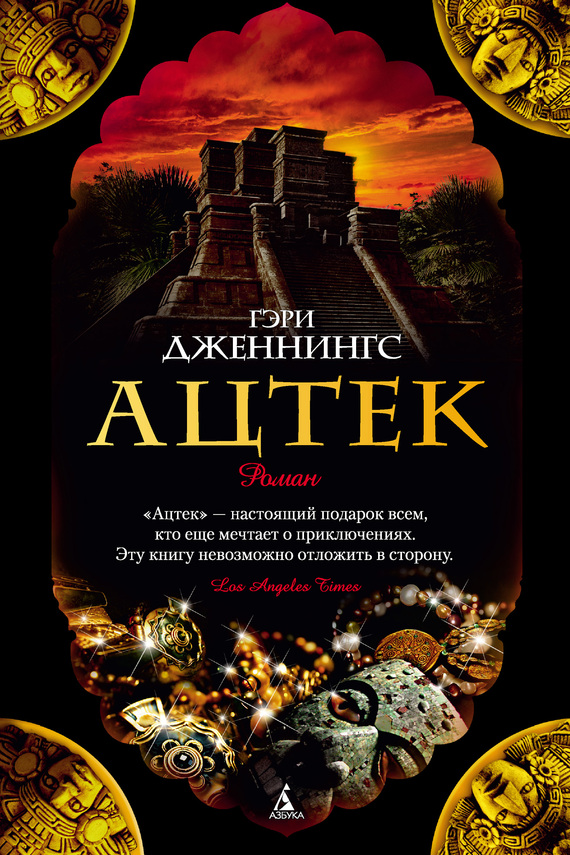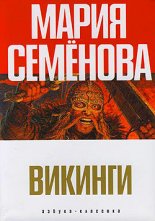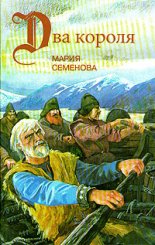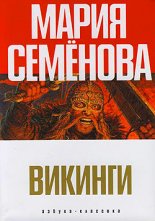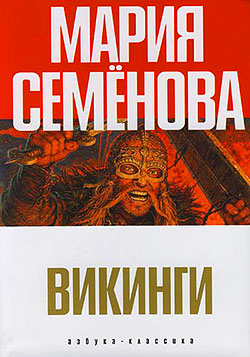Рождение волшебницы Маслюков Валентин

Пущенный чьей-то досадливой рукой камень стукнул о стену пониже оконного отверстия. Тотчас раздались возражения:
— Ну, это не дело, братцы! Потише!
— Святой отец! — крикнул кто-то, желая сгладить невыгодное впечатление о нравах и намерениях толпы, которое, несомненно же, должно было сложиться у таинственного обитателя башни. — Давай по-хорошему. Что бы нам ладком-то все устроить, а?! Люди просят, общество!
Однако и в самых уговорах, служивших заменой камням и дубинам, слышалось уже нечто угрожающее. Не какая-то нарочная угроза, но решимость стоять до конца, уговаривать до изнеможения, которая мало чем отличается по существу от насилия.
Общее настроение выразил долговязый, в темных, монашеского покроя одеждах человек, он начал говорить, и горлопаны притихли, смиряя чувства в пользу разума и учености. Время брать башню приступом, по видимости, еще не пришло.
— Послушайте, почтенный отшельник! Я уважаю ваши убеждения, — громко начал ученый человек, задрав голову к черной дыре наверху. Длинное с убедительным носом лицо его своим общим складом, привычно умным, вызывала воспоминания о наставлениях школьного учителя. — В какой-то мере я ваш товарищ — разными путями мы идем к той же великой цели, раздвигаем пределы человеческого духа. Отталкиваясь от этой посылки, позвольте мне высказать далее несколько соображений общего порядка…
К несчастью, плавное течение речи начетчика затруднялось естественными причинами: обращаясь к немотствующему проему над головой, он вынужден был напрягать голос и потому останавливался через два-три слова, чтобы набрать воздуху. Одним из таких вынужденных промежутков, как ни был он краток, воспользовался мордатый оборванец из ретивых.
— Ну его к черту! Кончай! — прошипел он, толкая начетчика в бок.
Тот заторопился, отчего изящно начатая речь его, несомненно, пострадала в последовательности и связности.
— Нельзя не преклоняться перед праведной, полной нечеловеческих лишений жизнью! — сказал он еще и, встретив нахмуренный взгляд бдительного оборванца, опять сбился. — А с другой стороны, почтенный отшельник, не советую обольщаться: ваш подвиг принадлежит человечеству! Именно так. Я настаиваю! Подвиг пустынножительства, как всякий другой подвиг духовного совершенствования, не может иметь узкую, ограниченную цель личного спасения! По завету Рода Вседержителя лишь высшее благо есть достойная человека цель и дорога спасения. «Спасая душу, погубишь ее», — смотри Родословец, начало второе, стих шестнадцатый. Чело ваше, любезный отшельник, сияет святостью девятилетних страданий. Теперь же народ, общество, пришел за частицей вашей святости. Для общего дела, святой отец…
— И где бы ты был, (неразборчиво), кабы богомольцы не таскали тебе молоко да хлеб?! Ты чей хлеб жрал? — вскричал мордатый, с крепкой пятиугольной ряшкой оборванец.
— Я отказываюсь увещевать при таких условиях! — возмутился начетчик, обращаясь к обществу за поддержкой.
— Заткнись, падла! — крикнули из толпы, имея в виду, вероятнее всего, оборванца.
Общий шум несогласных между собой голосов всколыхнул народ. Недобрый гомон оборвался, едва в проломе башни явилась лобастая из-за высокой проплешины, понизу густо заросшая раскинутыми в стороны вихрами и бородой, голова.
— Паки и паки взываю к вам, окаянные: прочь! — несчастным голосом взревел отшельник. Зазвенело железо, наверное, цепь. — Утекаю от соблазн еретических и каюсь! В подвиге моем укрепляюсь, како бы творцу своему богу угодити! Прочь, прочь, адово отродье! Сатанинская мерзость прочь! — он осенил себя колесным знамением. — Тьфу на вас! Тьфу, бесы!
— Ты это брось, человече, какие тут, к черту, бесы?! Ему по-хорошему, а он — бесы! — взволновалась толпа.
— Предание Родово все отвергли и возненавидели, — неумолимо вещал свое пустынножитель, — и святых уставы отложили, и тем на себя вечную клятву навели и того ради вечного проклятия!
— Слезай, последний раз тебе говорят!
— Не мы просим, нужда просит! С утра стоим!
Единодушия, впрочем, не было. Одни бессвязно галдели, другие становились на колени и молитвенно простирали руки, третьи ни во что не вмешивались и держались поодаль, предоставив возможность действовать самым озабоченным.
— Нужда у нас до твоей святости, ваша милость, ой, нужда-то, нужда горючая! — взывала здоровенная баба, перекрывая звенящим криком нестройный гомон толпы. — Всей святости-то не просим, поделись толикой, святой отец! По нужде, по-соседски. Из Кушликов мы, деревня-то у нас, Кушлики.
— Тьфу, исчадие адово! — злобствовал пустынник.
— Грозен, ох, грозен! — в умилительном восхищении бормотала бедно одетая женщина из мещанок. — Грехи наши тяжкие!
— Послужи обществу и гуляй! А дело сделаешь, снова на столп закинем — знай себе дальше молись, спасайся! А во дворце-то нам без тебя никак! — галдел народ.
Нетрудно было догадаться, что безупречная жизнь отшельника и даже, можно сказать, отсутствие жизни, как ручательство безупречности, возбуждала в общественном мнении надежду, что святой человек окажется удачливым проводником через превратности блуждающего дворца. И, верно, слава святого утвердилась далеко по округе — иначе как объяснить такое скопление решительно настроенных богомольцев в гористой пустыне?
Пока самые основательные и благочестивые все еще пытались по-хорошему втолковать столпнику свою неотложную надобность, горячие головы уже затеяли приступ. Срубили высокую ветвистую березу, обкорнав ее со всех сторон до голых сучьев, и приставили это подобие осадной лестницы под самый пролом наверху башни. Иного доступа к злобствующему отшельнику не имелось: когда девять лет назад святой человек, отрекаясь «от соблазн еретических», поднялся в башню, каменщики намертво заложили дверь, что выходила в сторону развалин, так что остался пролом под крышей. И если бы столпник вздумал оборонять крепость, он смог бы, наверное, укрепив душу молитвой, защищаться против небольшого военного отряда. Однако никто не предполагал в святом человеке такой суетности, чтобы он действительно взялся за дубину.
Потому-то народ и пошел на приступ с легкой душою. Несколько человек живо вскарабкались до середины березы, а выше полез щекастый оборванец с узким и крепким теменем, на котором стриженой морковкой росли короткие, жесткие волосы. Смельчак, перебирая босыми ногами сучья, уже тянулся к нижней закраине пролома, когда отшельник нырнул куда-то во тьму и возвратился с плоским горшком, который, непристойно взвизгнув, опрокинул на стриженную щетиной голову — из горшка хлынуло нечто похожее на темно-коричневое варево, все в сгустках.
— Тьфу, черт! — взревел оборванец, дергаясь и отмахиваясь, как ошпаренный.
Извиваясь, он пытался удержаться на прогнувшейся верхушке осадного дерева и сорвался вниз — наземь! Но не убился, а тотчас вскочил, обдавши смятенный народ вонью, и ринулся к ручью смывать дерьмо… Алчущий святости народ рассвирепел. Здоровенный булыжник звезданул святого старца по лбу, положив конец схватке, — звучный стук камня о череп, сдавленный вскрик, и несчастный исчез из виду.
Осаждающие проникли в пролом, обвязали беспомощного отшельника веревкой и с величайшими предосторожностями спустили вниз. Бабы заголосили — извлеченный на солнце столпник являл собой зрелище жалостливое и поучительное. Сквозь прорехи рубища проглядывало немытое, в струпьях тело. Величественный лоб с залысинами оставался, пожалуй, единственной частью тела, что не подверглась умалению, не усохла от истощения. Голые под длинной рубахой ноги, все в язвах и чирьях, поражали худобой, так что особенно жутко гляделись крупные кости колен и большие ступни.
Пока женщины, охая и причитая, приводили святого в чувство, смачивали ему лоб и обтирали тряпками вонючее тело, мужчины сладили на скорую руку носилки, нечто вроде плетеного помоста на двух длинных жердях. Однако отшельник, с изумлением взиравший на чудовищно склонившихся к нему людей (девять лет он глядел на эту лужайку и на людей с недосягаемой высоты), заупрямился, едва начали его перекладывать на покрытые ветошкой носилки. Почитатели святого со смущением остановились перед необходимостью нового насилия.
— Вот его четки! Четки тут! — с восторгом первооткрывателя завопил на башне мальчишка, забравшийся наверх вместе с прочими любопытными.
Четки возвратили хозяину, и тот, жадно ухвативши заветное, тотчас забормотал, перебирая крупные бусины слоновой кости. Так его и подняли на носилки с четками в руках, пустынножитель привычно скрестил под себя ноги и больше уже не замечал перемен, восседая на гибко качающихся жердях, которые несли четыре дюжих послушника. Толпа потянулась вслед, и все шествие вступило в лес.
Захваченная кипением страстей, Золотинка забыла о бдительности и была за это наказана. Едва она спохватилась, что давно не проверяла за собой слежку и не поглядывала на небо, как обнаружила настырную ворону, которая кружила над башней и возвращалась к лесу для новых вылазок. Трудно было только сказать, что на самом деле занимало ворону: переполох вокруг отшельника или кто-то из действующих лиц? Наряженный деревенским мальчиком пигалик?
Золотинка замешалась в толпу и путалась между мальчишками, пока не вошли в лес, где можно было неприметно отстать.
Ворона пропала, насколько можно было это утверждать, полагаясь на слух и зрение в сумятице золотого света и зеленой тени, тихих вздохов и шорохов леса. Несколько раз Золотинка прощупывала окрестности внутренним оком, но не находила ничего напоминающего о разуме. Следовало, наверное, поблагодарить ворону за своевременное напоминание о бдительности. Это утешительное соображение позволило Золотинке заснуть. Она загадала подняться через час и прикорнула в густой тени елей.
Во второй половине дня, продолжая путь прямо навстречу солнцу, Золотинка разобрала в неясной дали странный излом земли и, остановившись, долго присматривалась из-под ладони. Все ж таки это была не скала, не случайная прихоть природы, а нечто иное… дворец. На таком расстоянии он мало походил на то блистательное порождение волшебства, о котором толковали в народе. Так… скорее груда развалин. Ни сверкающих шпилей, ни устремленных к небу башен, ни узорчатых, похожих на изделие золотых дел мастера, крыш. Нагромождение угловатых глыб — скорее крепость. Нечто тяжеловесное, лишенное обдуманной соразмерности. Так строит прижимистый, равнодушный к изящному мещанин: времянки, пристройки, чуланчики, чердачки, которые возникают по мере надобности и возможности, безбожно искажая первоначальный облик и замысел здания.
Уродливое видение в не мерянной еще дали совсем не нравилось Золотинке. И сердце ее билось, как на бегу, хотя она стояла, придерживаясь вросшего в землю камня, и все глядела из-под руки.
Ни разу не остановившись для отдыха, она успела ко дворцу засветло и увидела это зловещее сооружение так близко, что можно было различить переплеты узких редких окон.
На скалистом пригорке тянулась лента приземистых укреплений, а выше, стиснутые этой лентой, поднимались новые укрепления и башни самых причудливых, неправильных очертаний: полукруглые, многоугольные и вовсе уж непонятно какие. Из этих строений, перемежаясь резкими провалами, вырастали другие, уже и тоньше. А то, что высилось на самом верху, можно было принять скорее за печные трубы, чем за шпили или венцы. Заросший чахлым кустарником пригорок, где высился тяжеловесный дворец, оставался дик и безлюден. Да то и не диво: широким разливом всюду, сколько можно было видеть с развесистой сосны, куда забралась Золотинка, вокруг хищно колыхались заросли едулопов.
То было одно из насаждений, которые Рукосил-Лжевидохин заложил по всей стране прошлой осенью. Посеянные на крови, по местам сражений, убийств и казней, едулопы дали обильные всходы. Молчал опаленный дыханием нечисти лес, и слышен был хрипловатый шелест плотоядных зарослей. Похожее на отрыжку урчание. Младенческий гомон непробудившихся чудовищ.
Сколько их тут по серо-зеленым, в багровой ряби, просторам? По подсчетам пигаликов, только на межибожских посадках через три года, когда едулопы созреют и окончательно задубеют, сойдут с корней не менее пятисот тысяч послушных Рукосилу тварей. По всей стране, по разным оценкам — от трех до пяти миллионов.
Грязное половодье по мановению умирающего оборотня захлестнет Меженный хребет, обрушившись на Мессалонику и Саджикстан, затопит пигаликов и, достигнув берегов океана, хлынет вспять, на север… Разнузданная сила, стократно увеличенная направляющей властью чародея, вооруженная всесокрушающим искренем. Эта свирепая орда заполонит собою мир и, утвердив господство хамской жестокости, превратит в ничто, в пустой звук и посмешище все человеческие понятия: верность слову и долгу, честь и достоинство, отзывчивость, доброту, любовь и дружбу и… опять же — достоинство. Прежде всего они растопчут, сломают, истребят уважение человека к самому себе. И тогда можно будет делать с теми, кто уцелеет, все что угодно. И если уж пигалики потеряли голову, не зная, за что хвататься перед лицом такой беды, то, может, и вправду все бесполезно?
Золотинка вглядывалась в угнездившийся среди ядовитых зарослей дворец, и сердце ее томила тревога. Она все больше склонялась к мысли, что дворец — это язва больной земли, а не свидетельство и предвестник близкого возрождения. Пять хорошо подготовленных разведчиков-пигаликов нашли в блуждающих дворцах смерть, а тайна безличного, самопроизвольного колдовства стала как будто еще темнее. Теперь пигалики посылают тем же путем Золотинку, не обещая ей за это даже прощения, и она несется сломя голову, без рассуждений готовая быть шестой, потому… Потому, наверное, что давно уже непонятно как и с какой стати ощущает безмерную ответственность за порядок и благоустройство во всей вселенной, потому что болеет душой за мироздание.
Она поймала себя на этой мысли и усмехнулась. Нужно было, однако, приниматься за дело, искать подходы к дворцу. Золотинка спустилась наземь.
Заросли едулопов тянулись неровной серо-зеленой грядой, их неумолчное шуршание и самый вид толстых ребристых трав в чешуе крошечных колючих листочков вызывал смешанное со страхом отвращение, какое испытываешь, наверное, к дремлющему гаду. В десяти шагах начинало тошнить и слабели ноги, мутилась голова. Золотинка остановилась, не решаясь подойти ближе. Плотно сплетенные, так что, кажется, не просунешь между ветвями руку, едулопы выгибались и тянули к человеку ищущие отростки.
Она ощущала, как плотоядные заросли влекли к себе, затягивая в свои гибельные объятия. Десяток шагов отделял ее от едулопов, но стоило, казалось, упасть — и попадешь прямо в жадные, хищные побеги. Не нужно было тут и стоять… Удушливый смрад, источаемый потными травами, марал и обволакивал чем-то липким, добираясь до сокровенного. Невыносимый гнет мертвечины сводил холодом члены, что-то рабское, подлое и равнодушное проникало по каплям в сердце. Она стиснула виски, шатнулась и попятилась, в полуобморочном ознобе стараясь сохранить равновесие.
Заросли шумели и гнулись. Низко посаженные на травянистые стволы огромные, с голову человека, цветы извивались махровыми лепестками, так похожими на ядовитые щупальца. Золотинка пятилась, униженная и посрамленная — испуганная. Пришлось забрести в лес, чтобы опомниться и отдышаться. Здесь, выбрав подножие приметной скалы, она закопала хотенчик Юлия, обратила Эфремон в заколку и спрятала в волосах за ухом.
Теперь она готова была к любым превратностям. Но напрасно она бродила кругом зарослей, присматривалась, прислушалась к разговорам искателей — ничего не выходило ни так, ни эдак. Раскинутые на несколько верст заросли едулопов прорезала проселочная дорога, общей шириной, вместе с обочинами, шагов на сто — сто пятьдесят, вполне достаточно для прохода. Да Золотинка опоздала: оба конца дороги, там, где выходили они из зарослей, перекрыли великокняжеские конные лучники. Они получили приказ стрелять во всякого, кто подойдет к установленным поперек пути рогаткам.
Разрозненные ватаги искателей осаждали заставы, шатались по окрестностям, сталкиваясь друг с другом и перемешиваясь, обыскивали уже обысканные подступы и вновь начинали кружить по истоптанным местам. Повсюду дымились костры становищ.
Между тем открытый взору дворец стоял неколебимо и веско, ничего не происходило, он почти не менялся, разрастаясь неприметно и основательно, без потрясений, известных по прежнему опыту. Народ по-разному толковал такое необыкновенное постоянство. Сходились большей частью на том, что дворцы становятся раз от разу все устойчивее, остепенившись, теряют свой непредсказуемый и шальной нрав.
Другое, не менее убедительное объяснение сводилось к тому, что никто еще не бывал в Межибожском дворце со времени его зарождения, ни один человек не погиб в его утробе, и он поджидает жертву, затаился и дремлет, как терпеливый хищник. Того же мнения в общем и целом придерживался и Буян, с которым Золотинка, слоняясь второй день вокруг зарослей, поддерживала довольно частую переписку.
Имелось, впрочем, весьма существенное обстоятельство, которые подрывало и это, безупречное во всех остальных отношениях предположение. Среди искателей пошли слухи, вполне подтвержденные позднее Буяном, который имел собственные источники сведений, что несколько (по сообщению Буяна, семнадцать) великокняжеских лучников с южной, дальней от Межибожа заставы, самовольно оставив службу, проникли во дворец и там остались — погибли или нет, но не вернулись.
Трудно сказать, откуда стало известно о шатаниях среди служилых, да только упорные слухи эти, ставшие, наконец, уверенностью, отозвались у шалашей и костров возбуждением. Казалось, вот-вот произойдет нечто такое, отчего рухнут перегородившие дорогу к грядущему заставы — и лучники, братаясь с народом, устремятся к дворцу.
Пока что на заставах, за рогатками, где стояли под государевым знаменем полотняные шатры, угадывалось нечто вроде растерянности. Лучники как будто бы присмирели — устали переругиваться с наглеющим народом. Толпы гомонили перед заставой, и снова появился отшельник — как последний довод, свидетельство благих намерений и знамя искателей. Подхваченные полудюжиной добровольцев, носилки шатались вместе с толпой, изможденный старец покоился на зыбком ложе, равнодушный к мирским страстям, — он третий день не принимал пищи из рук «бесов».
Ученый дока в пыльной рясе и скуфейке силился тем временем объяснить служилым, что они неправильно толкуют указ великого государя Могута. Понимают его узко и предвзято, как чисто запретительную, карательную меру, тогда как великий государь Могут в его неизреченной мудрости предупреждал против блуждающих дворцов, имея в виду исключительно благо и безопасность подданных. Похоже, медоточивые речи доки по капле, как подслащенный яд, проникали в казенные души стражников, которых изрядно смущала разраставшаяся без числа толпа. Под напором ее потрескивали и даже как будто бы сами собой приходили в движение, незаметно для глаза смещались рогатки. Лучников-то, как ни считай, что справа налево, что слева направо, что пеших с конными, что конных вместе с пешими, — словом, как ни складывай, их больше не становилось.
Шныряя между искателями, Золотинка видела, что достаточно было ничтожного повода, может быть, вскрика, чтобы возбужденный народ опрокинул рогатки. Но одна она, как видно, во всей толпе и знала, что время уходит и час от часу нужно ожидать на смену оробевшим лучникам полк конной надворной стражи во главе с Замором.
— Вы не то говорите, — не выдержала она вдруг. Не сказала — брякнула: запнувшись на полуслове, дока смерил взглядом чумазого пацаненка так, словно увидел у себя под ногами заговорившую лягушку. Но Золотинка, хоть и поняла, что занесло ее сгоряча на неверную дорожку, не смогла остановиться. — Лучников нужно увлечь во дворец. Потому что они и сами туда рвутся, понимаете? Поневоле они здесь стоят и совсем не враги нам, — продолжала она, понизив голос почти до шепота, — а вы так говорите, так бережно с ними обращаетесь — они же видят. Они чувствуют, что их хотят обмануть, заласкать до обмана. Нужно переменить тон…
— Брысь! — слабо выдохнул дока, и она, опомнившись, последовала своевременному совету. Мигом нырнула в толпу и исчезла.
По межибожской дороге среди всхолмленных перелесков заиграли наступление трубы. В скором времени послышался грузный топот конской громады, засверкали желтые доспехи, полыхнуло знамя… Можно было различить острия копий, и народ уразумел, наконец, кого же тут будут брать приступом. Бабы заголосили, и все без разбора сыпанули в стороны, освобождая дорогу войску.
Между столичными, в сияющих бронзовых доспехах, в перьях и кружевах витязями судья Приказа надворной охраны ехал в многозначительном одиночестве и без оружия. Маленький кинжальчик болтался на драгоценном поясе, который обнимал стеганый бархатный кафтан. Опущенные в застылой гримасе уголки рта как бы вытягивали и без того длинное лицо Замора. Казалось, оно посинело по щекам и над губами не от выбритой щетины, а по причине холодной, вяло текущей крови. Узко посаженные глаза его остановились на босоногом пацаненке… и Золотинка замерла. Начальник надворной охраны смотрел так долго и пристально, что, казалось ей, просто не мог не распознать выряженного под мальчишку пигалика…
Он отвернулся, не отдав приказаний.
С прибытием Замора, который привел с собой более ста витязей, несколько сот человек служилых и посошной рати, искатели побросали обжитые шалаши и рассеялись по лесам. От греха подальше бежала вместе с народом и Золотинка. Между тем посошная рать (согнанные на воинские работы мужики) за двое суток обвели обе заставы частоколами, откопали рвы и срубили прочные ворота под затейливой тесовой кровлей и с резными столбами.
Однако уже на следующий день далеко по окрестностям раскатился тяжкий подземный гул, вздрогнула земля. Искатели полезли на деревья, на пригорки и оттуда увидели встающие над дворцом клубы пыли. В привычном облике размытой расстоянием громады обнаружились рваные прорехи. Затем последовали еще несколько толчков и новые разрушения, которые перемежались ростом палат и башен.
Буян — отставной член Совета восьми — устроился где-то поблизости, так что они обменивались с Золотинкой письмами в течение одного-двух часов. Он считал, что во дворце погибли люди Замора. Ближайший приспешник Рукосила начал исследование блуждающего дворца, для этого он сюда и прибыл. Он будет посылать людей на гибель, пока дворец не рухнет окончательно и не уйдет под землю, унося с собой неразгаданные тайны. Сомнительно, чтобы кто-нибудь из людей Замора сумел добраться до его сокровенного значения, справедливо заключал Буян. «Однако, — писал он далее, — ничего удивительного, что неудачи преследуют и нас. А ты, мой друг, столкнувшись с неодолимыми препятствиями, выказал достаточно доброй воли и осторожности (Золотинка беспокойно шевельнулась в этом месте), и, поверь, ни у меня, ни у моих друзей никогда не повернется язык осудить тебя за оправданное обстоятельствами благоразумие. С наилучшими пожеланиями, Буян».
Опустив кленовый лист, на котором пропечаталась заключительная часть письма, Золотинка ощутила, что щеки ее пылают даже под слоем злонамеренной грязи, которую она не смывала несколько дней.
Кажется, никогда еще она не чувствовала с такой убийственной ясностью собственное ничтожество. Беспомощность. Тупоумие. Убожество воображения. День уходил за днем. Время от времени заблудившийся в зарослях едулопов дворец вздрагивал, переваривая, как видно, очередной отряд Заморовых смельчаков…
И однажды она удивилась их количеству. Даже если они входили во дворец по одному. Нетрудно было предположить, что всесильный начальник охранного ведомства начинает уже испытывать затруднения, подыскивая замену безвозвратно выбывшим лазутчикам.
Раз зацепившись за это соображение, Золотинка больше его не упускала, хотя никакого очевидного решения не находилось. Работа мысли, наверное, шла подспудно, именно поэтому она и очутилась в конце концов на освещенной закатным солнцем, затянутой дымом костров поляне, где сошлись большим людным табором искатели. Где тянуло запахом жареного, где прибывшие из Межибожа купцы торговали с возов, где горланили бесстыжие девки — и безмолвствовал возле своего шалаша, перебирая четки, столпник. На рогожке у ног святого, который пристроился на толстой валежине с обвалившейся корой, лежали нетронутые подаяния: хлеб, калачи, мясо, рыба, лук и овощи.
Благочестивые почитательницы праведника, две упитанные горожанки в козловых башмаках и платьях с разрезами, приторно уговаривали его прервать пост и откушать. Они причитали, шлепали между делом комаров и, не получая от праведного старца ответа, общались между собой, с прискорбием поминая собственное чревоугодие — грехи наши тяжкие! Старец пусто глядел сквозь женщин, сохраняя отсутствующее выражение изнуренного воздержанием лица. Между тем в животе у Золотинки болезненно урчало от яблок, винограда, персиков и прочей зелени, которую она сколько дней уже разнообразила только печенными без соли пескарями. А на рогожке у столпника напрасно черствели пироги… Хлебное изобилие перед глазами возбуждало мысль.
Низкое солнце опустилось за лес, и в воздухе посвежело. Казалось, высокомерие и гордость покинули старца, стоило женщинам оставить его в покое. Он уронил руки, четки слоновой кости выскользнули на траву рядом с грязными худыми ступнями. Столпник тупо уставился под ноги. Оглянувшись по сторонам, Золотинка присела к рогожке и решительно разломила пирог — оказалось, с рыбой. Она вздохнула.
Старец покосился на растрепанного мальчишку и некоторое время с преувеличенным вниманием следил, как тот без жалости и разбора лопает беспризорные припасы. Потом тоже вздохнул и, придерживаясь за сухую ветку валежины, с усилием наклонился поднять четки. Золотинка успела порядочно набезобразничать, когда ее наконец заметили.
— Это что же паршивец делает, а?! — в негодовании вскричал тощий, язвительного нрава мужичок. Нрав его выдавал себя не только жалом торчащей вперед бородой, но и ядовитыми переливами голоса. — Что же это он жрет-то? Да кто ж позволил? Ах ты, щенок!
Щенок, то есть Золотинка, как это и положено одичавшему от голода мальчишке, принялся запихиваться мясом и хлебом, торопясь набить рот, прежде чем отнимут. Мужичок схватил паршивца крючковатыми пальцами за ухо и вздернул на ноги, заставив поперхнуться и вытаращить глаза.
— Дедушка разрешил! Сам сказал! — принялась канючить Золотинка, когда убедилась, что переполох получился порядочный. Люди у костров оборачивались, а кое-кто поднялся глянуть, кого ж это там поймали и что с ним сделают.
— Сам сказал? — усомнился мужичок, несколько, однако, притихнув.
— Ешь, говорит, мне не лезет! — верещала Золотинка на весь табор.
— Кто сказал?
— Дедушка праведник.
Пальцы разжались окончательно. Любопытствующий народ с сомнением поглядывал и на старца. Было еще достаточно светло, чтобы различить в его скорбном лике некое беспокойство.
— Гляди-ка, а ведь три дня молчал! — с осуждением как будто заметил основательный мужчина из мещан, широкая борода его привольно покрывала грудь.
— Побойся бога, отрок! — изрек столпник, указывая грязным перстом на Золотинку. Пересохший голос его словно с неба грянул. И сразу грозная тишина сгустилась вокруг мальчишки.
— Он сам мне сказал, сам! — бледнея от храбрости, соврал мальчишка.
Тотчас очутился он в железных лапах Язвительной Бороды и завопил благим матом, немногим только опередив крепкую затрещину по лбу. Мужичок перевернул мальчишку набок и принялся охаживать его как пришлось.
— А ему не надо! Не надо ему ничего! Не надо! — бессмысленные вопли мальчишки не принимались во внимание.
Но ведь не для того Золотинка подвергла себя поношению, чтобы нахватать оплеух и колотушек без всякой пользы для дела! Она вывернулась ужом, зверски цапнула зубами жесткую руку истязателя и вырвалась бежать — с таким расчетом, понятно, чтобы вовремя остановиться. Заставила себя споткнуться, чтобы неповоротливые мужики успели ее, черт побери! наконец поймать.
Теперь уж она принялась вопить, не дожидаясь, когда ее отделают.
— Зачем ему столько жратвы, его к Замору все равно уволокут! Все равно ведь сейчас уволокут!
Поняли тугодумы!
— Куда уволокут?
— Что ты мелешь?
А вот что. Золотинка позволила себе коротенько похныкать (и то уж они рассвирепели: будешь ты говорить?!) и потом изложила — с должным количеством слез и всхлипываний — как ведь оно все вышло.
Вышло же так, что мальчишка забрался в чью-то кибитку с самыми невинными побуждениями, и, понятно, не мог вылезти, когда возвратились хозяева и затеяли тут же у закраины кузова разговор. Эти двое — он и сейчас мог бы признать их по голосам — сговаривались похитить столпника и передать его по сходной цене Заморке… то есть судье Замору из надворной охраны. Затем, что тот, сколько ни бьется, не может пройти через дворец. И он ничего не пожалеет за праведника, который кого хочешь тебе проведет через блуждающий дворец.
Повествование мальчишки было принято с возрастающим, уважительным даже вниманием, как того и требовал затронутый предмет.
Народ хотел подробностей, и Золотинка, разумеется, не скупилась. Она припомнила, в частности, что заговорщики рассчитывали без помех скрутить и увести под покровом ночи старца, но опасались Замора — тут они колебались, не зная, чего ожидать от всемогущего вельможи, и удастся ли договориться. И как добраться до самого Замора, когда у застав болтаются на деревьях повешенные? Кто решится пойти на переговоры? И не отнимет ли Замор у заговорщиков столпника за здорово живешь? И не лучше ли написать письмо, прежде чем соваться в воду, не зная броду? И если найти грамотного человека, то сколько он возьмет, чтобы написать? И можно ли доверять грамотею, не придется ли взять его в долю? И если уж брать в долю, то не лучше ли и послать его самого с письмом? Авось обойдется.
Вот так они рассуждали между собой, ни слухом ни духом не ведая о затаившемся под рогожей мальчишке. Ясное дело, что выбравшись из кибитки, мальчишка пришел поглядеть на столпника и тут уже сообразил, что все эти яства, подаяния доброхотов ему уже не понадобятся.
— Где кибитка? — волновался народ.
Взамен кибитки сошли следы от колес, ободранный лес вокруг, мусор в прибитой траве, следы копыт и, наконец, конский навоз, как живое свидетельство действительности вызванных Золотинкиным воображением призраков.
Народ загомонил. Кощунственный замысел злоумышленников возбуждал среди всеобщего разброда не совсем ясные еще надежды и потребность действия. Никому, по видимости, до сих пор и на ум не всходило, что надо рассматривать святого старца не только как живой оберег, но и как непосредственную ценность, которую можно обменять на некие иные блага и услуги.
Золотинка больше не вмешивалась, полагая, что семена посеяны и нужно ждать всходов. Она рассчитывала, что искателям не понадобится особенно много времени, чтобы сговориться. И в самом деле, не стесняясь столпника, который лишь зыркал по сторонам осмысленными глазами, искатели достигли взаимопонимания уже к полуночи. Тут только Золотинка почла за благо настойчиво о себе напомнить.
— Не понесу я ваше письмо! Письмо никакое не понесу! — взревела она вдруг ни с того ни с сего. — Что я, лысый?
Вопрос подоспел как раз в ту пору, когда засаленный грамотей с багровым носом и двумя лихими перьями за ушами, пыхтя и страдая от бесконечных помарок и переделок, заканчивал исчисление условий и требований, которые обладатели святого старца выдвигали Замору в обмен на уступку.
— Разве что малого послать? — сообразил грамотей, оторвавшись от бумаги; он писал на узкой дощечке, кое-как приспособив ее на колено. — Малому что? Все нипочем.
— Этому — да! Этому что! Небось не тронут. Да ты не робей! — высокий костер озарял воспаленные словопрениями лица искателей, они в самом деле чувствовали сейчас, что все нипочем. Особенно для малого.
Не дожидаясь утра, мальчишку вывели на дорогу. Впереди просматривалась гряда частокола и ворота, прорисованные багровым заревом костров.
— Не бойся, ничего тебе не сделают, — смягченными, подобревшими и даже сочувственными голосами внушали Золотинке искатели.
— Главное, не беги. Потихоньку. Будут стрелять, кричи, что письмо.
На середине пути Золотинка оглянулась.
— Чего стал? — во тьме обозначились крадущиеся тени.
С противоположной стороны окликнул часовой. Свистнула невидимая стрела. Золотинка плюхнулась в пыль и тогда, укрывшись в яме, позволила затаившимся где-то сзади искателям взывать во весь голос к страже. После отрывистых объяснений, которые происходили через голову посланца, искатели велели ей встать, а часовые позволили подойти и потом впустили в ворота. Молодой витязь, видно, начальник караула, протянул окованную бронзой руку:
— Давай письмо.
Повертев запечатанный лист, он снова глянул на мальчишку, словно пытаясь уразуметь, что связывает основательное с виду послание и замурзанного маленького босяка. Усиливая сомнения, мальчишка взволнованно засопел и утерся грязным рукавом. В затруднении витязь отмахнул спадающие на лицо кудри, перевернул сложенный конвертом лист:
— Это чья печать? — бурую кляксу воска на сложении углов украшал нечеткий оттиск шестилучевого колеса — громовой знак от четок.
— Столпника. С горы он, столпник, — сказала Золотинка. Готовый уж было взломать печать, витязь раздумал.
— Стой здесь, — сказал он и кивнул лучникам, чтобы стерегли мальчишку.
Костры причудливо освещали заставленный шатрами, загородками из жердей и навесами городок. В середине стана, куда направился витязь, рдели купола высоченного шатра, увенчанного обвисшими в ночном безветрии знаменами. Человек двадцать бодрствовали у ворот, иные из них укладывались возле огня на плащи и подстилки из телячьих шкур, чтобы вздремнуть. Часовые томительно шагали по забралу, которое тянулось по внутренней стороне частокола на середине его высоты.
Никто не приветил мальчишку, но никто особенно и не стеснял его. Витязь ушел и пропал, и время тянулось вязко. Золотинка старательно ковырялась в носу и глубокомысленно рассматривала козявки. Она подсела к огню рядом с зевающим толстяком, который из одной только скуки, кажется, развязал торбу. Там у него, как водится, имелся и шматок сала, и хороший кус хлеба, и варенные вкрутую яйца, и луковица. И к этому изобилию хороший глоток из оплетенного лозой кувшина. А можно и два глотка. Золотинка дремала, прикрыв глаза, пока толстяк не осовел от еды и не стал задумываться, насилу поднеся кусок ко рту… и не прилег. Тогда Золотинка, почти не подвинувшись, как сидела она на корточках, потянулась к торбе и нащупала в ней нечто толстое и скользкое — круг колбасы. Который и принялась тянуть с торжественной и опасливой медлительностью.
— Ах ты!.. — несколько мгновений понадобилось толстяку, чтобы обрести дар речи. Он выругался и толчком кулака опрокинул мальчишку наземь. Общий переполох, поднявший на ноги немало народу, только прибавил служилому усердия, он принялся тузить и волочить воришку, а потом, под одобрительные возгласы товарищей, пустил в ход кожаные ножны от меча.
Золотинка вопила, сколько полагалась по обстоятельствам. Под этот слезливый вой и смачные поцелуи ножен о тощую задницу возвратился начальник караула, красивый юноша с мягкими кудрями до плеч.
— Пойдем со мной, — сдержанно ухмыльнувшись, велел витязь, когда уяснил причину переполоха.
Но раскрасневшийся и донельзя взволнованный толстяк придержал мальчишку.
— На! — обиженно сунул он ему отхваченный мечом конец колбасы. — Лопай, щенок! А воровать не смей!
Лучшего нельзя было и придумать! Зареванная, в слезах и соплях, истерзанная, в пыли, щедро отмеченная синяками и ссадинами, Золотинка предстала перед великим Замором, жадно сжимая в руке надкушенный кусок колбасы.
— Что за новости? — насторожился Замор, когда слуга у входа в шатер осветил мальчишку свечой.
Витязь пустился в многословные торопливые объяснения.
— Ладно, будет, — хмуро прервал его Замор. Великий человек, в длинной кружевной рубашке, сидел на разобранном походном ложе, спустив босые ноги на ковер. На легком резном столике возле ложа валялось распечатанное письмо искателей, а рядом стоял дородный мужчина в кафтане, которого Золотинка посчитала за подьячего.
Обыденный ночной колпак на бритой голове Замора нисколько не смягчал его надменного и вместе с тем какого-то унылого, с оттенком безнадежности облика. Под мертвящим взглядом слегка выкаченных глаз мальчишка окончательно смешался.
Казалось, судья Приказа надворной охраны один в шатре. Другие люди присутствуют лишь отчасти, временно и ненадежно, — по молчаливому попущению Замора. Он не ощущал с ними ни малейшей человеческой связи. Под действием этого впечатления Золотинка испытывала соблазн спросить: а кто вам навесил такую кличку — Замор? Поразительно, что один из первых вельмож государства был известен народу под своей воровской кличкой.
— Ты кто? — спросил судья. Бесцветный голос его не обманывал Золотинку, которая чувствовала за равнодушием хищную хватку.
Она пролепетала нечто беспомощное соответственно случаю.
— А где сейчас столпник? Где они его держат?
Золотинка ответила, что был до поры тут, а теперича там. То есть искатели увели деда и спрятали где-то в лесу после того, как сочинили судье письмо.
— Вот же я… не хотел идти! — добавила она, готовая и канючить, и реветь.
Замор зевнул и кинул взгляд на письмо:
— Ладно, поутру разберемся. И не будите меня больше. А малого, — кивнул он начальнику караула, — подержи.
Так Золотинка снова оказалась под звездным небом.
— Максак! — кликнул витязь человека. — Возьми мальчишку. И вот что… постереги его до утра.
— Слушаюсь, — вздохнул Максак.
У костра Золотинка разглядела, что это был рыхловатый безбровый парень, с распухшим багровым носом. Из вооружения у него имелся тесак на широком поясе. Скорее не ратник, а дворовый человек молодого витязя, холоп. Максак не знал, кто такой мальчишка и каково сокровенное значение небрежного «постереги».
— Где колбасы украл? — сказал он вполне дружески.
— Там, — призналась Золотинка, махнув рукой в сторону ворот.
— Ну, дай! — понюхав колбасу, Максак испытал ее на вкус, одобрительно хмыкнул и в несколько приемов прикончил кусок, по справедливости оставив малому изгрызенный хвостик.
Потом небрежно утерся и сказал:
— Бляха, куда я тебя дену? Вот же… — он выругался. — И чтоб у меня… смотри — голову оторву!
Он накрепко привязал пленника за щиколотку, ходовой конец бечевки обмотал себе вокруг запястья и тогда только завалился спать, предупредив о бдительности служилых, что коротали у огня время. Люди приходили и уходили, слышались дремотные разговоры. Сначала Золотинка ждала, прикрыв веки, а потом и вправду уснула.
Миновало часа два или три, если судить по Большой Медведице — созвездие прошло изрядную долю суточного круга и опустилось к земле. Золотинка продрогла. Осматриваясь без лишних движений, она поняла, что пора действовать.
Костер тлел багровыми углями, по ним пробегали синие всполохи, ничего неспособные осветить. Максак спал, двое караульных клевали носом и боролись со сном в скорченном положении. Золотинка подвинулась к костру. Один из дремлющих насторожился и опять опустил голову, когда убедился, что мальчишка пристроился ближе к теплу и затих. Некоторое время спустя Золотинка неприметно потерла за ухом Эфремон, прошептала несколько бессмысленных слов и осторожно набрала горсть остывшей золы.
Развеянный с ладони пепел, туча золы окутала всех, кто сидел и лежал. Золотинка неудержимо чихнула, но никто уж не мог проснуться. Она высвободила намотанный на безвольное запястье Максака конец веревки, подтянула его к поясу и, прихватив с собой добрую горсть золы, двинулась в тихое, вкрадчивое путешествие между дремотными тенями шатров.
Там, где начиналась стиснутая зарослями едулопов дорога, горел костер, возле него темнели спины часовых, горели их лица, а дальше различался решетчатый забор — последнее препятствие на пути к дворцу. Открытое пространство в двадцать или тридцать шагов отделяло Золотинку от часовых, отсюда нельзя было нагнать сон — не долетит. Еще один лучник вышел из темноты и остановился у костра, отбрасывая долгую зыбкую тень. Теперь часовых насчитывалось пятеро, четверо сидели, один стоял.
Был ли шестой?
Затаившись за полой шатра, Золотинка высыпала бесполезную золу и пошарила в мокрой траве камень. Камни здесь не водились, но, оглянувшись, Золотинка вспомнила полузабытое впечатление у входа в шатер — и сообразила. Выверяя невесомый шаг, бережно ступая застылыми от росы ногами, она возвратилась назад. То были выставленные вон сапоги с намотанными вокруг голенища вонючими портянками. Годится, решила она. Лучник, который стоял, повернувшись к костру боком, оглянулся, но остался на месте. Золотинка выждала еще мгновение и тронула за ухом Эфремон.
Остальное зависело уже не от волшебства, а от простой ловкости. Ставши в рост, она швырнула сапог, и так мощно, что он, вращаясь портянкой, свистнул над головами сидящих и ухнул во тьму. Все вскочили, стоявший хватился за лук.
Нельзя было медлить ни мгновения! Золотинка цапнула запасной сапог и кинула его, расчетливо напрягая каждую мышцу, в середину костра — всплеснулась жаркая туча пепла, огонь и искры.
Тончайший пепел, вздымаясь выше головы, окутал часовых, сдавленная брань, крик и угрозы замерли в перехваченных глотках. Лучники замялись, расслабленность поразила члены. Один сел, мутно поводя руками, покачнулся другой. Последний тронул прикорнувшего в дурмане соседа, нагнулся еще ближе и рухнул рядом.
Золотинка перебежала к огню и сходу выхватила из жара сильно подпаленный уже сапог, загасила его о траву. Потом положила горячий сапог за краем огнища, как если бы кто-то пристроил его тут сушиться, чуть дальше поставила второй, тот, что брошен был в перелет. Надо полагать, часовые, очнувшись, так и не смогут сообразить, что тут у них случилось и откуда сапоги. Золотинка рванулась к устроенному из жердей забору, минуя ворота, мигом перекинулась на ту сторону, в темноту, и побежала мутно светлеющей дорогой. Беспробудно спала позади застава.
Безобразная груда строений и башен вставала черной горой, озаренные изнутри окна светились, как горящие язвы. Непостижимая жизнь заколдованного дворца не замирала и в этот полуночный час. Но тихо было под звездным небом, только часто шлепающие шаги Золотинки нарушали застылый покой.
Бесшумно скользнули по небу распластанные крылья — черная тень на звездах, и Золотинка, озираясь, заметила ее за собой еще раз. Верно, это была сова — не слышно было ни малейшего шуршания крыльев, даже посвиста, как рассекают они воздух, никакая другая птица неспособна летать так вкрадчиво. Бесплотная тень ночи.
Сова эта, верно, была соглядатай, но Золотинка не особенно встревожилась — крепость уже поднималась над головой, закрывая собой половину неба. Сбитые ноги больно попирали камни, дорога пошла в гору и потерялась. Золотинка, отдуваясь, перешла на шаг. На ближних подступах к дворцу можно было ожидать и засады.
Нижняя стена замка представлялась в темноте невысоким скалистым уступом, на котором поднимались палаты и башни. Золотинка стала присматривать ход, чтобы подняться на раскат нижней стены к основанию дворца. Следовало, наверное, обойти крепость. Однако не прошла она и ста шагов — озаренная кострами застава, которая хорошо просматривалась с пригорка, еще не скрылась из виду, — когда наверху заскрипел засов, пошла в петлях дверь и полыхнул свет, яркой полосой пронзивший воздух и вершины чахлых деревьев на склонам крепостного холма.
Дверь не закрывалась, послышались шаги, и Золотинка увидела над собой очертания человека. Освещенный со спины, он оперся на забрало стены и задумался, не подозревая о затаившемся внизу пигалике. Потом вздохнул и отвернулся, а Золотинка, скрываясь, пошла прочь, к первым кустам на склоне, и оттуда разглядела в полосе света яркий наряд человека, который бесцельно расхаживал по раскату. Немного погодя он исчез во тьме, и скоро Золотинка услыхала хрустящие по щебню шаги — где-то человек спустился и оказался теперь совсем близко.
— Черт побери! — раздалось в десяти или двадцати шагах. — Черт побери! — повторила тень с вызовом и со злостью, словно призыв этот был не пустым присловьем, а прямым требованием. Постояв, он опустился на землю, лег ничком и ударил кулаками. Почудились слезы. Слезные всхлипы и стоны — как может стонать взрослый, разучившийся плакать мужчина. Уткнулся в землю, затих…
Что бы ни говорили Золотинке сочувствие и любопытство, она выскользнула из-под куста, обошла стороной страдающую темноту и скоро, добравшись опять до стены, нашла крутую лестницу без перил, которая вывела ее на верх укрепления, на слабо освещенную щербатую мостовую.
Казалось, покинувший дворец человек был единственным его обитателем — окна померкли и только распахнутая настежь дверь зияла светом. Золотинка пригляделась и снова увидела сову — птица возникла из темноты и резко вильнула прочь. Ночная нечисть слеталась на огонь. У жаркого зева двери пронеслась другая черная тень, возвратилась коротким кругом… раз — и ворона впорхнула внутрь. Несомненно, оборотень. С решительным толчком сердца Золотинка побежала, перескочила в ослепительный свет и потянула за собой неимоверно тяжелую, толстую дверь.
Открылось ей нечто вроде бесконечного сводчатого подвала — вереницы ярко освещенных белых сводов терялись в дали. Иначе, переменив точку зрения, можно было представить подвал рядами толстых расходящихся кверху столбов: у основания их стояла лощеная утварь — скамейки, сундуки, поставцы с безделушками. В двух местах Золотинка приметила подножия уходящих вверх лестниц.
В низком пространстве под сводами ошалело носилась попавшая в западню ворона. Лазутчик пигаликов не испугался бы своего собрата. Скорее всего, это был соглядатай Рукосила. Золотинка не успела отойти от входа, определиться в чувствах своих и в ближайших намерениях, когда резко обернулась на скрип. Провернув тяжелую, медленно ходящую в петлях дверь, ворвался ярко и богато одетый черноволосый юноша, которого Золотинка оставила во тьме ничком на камнях. От бега он тяжело дышал и уставился на деревенского мальчишку с недоверием.
Удивление сменялось равнодушием… Тонких очертаний лицо его, хотя и несколько плоское по какому-то общему впечатлению, приняло скучный и утомленный вид.
Черные без оттенков волосы падали на плечи взбитыми кудрями, короткая темная бородка мелко вилась. Нечто особенно ухоженное, не говоря уж об атласном наряде, указывало на благородное происхождение и благородный образ жизни юноши. Несомненно, он принадлежал к высшим слоям слованской знати. Если только и в самом деле был слованин. Да и вообще принадлежал к человеческому роду… На боку его свисал богато украшенный, но совсем не игрушечный и не праздный меч.
— Как ты сюда попал? — сказал он чистым и властным голосом вельможи.
Золотинка неопределенно, но вполне убедительно показала на вход, незнакомец этим удовлетворился.
— Это ты закрыл дверь? — спросил он еще. Тут Золотинка и догадалась, отчего этот преходящий переполох: рыдавший во тьме незнакомец испугался, что не сумеет возвратиться во дворец! Что обратный путь отрезан нездешней силой.
— Я закрыл, — сказала Золотинка самым обыденным образом.
— Пришел за счастьем? — спросил незнакомец небрежно, словно не ожидая ответа. Словно бы разговаривал сам с собой. Хмыкнул. — Тогда торопись.
Другого напутствия не последовало. Золотинка постояла да и двинулась своим путем. Навстречу скользнула над полом возвратившаяся из глубин дворца ворона и вспорхнула на одну из верхних ступенек лестницы. Но едва птица коснулась тверди, она задергалась, как больная, подскочила под действием некой внешней силы, беспомощно растопырив крылья, и с хорошо известным всякому бывалому человеку хлопком обратилась в дородную девицу. Девица-оборотень поскользнулась, взвизгнула, хватаясь за балясины перил, но все-таки хлопнулась задом и тогда уж остановилась, давая себя рассмотреть. Это была весьма смазливая, пухленькая и крикливо одетая особа в расшитом платье с полуоткрытой грудью, с замысловатой, но изрядно растрепавшейся прической.
— Ага! — холодно усмехнувшись, сказал юноша. — С прибытием!
— Но может ли это быть? — даже не поздоровавшись, удивилась девица.
— Здесь все может, — возразил юноша.
— Не по закону это. Такое волшебство незаконное.
— У меня в отряде оказался оборотень, о чем я, доверенное лицо Замора, начальник отряда, не был поставлен в известность. Он скинулся через четверть часа, как мы проникли во дворец. Впрочем, это ему ничуть не помогло, все четырнадцать, что были со мной, сгинули. А я живой, — сообщил юноша с какой-то скукой. — Один я живой. Пока.
— Так это… Ага, — тараторила возбужденная пережитым девица, — так вы владетель Голочел, начальник того отряда… Ваше возвращение ждут все еще на заставе. Вы еще здесь. Вот что. А я, если по-честному, хочу выйти. Можно выйти?
— Выходи, — пожал плечами Голочел вполне равнодушно и оглянулся.
Все оглянулись. Там, где только что была дверь, тянулась ровная белая, без задоринки стена.
Девица-оборотень не казалась, впрочем, особенно испуганной, и не только потому, наверное, что не видела еще непосредственной опасности, — рядом с мужчиной, красивым мужчиной, рядом с вельможным красавцем, она испытывала подъем, который наполнял ее отвагой.
— Но ты же поможешь мне выбраться? — вопрос ее заключал в себе нечто игривое, потому что при всех обстоятельствах подразумевал утвердительный ответ.
Лениво ступая, Голочел прошел к лестнице и облокотился о завитой спуск перил в многозначительном соседстве с красавицей. Стали видны вызванные давнишним утомлением и беспорядочным образом жизни темные круги и морщины вкруг глаз при молодых еще, свежих щеках.
— А что, какой сегодня день? — молвил Голочел, помолчав. — Сегодня среда?
— Пятница, — беспричинно хихикнула девица, обегая взглядом своды и нигде в силу чрезвычайной живости своей натуры не задерживаясь, задела мимоходом глазками и Золотинку. Мальчишку Рукосилова лазутчица не забывала среди самых волнующих приключений, сопляк тревожил ее недремлющий, приученный к сопоставлениям ум.
— Пятница? — вскинул брови Голочел. — Значит завтра, в субботу днем можно ожидать медного истукана Порывая. Каждые сутки он сокращает расстояние на сто с лишком верст. Остановить его невозможно, и Замор имеет приказ уничтожить дворец прежде, чем истукан переступит его порог. У тебя мало времени, милая, чтобы убраться. — И он с оскорбительным равнодушием похлопал девицу по щеке.
— Как это уничтожить дворец? — зарделась она, бросив тревожный взгляд на мальчишку.
— Замор впустит сюда толпы искателей, откроет обе заставы, народ хлынет потоком, и все в мгновение ока рухнет. На твою красивую, но замечательно глупую голову, милая. — Он задержал снисходительный взгляд на глубоком вырезе платья. И положил руку на грудь.
— Мы не одни! — возразила девица.
Юноша расхохотался — откровенно и нагло, невесело.
— Мы не одни! — с укором повторила девица, указывая на Золотинку. — Кто этот мальчишка? Ты подумал, кто он и как сюда попал? Зачем он слушает наши разговоры?
— А ты спроси, — небрежно кинул Голочел.
— Как тебя зовут, мальчик? Ты откуда? — допытывая Золотинку, девица бросала многозначительные взгляды на Голочела, призывая его одуматься и вспомнить о деле, которому они вместе служат.
А Золотинка молчала. Чутье подсказывало ей, что во дворце нельзя врать даже с благими намерениями, из лучших и возвышенных побуждений. Тяжелая основательность нависших над головой сводов была лишь видимостью, которая зависела от хрупкого, непостижимой природы равновесия.
— Нет, ты знаешь, кто этот мальчишка? — сердилась девица, раздосадованная равнодушием Голочела. — Это… это оборотень. Совсем не смешно. Он не тот, кем притворяется. Я его хорошенько рассмотрела, я знаю — у меня на него разнарядка. — Бурливое возмущение лазутчицы было прервано самым неподобающим образом: поскучневший уж было Голочел расхохотался, заслышав про «разнарядку».
— Если это оборотень, — сказал он затем с кривой ухмылкой, — он все равно здесь недолго протянет. Да и не все ли равно, кто сколько протянет? Ты что, милая, надеешься протянуть дольше всех?
Вопрос окончательно обескуражил готовую было возразить девицу, она смешалась, в досаде ее было что-то жалкое и простодушно-искреннее в то же время.
— Ты спрашиваешь, кто этот мальчишка, — продолжал Голочел, не обращая внимания на девичьи чувства, — но не спрашиваешь, кто я? Впору спросить, кто ты? Кто из нас опаснее? Кто из нас похвастается чистой совестью? — он окинул презрительным взором девицу и чуть долее задержался на Золотинке, что скромно стояла поодаль, словно бы ожидая разрешения старших удалиться. — Кто похвастается чистой совестью, если жил? Только не я. Я… — и он как-то странно сглотнул, то ли смешком подавившись, то ли слезами. — Я — отцеубийца. Я убил отца по приказу Замора, — заключил он с неестественной усмешкой. — Да! Собственного отца. Мне дали нож, и я это сделал. Не из трусости. Жизни моей ничего не грозило. Я сделал это… из низости. Потому что боялся потерять власть, положение, богатство — все то, что, казалось мне, придает смысл жизни.
По мере того как Голочел слово за слово погружался в дебри признания, он как будто бы испытывал облегчение и, может быть, даже находил известное удовольствие, пугая слушателей.