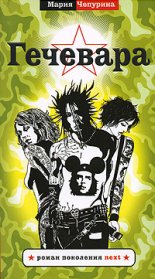Яд вожделения Арсеньева Елена
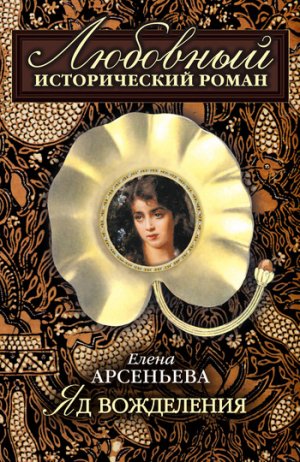
«Ты икорки, икорки возьми! – едва не воскликнула Алена. – На блинчик на масляный намажь, да кусай, да запивай чайком с медком! Небось сразу возвеселишься!»
Но знаменитый иноземец продолжал лизать свою размазню, и лицо его оставалось по-прежнему замкнутым и скучным. Проблеск оживления показался на нем лишь тогда, когда Катерина Ивановна, в очередной раз всплеснув беленькими ручками, закатила глаза и томно промурлыкала:
– Ах, сколь жалко, что господин Аржанов не дождался нашего завтрака и не сказал тебе сам о своем удовольствии! Но он был так радешенек изловить этого страшного Ваньку Красного, что просто не смог с ним расстаться и самолично повез на допрос!
Алена едва не ахнула. Она об одном просила барыню: ни в коем случае не указывать на нее полиции! И вот, оказывается, какой-то Аржанов, сыскарь государев, должен ее благодарить! Чем, хотелось бы знать? Дыбой, кнутом? Огненным веничком, которым пробегаются по иссеченной в кровь спине узника?..
Она сжалась от ужаса…
Немец при упоминании Аржанова вдруг насупился, шваркнул ложечку в недоеденную размазню, поджал губы. Катерина Ивановна взглянула на него невинно… уж до того невинно, что некое голубое сияние изошло из ее ясных, чистых глазок. И Алена внезапно догадалась: Аржанов про нее знать не знает, Катерина Ивановна слово сдержала! Произнесено это имя было исключительно для немца, для того, чтобы испортить ему настроение.
И это Катерине Ивановне удалось!
– Genug![63] – рявкнул он. – Довольно, что этот Ар-р-ржанофф, который wie аus dem Himmel gefallen[64] в общество приличных господин, провел здесь ночь! Да, я считаю его verdachtig[65] но ты, Катюшхен, не желаете zur Kenntnis nehmen[66] моя предостережения! И ты еще хотеть видеть его к завтрак! Я прекрасно понимает, что лишь для него все это… весь этот изобильность! – Он раздраженным движением указал на заставленный едою стол.
– Лазмихинрух! – огрызнулась Катерина Ивановна каким-то странным словом.[67] – Ты сам говорил, что если русские угощают, то подают на стол втрое больше, чем немцы! И никакой он не вердахтиговый,[68] а очень даже храбрый. Вон как лихо повязал разбойничков!
– Stell dich nicht so dumm![69] – так же споро огрызнулся немец, однако тотчас взял себя в руки и продолжал философски-наставительно: – Каждые делают свои дела. И когда бы мои дела были повязывать разбойничков, я бы твоей Аржанофф себе положил за пояс, не моргая при этом глазами!
Моргала Алена – от изумления. Господин иноземец лопотал по-русски весьма бойко, однако девушка с трудом продиралась сквозь смысл его витиеватых речей. Немецкие слова ей были гораздо понятнее: не зря же столько раз слушала разговоры отца с немецкими аптекарями!
– Черта с два тебе его за пояс заткнуть! – буркнула тем временем Катерина Ивановна – стараясь, впрочем, чтобы любовник не услышал. – Слабоват ты на это место!
Ей повезло, конечно, что немец в эту минуту схватился за голову.
– Да, я ест слабоват… вдруг очень слабоват, – сообщил он упавшим голосом. – Но мой долг призывает меня. Уже час ехать в мой коллегия. Naturlich,[70] ты отыщешь способ отблагодарить этот храбрый девчонька. О… – И, чмокнув Катерину Ивановну в щечку, он вышел со стоном, потирая виски: – У меня stieg das Blut zu Kopf![71]
– Лучше б она у тебя к другому месту прилила, – угрюмо бросила ему вслед Катерина Ивановна и с тоскливым вздохом подперлась ладонью, как это издавна делают опечаленные русские бабоньки, без разницы, в парчовом летнике или в расписной робе. – Натюрлих, твою мать!
Алена стояла ни жива ни мертва. У нее все плыло в глазах от голода, но куда сильнее грызли ее беспорядочно мятущиеся мысли.
Катерина Ивановна вдруг спохватилась.
– Да ты присядь, поешь, – сказала она ласково. – В ногах правды нет. Эко побелела ты! Оголодала? Или Фрицци тебя напугал? Да ничего, он добрый, что теля: добрый и глупый. Я его на веревочке вожу.
Болтая, она подсовывала к Алене все, что стояло на столе, и, надо признаться, та не заставила себя долго упрашивать!
Катерина Ивановна задумчиво поглядела, как ест Алена, – да и сама взялась за дело, вспомнив, верно, прадедовскую мудрость: «Горшок каши раздавит все беды наши!»
Справедливости ради следует сказать, что честь оказывали за столом всему – кроме немецкой кашки. Какое-то время сотрапезницы наперегонки начиняли разноцветной икрой свернутые в трубочку блины и метали их за обе щеки так, что за ушами трещало. Потом дошло до творога с медом и сметаной. Когда опустели и эти миски, начали пить молоко. И все это время с личика Катерины Ивановны не сходила печаль, а Алену одолевали несусветные мысли.
Эх, вот бы ей пристроиться в этом щедром и приветливом доме на какую ни есть работенку! Хоть бы судомойкою, хоть в поварню подсобницей, хоть бы кем! На время. На то время, пока она не выведает и не выспросит обо всем, что могло иметь отношение к смерти Никодима, а значит, к ее невиновности. Ленька поможет: он ведь ушлый, а теперь, свободный от воровских уз, с радостью возьмется за благое дело. Да, это было бы превосходно! Исчезнуть из прошлого круга жизни так, что и следа не оставить. Настоящему злодею в голову не придет, что Алена жива, что хочет добиться истины. О нет, не только истины! Она жаждет для убийцы той же кары, которая была уготована ей! Пусть так же покричит, повоет сначала, как выл и кричал раздираемый кнутом Фролка с вывернутыми на дыбе руками; а потом пусть смертный ледяной холод стеснит дыхание в его еще живом, теплом, исполненном ужаса теле! Хотя нет, если убийца мужчина, его повесят или обезглавят. Но этого мало, это слишком скорая смерть! Не за то жаждет отмщения Алена, что сей неизвестный спровадил в могилу ее мучителя, – за то, что спокойно взирал на страдания безвинных да еще небось и радовался: эка ловко я дельце спроворил!
Его надо найти. Надо каким-то образом повыспросить бывших работников Никодимовых: вдруг кто-то что-то видел, – и непременно подобраться к Ульянище. Мало ли о чем она знает, да таит в своей черной, словно гнилая болотная вода, душе!
Как подобраться к Ульянище и другим? Как выспросить?.. Этого Алена пока не знает, но непременно придумает: потом, немного погодя, когда для всех людей канет в безвестность, будто камень, кинутый в тихий пруд, – но будет следить за всем происходящим, за всем, что было в прошлом, выискивать этого неведомого, затаившего лютую, смертельную злобу на Никодима – и живьем зарывшего в могилу его жену. Она сделает это! Она найдет своего лиходея… но пока во что бы то ни стало нужно остаться в доме Катерины Ивановны.
Ах, ну будь на ее лилейном личике хоть малое пятнышко, хоть морщиночка! Уж Алена смогла бы ей присоветовать кое-что. Скажем, квашеной капустой лицо обкладывать, или распаренными отрубями, или умываться овсяною мукой, смешанной с хорошими белилами и варенной в воде…
И она вздрогнула, оторвавших от своих сосредоточенных размышлений, когда Катерина Ивановна вдруг навалилась пышной грудью на стол и, приблизив к Алене свое лицо, увы, не нуждающееся в животворной кислой капусте, заговорщически шепнула:
– А скажи, подружка, не слыхала ли ты какого-то средства… Ну, чего-нибудь, чтобы мужика взбодрить?
* * *
У Алены глухо стукнуло сердце. Это был такой незамедлительный ответ небес на ее мольбы, что она даже растерялась от неожиданности и какое-то мгновение тупо пялилась в сузившиеся от напряженного ожидания голубенькие глазки.
Как она могла забыть?! Да вот же он – прямой путь к расположению Катерины Ивановны! Экая, надо сказать, жалость, что сей видный мужчина, ее любовник и покровитель, страдает плотской немощью! Катерина Ивановна, с первого взгляда видно, принадлежит к женщинам, до сласти весьма охочим. Вот и заглядывается на какого-то там Аржанова!
Между тем Катерина Ивановна нетерпеливо заерзала, и Алена поспешила с ответом:
– Слыхала, как не слыхать! А почему ты, добрая боярыня, меня об сем спрашиваешь?
– Так ведь ты знахарка знатная, разве нет? – изумленно расширила глаза Катерина Ивановна. – Мне Митрий, ну, кучер-то, за тебя словечко замолвил. Говорил, ты женке его извела килу, а его самого от рожи врачуешь. В деле своем ты, мол, наизнатнейшая, а в отговаривании пьяных и исцелении увядших мужиков тебе и равных нет! Сказывал, как ты его по нечаянности едва до греха не довела… – Она игриво хихикнула.
Алена покачала головой. Ай да Митрий, ай да разумник, дай господь ему крепкого здоровья! Впрочем, Митрий об этом здоровье так печется, что и без господа обойдется. Ишь ты, смекнул, что если барыня прогонит знахарку, то некому будет гречишную муку пережигать над его воспаленной щекою, и решил обеспечить себе лечение. И наплел семь верст до небес, только бы выставить Алену как можно лучше. Лучше уж и некуда! Забавно только, что убедило его в Алениных тайных силах одно маленькое происшествие… едва не кончившееся для него большой стыдобою. Впрочем, не напрасно говорят, что мужики этим местом думают, – и, если на то пошло, женщины тоже, если взглянуть на Катерину Ивановну!
– Знаю я такое средство! – решительно пристукнула по столу Алена. – Даже и не одно. И слова заговорные знаю. Только… только вот закавыка какая… Уж и не ведаю, как ее разрешить.
– Что еще за закавыка? – грозно свела бровки Катерина Ивановна и так решительно отодвинула от себя пустую кружку, что Алена поняла: эта пригожая молодайка с тою же решительностью сдвинет со своего пути любое и всякое препятствие.
– А вот что. Для первого и самого сильного средства ослиная моча нужна. Где ее взять?
– Возьмем! – настала очередь Катерины Ивановны пристукнуть по столу. – Это не задача. Бухарцы ослов приводят в Москву, знаю, сама видела. Вот только кого к ним послать? Митрий их всех, нехристей, боится как огня…
– Есть у меня верный человек, – очень своевременно ввернула Алена. – Eсть. Он-то и сообщил мне о злоумышлениях против твоей особы. Его мы и пошлем к бухарцам.
– Я его награжу, не поскуплюсь, – посулила Катерина Ивановна и спросила с внезапными искорками в глазах: – А он… молодой али почтенный старец?
Алена поджала губы, чтобы не расхохотаться. Окажись Ленька здесь сейчас, небось Катерина Ивановна пожелала бы отдать ему награду немедля, невзирая на его исхудалое лицо и тощую кощь. Да, опасно блестят глаза у молодушки… опасно! И поскольку немец показался Алене человеком хорошим, пусть и несколько дерганым (а ведь задергаешься тут!), она положила себе непременно постараться – и вернуть ему утраченные способности. Сделала вид, что не расслышала последнего вопроса, и продолжила:
– Зелья целительные просто так не сваришь. Им надобно непременно в том доме настаиваться, где живет немощный, чтоб он духом этим врачевным уже заранее напитывался. Вот уж не знаю, как быть в сем случае? Ежели я снадобья стану готовить у себя дома…
– Об том и думать не смей! – Теперь уже не ладонь, а пухленький кулачок Катерины Ивановны громыхнул по столешнице, что должно было обозначать неукоснительность ее требований. – Сюда тебе доставим все, что надобно, и будешь жить здесь. У меня. Тем паче что… – Она запнулась и сочувственно взглянула на Алену. – Тем паче что тебе все равно идти некуда!
Алена онемела на миг, потом вдруг ощутила, как кровь бросилась в лицо. Стало вдруг так стыдно, до смерти!.. А Катерина Ивановна усмехнулась:
– Ну как ты жить будешь, скажи?
– Коли денег скоплю, так рай себе куплю, – невесело отшутилась Алена.
– Денег?! Не думай, что я вовсе без глаз. Митрий врет, конечно… а может, и не врет. Ты мне жизнь спасла – я тебе хочу добром отплатить. Давай так: ты мне помоги, а я тебе помогу. И живи здесь, и делай свое дело, пока не сделаешь.
Алена закрыла глаза. Лицо все еще горело, но холодная печаль уже студила голову.
Нет. Нет… а жаль! Больно уж ладно все складывалось, как по писаному. Но она не сможет. Не сможет! Она не ждала от Катерины Ивановны такой покладистости, и это ее обезоружило. Ведь добрая женщина не знает, кому приют хочет дать! А всплыви Аленины обстоятельства – что будет хозяйке за укрывательство беглой? Нет, надо воротиться в батюшкин дом, жить там тайно, выходить лишь потемну, превратиться в подобие нетопыря: шнырять по задворкам, высматривать, выслушивать, авось бог пошлет крупицу сведений. И жить – тоже чем бог пошлет.
– Эй! – послышался рядом встревоженный голос. – Эй, ты что это закручинилась, девица? Или не сможешь горю моему подсобить?
– Я-то смогу, да ты моему не сможешь, – со вздохом открыла глаза Алена. – Вот зовешь к себе кого ни попадя, а что ты обо мне знаешь? Может, я беглая преступница? Может, я мужа своего ядовитым зельем во свету сжила и меня за то к лютой казни приговорили? Может, меня в яму за то зарыли и помирать оставили?
– Но ведь сейчас-то ты не в яме! – вполне справедливо заметила Катерина Ивановна. – И, как я погляжу, вполне живая!
– А может, я из нее сбежала, из ямины? – огрызнулась Алена, уже не в шутку злясь на свою собеседницу за беззаботность. – И узнай хоть кто-то, хоть этот твой знакомец, Аржанов, про меня – тут мне и конец, опять на дыбу, опять в яму! И заодно тебя за укрывательство припутают – так прижмут, что небо с овчинку покажется!
– Ну, это очень просто устроить! – отмахнулась Катерина Ивановна. – Аржанова больше и ноги в этом доме не будет, тем более что мой Фрицци при одном его упоминании только что на стенку не лезет. Да ты и сама небось видела! Ишь – вердахтиг, мол, он и вообще натюрлих! Ой, како-ой мужик, матушка Пресвятая Богородица! Ростом – во! – Катерина Ивановна живо вскочила ногами на стульчик, показала под потолок. – Плечи – во! – Она широко расставила руки и от этого резкого движения лишь чудом не свалилась со стула. – И в мотне, надо думать, тоже – во, – сообщила она, осторожно спускаясь и вновь усаживаясь. – Ну, мне, конечно, проверить не довелось, однако ежели у мужика так глаз горит… это неспроста! Ну и сказывали, баб перепробовал – до умопомрачения. Что у нас, что в иноземщине. Да и не его в том вина – наша сестра сама на него гроздьями вешается. Что же ему делать, стряхивать нас, что ли? – вопросила она, сверкая глазами, исполненными самого пламенного сочувствия к несчастному, замученному женщинами Аржанову, страдающему из-за своей галантности, но ставящему удаль кавалера и служение дамским прелестям превыше всего.
Затем Катерина Ивановна напряженно свела брови:
– Об чем бишь я? – Она призадумалась и, наконец вспомнив, радостно крикнула: – Ах да, об Аржанове! Стало быть, сюда он больше – ни ногой. Ну ничего, от меня он все равно не уйдет, я его на какой-нито завалященькой ассамблее все равно в угол зажму. А Фрицу я чего-нибудь навру, не привыкать: мол, ты моя подруга стародавняя, еще с детства: я ведь из Белого города, из посадских, так что, могло статься, мы с тобой по соседним улицам бегали. Это жизнь меня, вишь, в барыни вынесла, а так-то я из простых! – И вдруг, прервав беззаботную болтовню, снова навалилась грудью на стол и, заглядывая в глаза Алены блестящими глазами, спросила таинственным шепотом: – Но скажи, скажи, ради Христа, ты и впрямь мужика своего свела со свету? Вот молодчина, ну и молодчина же ты!
– Нет, – сказала Алена, на миг искренне пожалев, что – нет, а, стало быть, у Катерины Ивановны отсутствует повод считать ее молодчиной. – Нет, Катерина Ивановна, не травила я его, а кто сделал сие, за чей грех я платила, – мне неведомо.
– И в яму… – вдруг побледнев и передернув оголенными, вмиг озябшими плечами, прошептала Катерина Ивановна и опять обрушила кулачок на стол. Посуда запрыгала и долго не могла успокоиться, так что последние слова она произносила под одобрительное дребезжанье порцелиновых мисок и тарелок: – Но довольно об этом! Было – и быльем поросло! Остаешься здесь – все, не спорь со мной. И вот что, сделай милость: не зови меня больше Катериной Ивановной. Зови Катюшкою. А я тебя буду звать Аленою. Ну, хватит сидеть, давай зови своего благоприятеля, пускай скорей за ослиной мочой бежит. Ее тебе сколько надобно? Ведро? Бочку? Две?
– Четверть кварты[72] довольно будет, – пробормотала Алена толстым голосом, пытаясь не дать вырваться смеху, – но не выдержала: упала головой на стол и зашлась в хохоте.
Катюшка поглядела, поглядела – да и принялась тоже хохотать.
В этом удовольствии, как и во всех прочих, она себе никогда не отказывала!
10. «Вчера полюбила другого!»
– Алена! Алена, ты где? Да Алена же!
С испугу выронив исписанные листки, Алена кинулась в парадную светлицу, откуда доносился нетерпеливый голос Катюшки. Та мчалась навстречу, волоча за собой какой-то пухлый узел, и они столкнулись в дверях, непременно стукнувшись бы лбами, не будь Катюшкины юбки столь пышны. Сегодня на ней было новехонькое нижнее платье из шелка цвета levres d'amour, что в переводе с французского звучало обворожительно: «уста любви» – и означало изрядно-розовый цвет. Оно было совершенно простое: лиф да юбка, зато верхнее, из травчатой золотистой тафты, поражало великолепием изузоривших его цветов, подобные которым могли расти лишь в райских садах. И среди этих бледно-зеленых, голубых, темно-розовых, алых, тускло-синих цветов улыбались таинственно и маняще «уста любви» и нежно вздыхала прелестная, щедро открытая грудь.
Нет, отнюдь не нежно! Катюшкина грудь ходуном ходила от непонятного Алене волнения. В лице царило смятение.
– Где все? Где зелье?
С этим криком Катюшка подскочила к шкафчику, где в самом дальнем уголке стояли две заветные стекляницы, из которых ежеутренне во Фрицев кофе отмерялись немалые порции, а вечером ими разбавлялось вино или пиво. Стекляницы были каждая полна наполовину. Схватив их и колыхнув темно-желтоватую, словно топаз, жидкость в одном и нежно-зеленую – в другом сосуде, Катюшка недовольно буркнула:
– Эка сколь вылакал, питух чертов! – и, подскочив к распахнутому окошку, проворно вылила обе жидкости прямо в сад.
«Батюшки! Теперь чертополох выше крыши встанет!» – мелькнула у Алены мысль, а потом она погрузилась в состояние полной оторопелости.
Виноградная водка, и мед, и шкалик петушиной крови, заморский корень сельдерей, в прах истолченные дынные семечки, сырые куриные желтки, а главное – с таким трудом добытая ослиная бухарская моча, от соприкосновения с прочими составляющими утратившая свое нечеловеческое зловоние и придающая напитку загадочную желтизну – и основную силу! А в другой посудине были настоянные на водке кленовые листья: Алена все окрестные рощи облазила, выискивая совершенно одинаковые по цвету и рисунку, ведь только такие листья обретали целительную силу. И вот теперь все эти тщательно сваренные, заботливо взлелеянные зелья, от одного созерцания которых Катюшка исполнялась самых радужных надежд, выплеснуты за окошко – и кем?! Самой же Катюшкою!
Спятила она, что ли? Или, господи спаси и сохрани, Фриц о чем-то проведал? Но как он мог проведать, если сама Катюшка не проболталась? Да, конечно, она где-то что-то сболтнула, это дошло до Фрица, тот исполнился гневом и теперь небось летит сюда со всех ног, жаждая уничтожить ту, которая посмела опаивать родовитого саксонского рыцаря какой-то отравою. А Катюшка, стало быть, спешит уничтожить доказательства Аленина очередного лиходейства… Ох, удастся ли им отбрехаться от разъяренного немчина, или Алена вылетит прочь из этого уютного дома, где ей впервые за последнее время было так хорошо, так спокойно, так надежно?
Катюшка между тем, истратив зелье, не успокоилась: металась из угла в угол, тиская руки, и брови ее были сведены от мучительного раздумья – непривычнейшего состояния!
– Да что приключилось-то? – еле живая от тревоги и неизвестности, простонала Алена. – Фриц обо всем догадался?
– Где ему! – фыркнула Катюшка пренебрежительно. – Небось ослиной мочи упившись, поглупел, вовсе ослом сделался!
Алена вытаращила глаза. Это было что-то новое… Катюшка всегда с насмешкою относилась к Фрицу и даже называла его подчас «мой дурачок», что, несомненно, немало соответствовало истине, однако таким ядом ее слова никогда не сочились.
Катюшка внезапно прервала свое беганье из угла в угол и обеспокоенно спросила:
– Как думаешь, довольно уже он выпил, чтобы оздороветь?
– Откуда мне знать? – ошарашенно пожала плечами Алена. – Ты с ним спишь, не я!
– Вот именно – сплю! Не любострастничаю, а сплю! – В голосе Катюшки зазвенели слезы.
– Да полно, – ласково взяла ее за руку Алена. – Поверь мне: не нынче, так завтра он исцелится. Не может не исцелиться! Это зелье мертвеца заставит от похоти плясать. Вся суть в том, сколько выпить… – И тут же она вспомнила, что Фрицу не выпить более ни капли. – Христа ради, зачем ты все испортила?!
– Алена! – Катюшка стиснула руки на груди, завела глаза. – Алена, да я на все готова, чтобы он никогда уже не исцелился!
Потребовалось время, чтобы Алена переварила новую жизненную цель своей приятельницы и смогла слабо пошевелить губами – не выдавив, впрочем, ни словца, ибо ответ опередил вопрос:
– Я полюбила другого!
И еще мгновение Алена немо глядела в сверкающие Катюшкины глаза, а потом все же исхитрилась спросить:
– Когда?
– Вчера! – простонала Катюшка, и слезы выступили на ее голубых очах, означая то неисчислимое количество страданий, которые она с того бесконечно далекого времени вытерпела. – Вчера полюбила, а нынче он мне предложение сделал!
* * *
Катюшка подскочила к листкам, которые Алена недавно читала, и, перебрав их, проворно выхватила один.
– Вот, послушай-ка! – торжествующе выкрикнула она и затараторила (не потому, что горазда была в бойкости чтения, – просто эти листки были уже назубок заучены-переучены!): – «Народ женский в Венеции зело благообразен, и строен, и политесен,[73] высок, тонок, во всем изряден; а к ручному делу не очень охоч, больше засиживают в прохладах, всегда любят гулять и быть в забавах».
Томно прижала листки к груди:
– Вот чего я хочу! Не теремного затворничества – свободы! Вот о чем мечтаю!
Желая во что бы то ни стало скрыть от подруги лицо – губы так и расползались в улыбке! – Алена схватила первую попавшуюся тряпицу и принялась елозить ею по подоконнику, вытирая желтые пахучие капли: все, что осталось от чудодейного зелья.
Она уже успела изрядно изучить свою благоприятельницу. Катюшка – никакое другое имя во всем мире не подошло бы ей так, как это: кругленькое, пушистое, мягкое, беззаботное! – Катюшка была болтлива, громогласна, смешлива, беззаботна – и обладала способностью выпаливать все, что только взбредет в ее ветреную голову, оттого Алена и знала, что метресса Фрицева умеет отменно находить на стороне замену тем удовольствиям, коих она лишена дома. Какие там «ручные дела»? Какое там затворничество?! Кроме этого загадочного Аржанова, которого Алена еще не видела и которого Катюшке так и не удалось залучить в свои объятия, кажется, не было в свете кавалера, который не побывал бы в них! Причем она умела так распорядиться своими часами и ласками, что те, которые делили их с нею, ни на мгновение не усомнились бы, что и сердце и тело этой хорошенькой «нимфы» (словечко было весьма модное!) принадлежит им всецело. Частенько на грудь, щедро открытую, Катюшка налепляла малюсенький «пластырь красоты», который напоминал Алене наглую черную муху и вызывал неодолимое желание согнать ее. Катюшка же уверяла, что у господ кавалеров «пластырь красоты» вызывает неодолимое желание поцеловать ее грудь в этом фривольно указанном местечке. Но дело, понятно, одними поцелуями не ограничивалось.
Катюшка порою следовала последней моде и подсовывала под юбки французскую новинку – фишбейн, или панье, из ивовых прутьев, однако ее легкомысленной природе сооружение сие только мешало: едва хлопнешься перед кавалером на спину – вдруг что-то трещит устрашающе. Каркас сломался! То ли дело обычные нижние юбки: задрал их ворох – и любись до одури! Так что фишбейны Катюшка надевала только на заведомо приличные балы или ежели шла куда-нибудь с Фрицем: с ним уж точно не приляжешь где ни попадя.
Катюшка казалась вполне довольна жизнью, при которой могла срывать цветы удовольствия, где они только ни расцветали. Фрица она и впрямь водила на шелковой веревочке и умело погашала нечастые вспышки его ревности. Так могло продолжаться вечно… и вдруг Катюшке вздумалось поломать эту счастливую, беззаботную жизнь! Предложение ей сделали! Но кто? какое? и насколько серьезное?
– Да скажи, не томи: кто он? Чего посулил? – осмелилась спросить Алена. – Аржанов, что ли, сподобился, наконец?
– Аржанов? – Катюшка глянула на подругу с отвращением. – Дождешься от него, как же! Раньше рак на горе свистнет! – И тут же лицо ее расцвело мечтательною улыбкою. – О нет. Это Людвиг…
– Людвиг? Уж не фон ли Штаубе? – ахнула Алена, и Катюшка радостно закивала, прижав руки к груди, так изрядно стянутой шнурованьем, что, чудилось, и вздохнуть-то без привычки невмочь:
– Он! Он!
– Да ведь Фриц же про сие непременно известен сделается! – испуганно глядела Алена на свою легкомысленную благодетельницу. – Они же приятели!
– Да я готова всему свету объявить свое счастье! – И Катюшка затейливым, прельстительным движением выхватила из складок юбки листочек, кругом измаранный корявыми строчками и уже изрядно смятый.
– У меня там карманчик потайной! – объявила она торжествующе. – Это ведь только у мужчин карманы на кафтанах для красоты, сверху нашлепнуты, а мы, бабы, сиречь дамы, все к делу пришьем! Вот – здесь все сказано. Поначалу он мне снимет дом в Китай-городе, возле Варвары Великомученицы, со всею обстановкою, с коврами, зеркалами, стульями… а лавки если и будут, то кармазином[74] застеленные! А спустя месяц мы с ним подадимся в Санкт-Питербурх! И будем при государевом дворе. Теперь ведь все в Питербурхе дома себе строят. Там царь, там двор, там верховые боярыни и боярышни… эти, как их, фрейлины. Нет, песенка барбарской Москвы спета!
Катюшка уже явно пела с чужого голоса, и нетрудно было догадаться, с чьего.
– Да на что тебе тот кармазин?! – заломила руки Алена. – Он же толстый, как студень, твой Штаубе, а герр Фриц молод, пригож…
– Вот и бери себе эту пригожесть, – отмахнулась Катюшка. – Что мне с нее? Людвичек мой понимает, что женщина может быть счастлива сердцем не так, как мужчина! К тому же у него… – Глаза Катюшки вспыхнули, и Алена поняла, что наконец-то они добрались до сути дела. – У него, знаешь, приклад какой?! Во… – Она развела руки на ширину плеч, потом, прищурясь, поглядела – и отмерила требуемую величину, постучав себя по сгибу руки: – Во какой! И, я тебе скажу… – Катюшка прижмурилась, будто сытая кошечка, и даже, кажется, сыто облизнулась.
– Давай, меняй чулки на паголенки![75] – сердито отмахнулась Алена. – Чего тебе мало? Скоро Фриц оздоровеет, а пока ты и так гуляешь направо и налево.
– Вот еще! – не без обиды глянула Катюшка. – Прямо-таки направо и налево! Я довольно часто была ему верна.
– Думаешь, Фриц тебя отпустит? – не отставала Алена. – А ежели и отпустит – сперва побьет не на живот, а на смерть, как меня муженек бивал, а потом, ведь уйдешь голая, босая – ну что хорошего? А наряды твои? А справа самоцветная? А башмаки? Так Фриц тебе все это и отдаст, чтобы ты перед фон Штаубе прелестничала! Держи карман шире!
Безмятежное чело Катюшки впервые отуманилось легким облачком задумчивости. Она нерешительно оглянулась на стоячий сундук с дверцею, «шкап» называемый. Это была не какая-нибудь там деревенская или купеческая грядка,[76] а необъятное вместилище, в коем на особенных распялках… нет, не висели, а скорее стояли, топорщась фалбалами и блондами,[77] платья из золотого и серебряного травчатого штофа, атласа и гризета[78] различных цветов, тафты однотонной и узорчатой, бархатов и гродетуров – что одноцветных, что травчатых. В особенном отделении лежали шиньоны, кружева, цветы – они сменялись на Катюшкиной голове ежедневно, хотя она всему предпочитала фонтаж-коммод, с фальшивыми трубами-локонами на макушке и пышным хвостом снизу. Алена поглядывала на это сооружение с ужасом: брезговала чужими волосами, да ей и ни к лицу было, и ни к чему – своя коса русая, спелая, до подколенок… Под платьями были горами навалены башмачки: кожаные, сафьяновые, атласные, парчовые; новые, яркие вперемешку с поношенными, протертыми на подошвах до дыр после неутомимых польских, англезов, галопов, контрдансов, до которых Катюшка была столь же охоча, как до мужских ласк.
Потерять все это было куда страшнее, чем испытать побои Фрица, который ее никогда и пальцем не тронул, – может быть, он и вовсе драться не умеет! Да, расставаться со всем этим изобилием у Катюшки не было желания, – да и намерения у нее такого не было, как показали дальнейшие события!
А пока же она невзначай взглянула в окно поверх Алениной головы, и тотчас личико ее снова засияло, в глазах запрыгали бесенята, и, махнув пухленькой ручкой, Катюшка заговорщически прошептала:
– Да черт ли с ними, с этими блядунами немецкими! Ты лучше погляди… погляди только, что мне от швейки принесли! – И она с лихорадочной поспешностью принялась развязывать тот самый узел, с которым явилась домой, а потом вдруг накинулась на Алену и в одно мгновение ока распустила шнурки на ее лифе.
– Раздевайся! Раздевайся же… экая ты копуша! Я хочу поглядеть, как оно со стороны.
Катюшке всегда было – вынь да положь, Алена уже и отчаялась противиться ее придумкам, а потому покорилась: выскочила (лихорадка подруги передалась и ей!) из подаренного Катюшкою и почти вовсе нового светло-серого гризетового платья – не из самых оно было, конечно, дорогих, но Алене казалось бесподобным! – потом, повинуясь ошалелой Катюшке, спустила рубашку – и на нее тотчас было обрушено нечто душистое, воздушное, нежно-нежно-голубое. Как будто облачко предрассветное, прозрачное окутало Алену, и легкие струйки одели ее с головы до ног, но неудержимо ползли с плеч, остановив свое скольжение, лишь когда зацепились за ознобно встопорщенные соски.
И в это самое мгновение вошел фон Принц.
– О! Фрицци! Майне либер! – Катюшка с восхитительным лицемерием кинулась ему на шею, оставшись, впрочем, на приличном расстоянии благодаря надетой под робу ивовой корзинке.
Фриц охотно ответил бы на воздушное чмоканье напомаженных губок полновесным поцелуем взасос, однако он сам платил за Катюшкины помады, румяна и белилы, а потому не впился в алые губки, не прижался щекой к бело-розовой щечке, не прижал к себе (до хруста фишбейна!) округлый стан своей подруги. Поцеловав и обняв скорее воздух вокруг, чем саму Катюшку, он вдруг увидел нечто, изумившее его своей неожиданностью, – и уставился туда, не без усилий выискав щель для обозрения между труб и лент Катюшкина фонтаж-коммода.
Алена перестала дышать, опасаясь, что весьма легкомысленное нагромождение буфмуслиновых[79] складочек и фалбалочек рухнет к ногам, оставив ее перед взором отменно одетого Фрица (он любил все яркое и частенько наряжался в розовые, желтые или попугайно-зеленые, как сейчас, цвета) вовсе голой. Она и прежде-то с трудом привыкала, что приходится снимать нательный крест из-за декольте, выставляющего его напоказ, будто наперсный, а ношение наперсных крестов приличествовало только царю или патриарху. Здесь же она вся себе казалась сплошным декольте. И замирала от смущения.
А в голову фон Принца, вообще склонного к философствованиям, явилась мысль, что женщина есть хамелеон (не только змея лютая, хитрая лиса, кошка, собака, щука, ворона, сорока и т. п.) – именно хамелеон, принимающий на себя цвет предметов, его окружающих. Он и прежде-то ничего не имел против, когда его Lieber Катюшхен решила оставить при себе отважную русскую девицу – довольно-таки неприглядную, кстати сказать. Что с того, что при первой встрече Алена оказалась одета в ветхую сорочку, под которой так и сквозило тело! Фриц был человек цивилизованный, а потому русские туземки для него не существовали как женщины – что в белье, что в своих просторных нарядах, дававших им полную свободу раздаваться вширь.
Потом он одобрительным взором отметил преображение Сандрильоны[80] если не в принцессу, то хотя бы в приличную фрейлен, но теперь… tausende von Teufelen![81] Истинная нимфа, нет, подымай выше – богиня! Или вполне достойная изображать оную в живых картинах, до которых так охоч вдруг сделался русский государь, что чуть ли не силком заставлял еще диких боярышень щеголять в одних исподних рубахах, украсив головы цветами, с корзинами плодов в руках, изображая Венерины пиры. Церера… да нет, глупости! Венус, ну в точности Венус!
Фриц глядел на эту знакомую и незнакомую женщину – и словно впервые видел ее низкие, прямые брови, странно-темные при ослепительно-белой коже и светлых глазах. Ресницы тоже были темные, длиннющие, круто загнутые, и в их обрамлении серые глаза казались особенно яркими и как бы влажными. Полурасплетенная темно-русая коса лежала на мраморных плечах… завитки ее спускались на нервно вздрагивающую грудь, зачем-то прикрытую этим бледно-голубым неглиже. «Неглиже, – значит «без всего», – мелькнула у Фрица мысль, и он ощутил, как вдруг забилось его спокойное немецкое сердце. Его нестерпимо потянуло поскорее распахнуть сей наряд и поглядеть, что это под ним столь приманчиво розовеет, белеет, а внизу и темнеет. Стало быть, Алена… да, ее зовут Алена, то есть Ленхен, вовсе без рубахи, в одном этом самом «без всего»?
– Красиво, правда? – промурлыкала Катюшка, не упустившая ни единой тени, пробежавшей по лицу ее любовника… считай, уже бывшего любовника. – О, Фрицци! Я бы так хотела тебе показать все, что нынче получила у белошвейки! Но мне и самой охота поглядеть! Вот что: мы поглядим все это на Алене! И ты мне скажешь, что тебе нравится, и это мне купишь. Хорошо, дружочек?
«Дружочек» слабо кивнул – и с облегчением рухнул в очень своевременно подвинутое кресло. Ему вдруг стукнуло в голову, что Катюшхен заставит Ленхен переодеваться прямо здесь, перед ним! Слава богу, нет… увы, нет.
Катюшка уволакивала Алену в соседнюю светлицу и там помогала облачаться. На Алену словно столбняк напал. Она ощущала себя в сердцевине некоего смерча из нижних шелковых или атласных юбок, шнурованья без рукавов, лент, сорочек, чулочек, а также всевозможных кружев: тут были и кружева «лама», сплетенные из очень тонкой шерсти, шантильи из крученого черного шелка, шелковые же блонды, причем эти последние – серебряные с белым шелком и серебряные с битью,[82] золотые с белым шелком и золотые с битью, серебряные с белым шелком на одну сторону городки,[83] серебряные с грязно-синим шелком, кружева с бисером, простые белые и черные без серебра… Окутывая Алену аршинами и аршинами кружевных лент, Катюшка выгоняла ее на обзор к Фрицу в одной только буфмуслиновой беленькой сорочице и, с удовлетворением отметив, как все чаще ходит вверх-вниз кадык на немецком горле, вновь влекла переодеваться – и вновь выставляла на обозрение, тараторя при этом, что хороших кружев и белья нынче и взять негде, если не похлопочешь да не перекупишь плетенье знаменитых кружевниц из Страстного и Ивановского монастырей: Настьки Андреевой, Машки Семеновой да Анны Дмитриевой… То есть вихрь, завертевший Алену, еще и непрестанно болтал, не давая ей самой и словца молвить, а порою проделывал и вовсе непристойные вещи: сдергивал рубашонку с плеч, так что обнажались груди, и невинным Катюшкиным голосом выпаливал:
– У нас еще не носят, а в иноземщине, мне Матрена Монсова сказывала, так даже очень: кружево вокруг декольте, берта называется, а плечи все голые, и груди видны!
Груди были видны – что да, то да…
* * *
– Ты что, бабонька, с ума съехала, будто старая собака со скирды?! – возопила (впрочем, шепотом, чтобы не услышал Фриц за стенкою) Алена, облачаясь наконец в свою сорочку и серое платьице, показавшееся монашески-строгим после всей той череды воздушных исподниц, в которых она принуждена была шествовать. – Зачем, зачем было меня так позорить?! Я что, девка площадная?!
– Позорить? – Катюшка с искренним изумлением вытаращила свои хорошенькие глазки. – Ты что? Ну и дурочка! Да я просто показала Фрицци, какая ты у нас красавица, какой лакомый кусочек!
– Зачем ему, Христа ради, мой кусочек, когда у него есть вся ты? – буркнула Алена уже спокойнее: долго сердиться на Катюшку было совершенно невозможно.
– Меня у него уже нет! – отрезала та, для наглядности рубанув воздух ладонью. – Нету меня! Где я? Поищите-ка! – Она дурашливо заоглядывалась: – На кровати – нету, под кроватью – нету, на лавке – нету, под лавкой – нету, на шкапу – нету, в шкапу – нету, под шкапом – нету… Ау-у, Катюшка! Нету меня, понятно?
– Тем паче, зачем так мужика задорить? – пожала плечами Алена. – Диво, что он тут же, при мне, не кинулся на тебя!
Катюшка всплеснула руками:
– Да ты что? Вовсе глупая или лицедействуешь? Не на меня! Не на меня, а на тебя должен был Фрицци кинуться! Этого я от него и добивалась!
Алена так и села. Слова не шли с языка – она только и могла, что немо таращилась на подругу, которая, примостившись рядом, с краешку лавки, обняла подругу и горячо зашептала:
– С Фрицци я не останусь – хоть убей. Осточертело, знаешь, мне эту сырую лучину щепать! Уйду к Людвичку, вот как бог свят – уйду! Однако же не хочу я ему свинью подложить. С Фрицци государь хорош – что, ежели мой отставной немчик ему нажалуется? Тогда его величество нипочем Людвичка в Питербурх не возьмет, да еще и милостей своих лишит. Как бы опалы не накликать! Опять же: ну неохота мне с пустыми руками уходить! – вздохнула Катюшка, и Алена едва не засмеялась: ежели подружка и не хотела кому-то свинью подложить, так прежде всего самой себе, родименькой!
Обрадовавшись, что подруга наконец улыбнулась, Катюшка одарила ее звучным чмоком где-то поблизости от щеки и продолжила:
– В Питербурхе, сказывают, еще ни швеек, ни белошвеек, ни кружевниц нету. Всяк все с собой везет, сколько может. Ты только подумай! На весь Питербурх, на всех дам – всего одна уборщица для волос женских! И ежели какой праздник, так она, случается, за трое суток до оного некоторых дам убирает, а они принуждены сидя спать, чтобы убору не испортить! Ну, у меня фонтажи есть, шиньоны – это ладно… А ну как Фрицци упрется рогом («Рогами, – мысленно поправила Алена, – всеми теми бесчисленными рогами, кои ты ему, подружечка, наставила!») и ничего мне не отдаст? Я ведь к нему пришла от герра Химмеля в чем была – неужто опять нажитое брошу?! А вот ежели бы я подловила его за сладеньким, тут бы моя сила была. Получается, не я ему, а он мне изменил, и я, как обиженная, имею право идти восвояси… – Она не добавила: «Со всеми платьями, башмаками и фонтажами» – это подразумевалось само собой. – Вот ежели бы я его застала с какой-нибудь дамою… – Она хихикнула, возбужденно стиснула руки и с мольбой воззрилась на Алену: – А? Ну Але-онушка!
И только сейчас до Алены дошла вся изощренность задумки Катюшкиной…
* * *
– Да ты, девонька, и впрямь не в себе! – вскричала она возмущенно, делая попытку подняться, но Катюшкины ручки, беленькие да нежные, оказались на диво цепкими – и Алена осталась сидеть как пришитая.
– Ну неужели ты мне не поможешь? – плаксиво проныла Катюшка. – Я же ведь тебе помогла!
Да… спорить с этим было невозможно. Можно было только попытаться переубедить Катюшку, но очень скоро Алена поняла, что не стоит и пробовать.
– С чего ты вообще взяла, что это удастся? – уже совсем слабо трепыхалась она. – Да Фрицци твой на меня и не глядел никогда!
– Не глядел? Да он тебя сожрать был готов, так глядел! Ну скажи, чего ты ерепенишься? Не обязательно же его на себя тащить – главное, чтоб я его застала без штанов или вы целовались бы. Но только чтоб выглядело это как настоящее. Мы тебе сделаем платьице такое, без шнипа,[84] на пояске, и в нужную минуту ты этот поясок – др-р – юбчонка – бах! – а тут и я у дверей: «Ах вы такие-сякие, негодники!»
Алена ничего не могла поделать с собой – расхохоталась, против воли любуясь Катюшкою, столь живо и весело изобразившую все, о чем она говорила, что это показалось Алене совсем легким, не стыдным и не опасным. Она даже позавидовала подружке.
Эх, ну как бы сделаться такой же веселой прелестницей, все поступки которой совершаются с невинной улыбочкой и, хоть направлены сугубо для собственной пользы, умеют внушать прочим людям, этим доверчивым простакам, что их первейшее благо – забота о благе Катюшкином? Нет, право слово, сердиться на нее – невозможно, немыслимо!
И отказать – тоже невозможно.
11. Новый насест для новой голубки
Катюшка не намерена была откладывать дело в долгий ящик. По ее мнению, все должно было свершиться мгновенно, и, надо отдать должное, коварный план, сложившийся в ее бойкой головушке, позабавил бы даже кардинала Ришелье, того самого, о коем ныне здравствующий российский государь Петр Алексеевич говаривал, что отдал бы ему половину своего царства – лишь бы тот научил, как управлять другою половиною. Ришелье, впрочем, давненько уже отправился в мир иной, да никто в России о нем знать не знал, в том числе и Катюшка, ну а кабы она знала, то непременно невзлюбила бы сего великого человека, многие, весьма многие действия которого были направлены против женских клюк, сиречь хитростей…
Разумеется, после того как Алена подвигнет Фрица на прямую измену или на подступы к ней, а Катюшка с оскорбленным видом и со всеми своими узлами отбудет к ненаглядному «Людвичку», Алене уже нельзя будет оставаться в доме у Никитских ворот. Решили, что она как бы убежит подальше от стыда, однако непременно к ночи появится в Китай-городе, в новом Катюшкином обиталище, куда из прежней прислуги та намеревалась взять лишь преданного Митрия.
За «хлопоты», как это называла Катюшка, она пообещала Алене держать ее при своей особе сколько понадобится для распутывания загадочных и печальных обстоятельств ее жизни, и Алена всерьез опасалась, что ей придется ходить в Катюшкиных горничных девках до самой старости. Ни ей самой, ни другу Ленечке, который, счастливо избегнув лап Тайной канцелярии, жил теперь у родителей тихо-мирно, затаясь, только изредка делая вылазки для отыскания секретов Никодимова прошлого, не удалось выяснить ничего мало-мальски путевого. Слишком многие Никодима ненавидели, слишком многие желали ему смерти. Кто угодно мог подкупить любого работника, чтобы влил отраву хозяину в заморское винцо! И хотя Ленька уверял, что «нутром чует», будто над Никодимом свершил свою месть тот израненный, истерзанный пленник, которого они когда-то с Аленою спасали, это казалось ей нелепицей. Она склонялась к тому, что убийцей был один из работников – пусть и по чужому наущению. После вступления Ульяны Мефодьевны в права наследства они все остались при ней. Правда, злая баба двоих уже выжила со двора, но Леньке удалось их отыскать. Проявив немалую хитрость, потратив изрядные деньги в кружалах и споив этим двум вёдра зелена вина, Ленька был убежден: они знать ничего не знают и видеть ничего не видели. Оба были слишком робкими, богобоязненными людьми, чтобы не только погубить чью-то душу – свою бы спасти! – но даже противостоять Ульяниной безрассудной лютости. И теперь Алена непрестанно думала думу: как бы исхитриться и столь же дотошно попытать прочих работников? Лучше всего это сделал бы такой же, как они: скотник, дворник, воротник,[85] сторож… Однако пока что никого внаем Ульяне не требовалось, и сколько ни шнырял Ленечка вокруг ее двора, никак не мог туда законно проникнуть.
Но сейчас первой заботой для Алены сделалось Катюшкино «освобождение».
На другой же день новое платье доставили. Собственно, шилось оно для Катюшки и уже было почти готово, так что мастерице пришлось только подогнать лиф, а к подолу приметать новую фалбалу (Алена была повыше и потоньше подруги) – и все!
Часа два под неусыпным Катюшкиным присмотром Алена вздыхала глубже и глубже, пока не навострилась с одного вздоха разрывать поясок, на котором держалась нижняя юбка.
Решено было до самого последнего мгновения не позволять Фрицу давать волю рукам: преждевременное зрелище столь доступных прелестей могло и вовсе охоту отбить у еще не окрепшего жеребчика!
Алена старалась не думать о том, что будет, ежели эту охоту отбить не удастся. Одна мысль о мужских объятиях заставляла ее холодеть. К горлу подкатывала тошнота, и не раз она уже готова была отказать Катюшке, пусть даже та, разъярясь, и выгонит ее вон. Но вот как-то, глядя на возбужденное лицо подруги, рьяно перешивающей тесемку Алениной юбки, чтоб не лопнула раньше поры, она остро пожалела Фрица. Вот, ходит там где-то в своем Приказе, знать не зная, какие строят супротив него козни. И во главе заговора – кто? Его ненаглядная Катюшхен, которую он окружил всей мыслимой и немыслимой заботой и в бореньях с которой на постели подорвал свое мужское здоровье. Катюшка была вынослива, как молодая кобылка, а любовный пыл ее никогда не угасал. Она могла бы сутками не вылезать из постели, оставаясь при этом все в одном положении – с широко разведенными ногами. Это какой же мужик такое выдержит?!
Словом, стоило Алене пожалеть Фрица – и она поняла, что в завтрашний день глядит уже спокойнее. К тому же Фриц, даром что немец, был собою пригож: высокий, статный, светлоглазый, и Алена порешила, что будет представлять на его месте того беспутного и незабываемого Егорушку, с коим она год назад – всего лишь год! А чудится, жизнь миновала! – так самозабвенно любилась в Иванову ночь на лесной поляне.
Фриц – это не жилистый, малорослый Фролка, не волосатый, потный Никодим. С ним небось будет легче… И ведь всего только один раз! Авось и ни одного разу не будет, ежели лечение Фрицу впрок не пошло.
Подумала так – и от сердца отлегло. Авось да небось – первейшее русское успокоительное, похлеще валерианы действует!
* * *
И вот роковой день настал! Уже с утра Катюшка вела себя так, будто встала не с той ноги. Она дулась, капризничала, то принималась плакать, то язвила, то хохотала – словом, старалась изо всех сил, чтобы сделаться противной и Алене, и Фрицу… и даже себе самой. Отбыл Фриц из дому совершенно уничтоженный и притом взбешенный. Тотчас принялись увязывать богатства, хранившиеся в шкапу: Катюшка намеревалась отступить с поля боя как можно поспешнее.
Когда все было готово, она разоделась, напудрила с помощью Алены волосы, раскрасила личико – и отбыла на вечеринку, куда они были званы вместе с Фрицем, но, поскольку она наотрез отказалась туда ехать, пришлось отказаться и ему. Надо ли объяснять, что и это было частью задуманного плана, хитрой уловкою, которая подействовала на вернувшегося Фрица, как удар обухом?
Да, он выглядел изрядно раздосадованным, когда Алена чуть ли не с порога сообщила ему, что его ветреная возлюбленная в одиночестве укатила танцевать! В первую минуту ей показалось, будто она поспешила с известием и что он тут же кинется на этот бал, к «Катюшхен», однако достоинство немецкого рыцаря возобладало над порывом нежного любовника. Фриц сделал губы в ниточку и промаршировал в светлицу, служившую ему кабинетом.
Притаившаяся за стенкой Алена с замиранием сердца слушала, как он мечется туда-сюда, грохоча каблуками. Время уходило, но Фрицу под горячую руку она опасалась попадаться. Шуганет – и все, лопнут Катюшкины хитромудрые придумки, как должен лопнуть поясок! Поэтому она дождалась, пока за стеною стихло, и, отводя глаза от кивота, убранного шитыми жемчугом и каменьями убрусами, – стыдно было! – перекрестилась и осторожно торкнулась во Фрицеву дверь.
Послышались торопливые шаги, и Фриц распахнул дверь с таким радостным выражением, что Алена едва не бросилась прочь от раскаяния, накатившего жгучей волной. Он небось думал, что Катюшка воротилась!.. Лицо Фрица тут же разочарованно вытянулось:
– Это вы, Ленхен? Что-то слючилось?
«Эх, стыд под каблук, совесть под подошву!»
Призвав на помощь всю свою развязность, Алена сделала шажок вперед, Фриц принужден был посторониться, и она втерлась в комнату.
Неприметно огляделась. Фриц был аккуратен просто нечеловечески, всякая вещь у него всегда лежала на своем месте. Вот и сейчас: ничто в комнате не свидетельствовало о расстроенном состоянии ее владельца. Трубки, кисет, книги, макеты пушек – Фриц был артиллеристом. Правда, обивка на шелковой французской лавке, «канапе» называемой, помята, лежат листки с рисунками пушек, а на полу стоят башмаки. Верно, Фриц читал лежа. Как он, такой долговязый, ухитряется лежать на такой крошечной лавчонке? Как на этом – на этой? – канапе вообще можно лежать? Впрочем, именно сие Алене и предстоит вскоре выяснить, ибо ни одного предмета, на коем можно творить любодейство, в комнате не было. Стулья узкие; разве что стол, но на нем все разложено и расставлено в безупречном порядке, который Фриц вряд ли захочет нарушить даже в порыве неудержимого желания! Однако пока что Алена возбудила в нем отнюдь не желание, а скорее раздражение. Заметив, что он недовольно хмурится, Алена прикрылась, как щитом, книжкою.
– О, герр Фриц, прошу у вас прощения за назойливость… Но я читаю сие замечательное сочинение доктора Хрюндига о применении трав в лечении болезней и никак не могу перевести некоторые слова.
Фриц взглянул на Алену не без интереса. Он, конечно, знал, что подруга его любовницы сведуща в травах, а когда она в одночасье свела пять бородавок с его ладони, завязав над каждой шелковинку и зарыв их потом в навоз (как шелковинки сгнили, так и бородавки сошли!), Фриц стал относиться к ней даже не без некоторого почтения. Но чтоб читать печатное медицинское сочинение на немецком языке! И где она его только раздобыла?
Алена очень надеялась, что Фриц не спросит об этом. Книжку по Катюшкиной просьбе раздобыл пресловутый Людвичек, и он же едва заметными знаками наметил те слова, за разъяснением коих надлежало обратиться к Фрицу. Сама Алена, хоть и понимала кое-что по-немецки, читать на этом языке не умела!
Насупленные брови разошлись, и Фриц указал ей на стул. И вообще – он впервые видел русскую даму, которая сама, по доброй воле, желала бы учиться великому немецкому языку! Не двум-трем любовным словечкам, а серьезной речи.
Он даже ощутил некоторое уважение к Ленхен, потому и предложил ей сесть. Но Алена предпочитала стоять, причем как можно ближе к предмету своих тактических действий, и она застенчиво улыбнулась:
– Ах, нет, данке, данке шен. Я на минуточку. Вот, извольте глянуть… – И она ноготком чиркнула по слову Bein, отчаянно надеясь, что Фриц не заметит легких пометок фон Штаубе.
– О, это очень простое слово, – снисходительно улыбнулся Фриц. – Оно означает – ньога.
Алена, которая отлично знала, что означает слово Bein, вытаращила глаза:
– Нёга?! Какая нёга?
– О, nicht! Не нёга, а ньога! Может быть, recht, то есть как это по-русски… правая, а может быть, и левая ньога! – И для наглядности Фриц похлопал себя по правой, а затем по левой ноге.
– О, нога, нога! – обрадовалась Алена и, повыше поддернув юбку, выставила поочередно обе ножки. – Нога!
– Ньога, ньога! – не меньше ее обрадовался Фриц, одобрительно озирая то, что было щедро представлено его взорам.
Ножки оказались и впрямь – загляденье: стройные, округлые, с тонкой щиколоткой и круто выгнутым подъемом. Их обтягивали черные кружевные чулочки, схваченные у подколенок изумрудно-зелеными подвязками. И Алена заметила, что на немецком челе промелькнула едва заметная тень неудовольствия, когда занавес упал и представление окончилось.
«Дудки! – подумала Алена. – Все еще только начинается!»
– А скажите, господин Фриц, – она перелистнула несколько страничек, – что означает это слово?
«Это слово» было простое – Hand, и Фриц незамедлительно сознался, что оно означает – рука.
– Рука? – повторила Алена, вытягивая собственную руку и задумчиво ее оглядывая. – Hand – рука… А как по-немецки будет – локоть?
– Лохоть? – Фриц явно не понял, и Алена сочла за лучшее легонько похлопать его по сгибу руки.
В ответ Фриц похлопал по сгибу руки ее и объявил, что лохоть по-немецки Ellbogen.
Его пошлепывания, его ждущий, игривый взгляд вдруг напугали Алену. «Господи! – ужаснулась она. – Да что же я, стервоза, делаю! Чем мы с Катюшкою лучше тех гулящих, которые советуют друг дружке: «Обдери его, жаднюгу, побрей, черта, до зубов!» Нет, надо бежать, бежать отсюда, и пусть Катюшка сама со своими немцами разбирается!»
И в эту минуту, когда она уже готова была пуститься наутек, та, другая Алена, умная да разумная, тихо и презрительно спросила ее: «Бежать? Куда? В яму? Или… в монастырь?»
«Господи прости, – обреченно подумала Алена. – И ты прости, Егорушка. Но другого пути для меня нет!»
И, подумав так, Алена с игривой улыбкой коснулась пальцев Фрица и пожелала узнать, как называются они, после чего обогатила свою память словом Finger, но секрет сей Фриц поведал ей, столь же игриво перебрав ее пальцы.
Затем они похлопали друг друга по плечам, которые по-немецки звались Schulter, по коленам (Knie), по бокам (Huften), и все резвее, все веселее… Это очень напоминало игру в пятнашки или в горелки, и Алене захотелось закричать: «Горишь, горишь!» – когда при последнем похлопывании Фриц задел ее грудь и дико покраснел.
Книжка уже валялась на столе, но Фриц не замечал беспорядка. Взгляд его блуждал по груди Алены, а руки он спрятал за спиной, как бы пытаясь держать их в узде. Право слово, все выходило куда легче, чем она думала!
«Кажется, пора!» – подумала Алена. Ей очень хотелось перевести дух, прежде чем перейти к решительным действиям, однако глубокие вдохи до времени ей были заказаны, поэтому она перешла в решительное наступление не переводя духа, в полном смысле этого слова.
Она осторожно положила ладонь на грудь Фрица, словно невзначай ущемив между пальцами сосок, и тихо спросила, не откажется ли господин Фриц назвать ей и эту часть тела.
Фриц перевел дух за двоих и уточнил, интересуется ли Ленхен названием груди вообще (теперешнее его касание никак нельзя было назвать легким!), или конкретно соска (до этой части тела он добрался, изящно запустив палец Алене в декольте). Пришлось сознаться, что ее интересуют оба названия, и если первое – Brust – выговорилось Фрицем вполне легко, то на втором – Sang – голос его вдруг задрожал. Впрочем, вслед за голосом задрожал и он сам, когда Алена обвела ноготком его губы… Она не успела ни задать сакраментальный вопрос, ни получить исчерпывающий ответ, мол, губы – это Lippe, потому что Фриц предпочел прервать поток анатомических исследований поцелуем.
* * *
«А как по-немецки язык?» – успела подумать Алена, прежде чем вспомнила, что ей должно быть противно.
Как ни странно, противно не было. Однако и дыханье не перехватывало, и жар не разгорался в чреслах, и голову не заволакивал туман – как тогда, в лесу… Ей не было противно, ей не было сладостно, ей было просто никак. «Терпеть можно!» – решила она и попыталась ответить на поцелуй, представив себе, что рядом с нею лесной лиходей. Обман удался – губы Фрица разгорелись, а руки все смелее начали оглаживать стан Алены. Она даже испугалась, что главное орудие даст залп (сиречь лопнет поясок), еще когда не будет завершена артподготовка. Поэтому она выждала окончания поцелуя и, отпрянув от Фрица, попросила позволения задать ему еще один, «самый последний», вопрос.
– Последний? – тяжело дыша, спросил Фриц. – А потом что?
– Потом – воля ваша, майн герр! – нежно усмехнулась Алена.
– Ну, говори! – решительно глянул на нее Фриц, и неутомимая ученица, торопливо перелистав полузабытую книжку, выставила на свет божий слово Glied.
Hесколько мгновений Фриц вовсе не дышал, а потом взял Аленину руку и потянул ее куда-то вниз.
– Ой, что вы?! – ужаснулась она так искренне, что Фриц незамедлительно отпустил ее.