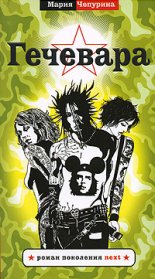Яд вожделения Арсеньева Елена
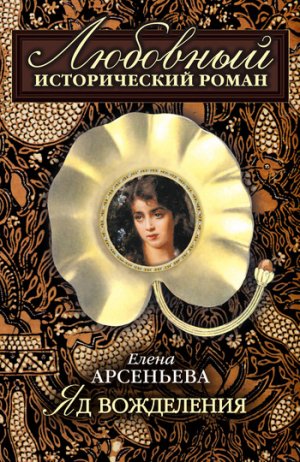
– Что с вами, Ленхен? Я только хотел показать вам Glied, ибо я не знаю этого слова по-русски. Glied – это часть тела, которой кавалер доставляет приятность и удовольствие своей даме. Понимаете?
– Нет… нет, не понимаю, – пролепетала Алена. – При… приятность, говорите вы?
– О да, русские боятся удовольствия, которое они получают от тела! – изрек Фриц, и руки его весьма чувствительно сжали талию, которую он доселе лишь игриво оглаживал. – Не надо бояться, meine Taube!
– Я и не боюсь! – жарко выдохнула Алена. – Тело в тело – любезное дело!
Как всегда, минуло несколько мгновений, прежде чем до Фрица дошло. Обыденной русской речью он владел достаточно бойко, а вот с поговорками дело еще обстояло худо. Он даже брови свел, напряженно вникая в заковыристые, а внешне столь простые словечки, но вдруг лицо его просветлело. Слава те, уразумел!
Фриц не замедлил доказать свое полное согласие с народной мудростью, властно привлекая к себе податливое женское тело и прижимаясь к толще юбок своими бедрами, которые по-немецки тоже называются Huften, как и бока. Бока, бедра – какая разница, ежели даже сквозь юбки Алена ощутила преизрядное затвердение – и подумала, что Катюшка поздно вылила за окно бухарскую мочу. Дело-то сладилось! Ай да… ну… держись теперь, Ленхен!
– Ленхен, о, meine Lieber! – выдохнул Фриц.
«Майне либер» же вовсе перестала дышать. Настало время? Или еще не настало? И промедлить – все проиграть, и поспешить излишне – тоже худо. Может, Фриц ни о чем таком и не помышляет. Может, все его намерение – лишь пошалить, пообжиматься с легконравной наперсницей своей метрессы, которая – наперсница, понятное дело! – бросала-бросала на него игривые взгляды, а нынче вовсе разошлась. Ну а коли дама зовет поиграть, с чего кавалеру целку из себя строить? Но не спохватится ли он в последнюю минуту, вот в чем вопрос? Не задумается ли: к чести сие? Или к бесчестию? Об этой самой пресловутой чести немецкого барона и рыцаря Алена с Катюшкой столько наслушались, что просто уши вяли, стоило Фрицу завести свою любимую песню о славном роде фон Принцев и особенно об основателе сего рода, достославном Гуго фон Принце, который из-за неудобьсказуемого имени своего чудился подругам чванливым, длинноносым и гугнивым.
Но пока что, похоже, Алена сама слишком задумалась, потому что руки Фрица вновь поползли по тонкому стану, обтянутому зеленым шелком, к розовым выпуклостям, преизрядно выпирающим из шнурованья, и начали умело оглаживать и потискивать их, уже всерьез добираясь до коралловых сосков, внезапно встопорщившихся и сделавшихся похожими на две ягодки – красненькие, до времени вызревшие ягодки посреди двух белопенных, цветущих калиновых гроздей!
– Meine Beereling, – так и высказался Фриц, проводя губами по ее шее и начиная покусывать мочку уха. – О, meine Beereling! Я так тебя хотеть!
Ну, кажется, яснее и не скажешь! Оставалось дать понять кавалеру, что дама тоже не в игрушки играть намерена, а от всей души, вернее, от всего тела жаждет полюбоплотствовать с пригожим немцем, у которого столь крепкие руки, и такой настойчивый язык, и опытные губы, и, что всемеро важнее всего перечисленного, столь ощутимый бугор на том месте, кое прежде было так скромно и гладко облегаемо шелковыми портками, по-модному называемыми кюлотами, словно бы отродясь там не было ничего мужского, враз опасного и сладкого для женского естества. Откуда что взялось?! Вот уж воистину – кроме смерти, от всего вылечишься!
Неудержимо тянуло расхохотаться, и удержать смешинку, попавшую в рот, можно было единственным образом: вздохнуть как можно глубже, словно бы в порыве неудержимой, всепоглощающей страсти.
Она и вздохнула – да так, что груди, на которых бесстыдно краснели отпечатки жадных мужских пальцев, вовсе выскочили из полурасстегнутого лифа. Но это было так себе, невинные пустячки! Сего глубочайшего вздоха не смогли сдержать тесемки. Они лопнули, да еще с треском, который хоть и был весьма слаб, но заставил Фрица вздрогнуть и даже отпрянуть.
Что было весьма кстати, ибо теперь юбкам ничто не мешало сползать по нагому, даже рубашечкою не прикрытому женскому телу.
Фриц нервно сглотнул, когда открылся кругленький пупок гладкого, будто шелк, бледно-смуглого живота, потом изящный, подобный амфоре, изгиб Huften… ах, извините, – бедер, на которых юбки задержались, словно бы в нерешительности… ровно настолько, чтобы зритель издал нетерпеливый прерывистый вздох, – и тогда юбки обрушились к стройным ножкам, прикрыв их от колен до земли, так что чудилось, будто обладательница этих ножек стоит в невеликом стожке свежескошенной зеленой травушки, подставляя солнечному нескромному взору все, что обычно бывает сокрыто.
С глухим стоном Фриц рванул застежку на поясе; кюлоты упали до колен, и ничем более не сдерживаемое естество мощно нацелилось на жертву его вожделения, которая глядела на сей предмет широко распахнутыми глазами, не зная, чему более изумляться: успеху своих маневров или тому, что иноземцы не носят исподнего. Впрочем, одно она знала точно: перед мощью такого тарана («Дура Катюшка! Неужто у Людвичка еще больше? Быть того не может!») не должна, просто не имеет права устоять ни одна оборона, а потому лучше самой отворить ворота крепости и сдаться на милость победителя.
Алена слегка попятилась – как бы в испуге. Сзади стояла та самая французская шелковая лавочка, канапе. Сюда-то и плюхнулась полуобнаженная лицедейка, причем зеленые шелковые волны так и остались на полу, открыв те самые черные кружевные чулочки, которые не так давно пробили первую брешь в броне Фрицевой печали.
Более разоблачаться не потребовалось, да и времени на это не было отпущено. И чулочки, и покосившийся, полурасстегнутый корсаж – все это так и осталось на побежденной, когда победитель в два шага, путаясь в спущенных штанах, достиг завоеванной территории и вонзил свой меч в разверстую рану, вложил кинжал в ножны, пустил жеребца в стойло, а голавля – в озерцо, напоил конька в колодезе, забил заряд в пушку, свайку – в кольцо, а кляп – в бочку, посадил преступника в темницу, помешал пестом в ступке, запустил козла в огород, а медведя – на мед… ну, что там еще выдумано живейшими народными присловьями для обозначения первого мгновения любострастного действа, коему в немецком языке соответствует куцее словечко ficken?..
Цепляясь за скользкий шелк, обтягивающий канапе, и тяжко выдыхая сквозь стиснутые зубы, Алена думала: «Да скорее, скорее же ты, чучело заморское!» И ее нимало не волновало в тот миг, что никаких морей и океанов не пролегает меж Россией и Саксонией, а стало быть, если даже Фриц и чучело, то вполне сухопутное.
Наконец Фриц затрясся, будто в припадке падучей, тоненько взвыл:
– Oh, mein Gott!.. – И, продолжая славить своего лютеранского бога, который, ей-же-ей, был здесь ну никак не замешан, извергся в бурных судорогах, до того обессиливших его своею внезапностью и опустошительностью, что он сполз на пол, да так и замер, стоя на коленях и уронив голову на голый живот своей дамы.
И точнехонько в это мгновение за спиной Фрица открылась дверь.
* * *
Точнехонько в это мгновение за спиною Фрица открылась дверь, и чудилось, не только стены сотряслись, но само канапе вновь задрожало от истошного вопля:
– Изменщик! Шуфт гороховый!
Фриц вскочил, как зазевавшийся новобранец по команде капрала, и сделал «налево кру-гом!». От резкого движения его несколько повело в сторону, и глазам его пассии, так и валявшейся на изнемогающем канапе, предстала не кто иная, как Катюшка.
Она была в новехоньком полосатом ярко-розовом роброне при серебристо-белом нижнем платье, и Алена хихикнула: Катюшка до чрезвычайности напоминала сегодня не «leveres d'amour», а редиску, лопнувшую от спелости. Роль хвоста исполнял самый затейливый фонтаж-коммод вперемешку с «блондовыми» кудельками.
Впрочем, скорее всего, лопнула сия редиска не от спелости, а от лютой злости. Алый напомаженный ротик беззвучно открывался и закрывался, словно у его хозяйки от ярости в зобу дыханье сперло, голубые глазки метали такие молнии, что, чудилось, в состоянии были испепелить любого мало-мальски совестливого человека. Под действием этих молний Фриц принялся проделывать какие-то сконфуженные телодвижения, Алена же продолжала лежать бесстыжей растопыркою, пытаясь понять, играет Катюшка, как было условлено, или и впрямь разозлилась не в шутку. Больно хорошо играла!
– Вот что бес-то с людьми живыми делает!.. – как бы в изумлении пробормотала Катюшка, созерцая Аленину наготу, и левый глаз ее одобрительно подмигнул, а потом, спохватившись, она вновь возопила, воздевая руки к небесам: – Люди добрые! Да вы только поглядите, нет, вы поглядите только! Со мною ложа разделять не желал, а взял мою девку и живет с нею блудно!
– Катюшхен… – робко проблеял немчик, с ужасом поглядывая на дверь, словно ожидая явления этих самых «добрых людей» во главе с Митрием, а разгневанная Катюшка вновь завопила, словно желая, чтобы ее анафему слышно было на всех стогнах:
– Катюшхен?! Хрен тебе, а не Катюшхен, чучело заморское! (Судя по всему, и она была не сильна в землеописательной науке, впоследствии называемой географией.) Да чтоб вам гореть в адовой смоле, грешникам!
– Грех – пока ноги вверх, – лениво сообщила Алена, призывая на помощь всю свою наглость. – А опустиша – господь и простиша. – И она осуществила сказанное.
– Молчи… ты, оторва! – вызверилась Катюшхен. – Я тебя голую-босую на улице подобрала, приютила, обогрела, а ты… ты! Змею подколодную я на своей груди вскормила. Змеищу!
Она с такой печалью заглянула в свое обширное декольте, что от жалости к самой себе у нее выступили слезы и покатились по буйно нарумяненным щечкам, а одна даже капнула на грудь, прямехонько угодив на «пластырь красоты».
Лицо Фрица перекосилось от жалости: редкий мужчина спокойно глядит на женские слезы!
«Ах, зря ты все это, Катюшка, затеяла, вот уж, право, зря! – угрюмо подумала Алена. – Ну, хватит валяться в непристойной позе – пора переходить в наступление!» И она спросила со всем мыслимым ехидством:
– Что это вас, барыня, разобрало? Сотрется у герра Фрица это самое, что ли? Сколь мне ведомо, вы уж давненько его в покое оставили. Этак ведь и заржаветь мужик может.
Она даже не увидела, а почувствовала, как встрепенулся Фриц, вмиг почуяв себя не грешником и разбивателем нежного женского сердца, а обиженным и оскорбленным.
«А ведь и правда! – пораскинул он своим трезвым немецким умом. – Я ведь содеял сие с этой pfedlich Madel[86] не просто из нравственной распущенности, а поскольку весьма изрядное время не получал от моей метрессы законного удовлетворения естественных потребностей, на кое я вполне вправе рассчитывать согласно моему общественному положению и тому достаточно щедрому содержанию, кое мною было определено сей недостойной!»
«Да, – подумала в это время Катюшка, которая читала по лицу Фрица лучше, чем по книге, – умеют мужики одеяло на себя тащить – что русские, что немцы, что чухонцы. Тут первое дело – ощутить себя неправедно обиженным!»
Они с Аленой обменялись мгновенными одобрительными взглядами, и Катюшка опять ударилась в крик, поливая сожителя и распутную подругу такими помоями, что Фриц только отдувался да отирал рукавом сорочки взопревшее лицо. А Алена, изумленная изобильностью Катюшкиных ругательств, едва успевала отругиваться, уповая, что небеса не примут этих проклятий всерьез:
– Типун тебе на язык! На твою голову! На сухой лес будь помянуто!
Наконец поток Катюшкиного красноречия иссяк. Она начала повторяться, и у Фрица на лице появилось видимое выражение скуки.
– Довольно, meine Liеber! – проговорил он резко и продолжил на диво чисто по-русски – верно, от злости: – Довольно, право! Я более не намерен терпеть! Возможно, я и виновен, но ты не даешь мне даже возможности оправдаться! В конце концов, мы не супруги, и я не давал перед господом тебе поручительства в вечной своей верности. В свою очередь могу сказать, что твое поведение с герром Штаубе меня тоже изрядно возмутило! Я ведь видел, как не далее вчерашнего бала сей герр, который так толст, что из него можно выкроить троих таких, как я, уронил тебе в декольте маринованную Kirsche, а затем бессовестно выуживал ее оттуда пальцами, причем ты не отвесила ему пощечину, а только пожималась, поеживалась да хихикала.
– Ну так щекотно же, – простодушно улыбнулась Катюшка. – Небось захихикаешь, когда оне за голые титьки холодными перстами…
Алена, тем часом уже поднявшаяся с ложа и почти прикрывшая наготу, даже присвистнула с досады, видя, как бездарно сдает Катюшка свои с бою взятые позиции. Это уже было начало отступления, отката, и ежели у Фрица хватит ума добавить еще пару-тройку мелких Катюшкиных грешков (точнее, пару-тройку десятков!), все, что с таким трудом, хитроумством и старанием было нынче достигнуто, рассыплется в прах!
Похоже, Катюшка тоже ощутила, что дело как-то неладно оборачивается. Вот-вот из обвиняющей сделается преступницей! И она снова заголосила:
– Толст, изволите заметить? Толст, да не скуп! Между прочим, господин Штаубе в отместку за щекотку мне меж грудями золотую монетку сунул! От тебя же я новый фонтаж уже которую неделю допроситься не могу. А те корсеты и сорочки с чулочками, кои ты мне не далее как третьего дни клялся презентовать? А туфли? Туфельки красненькие с каблучками? Помнишь? Сулил, еще когда сулил, да в посулах по сей день и хаживаю! Ну кто ты такой после этого? Скупердяй Васильич Растудыкин, да еще и распутник преотъявленный, бесстыжие твои глаза. И еще смеешь мне вчинять упреки? А я что – к дереву привязанная, чтоб их выслушивать? Не стану – вот и весь сказ! И слышать тебя не стану, и видеть тебя более не желаю! Уйду от тебя, от скряги, уйду! Коли герр Штаубе втрое толще тебя, сухореброго, так, стало, и втрое щедрее будет! Домик мне в Китай-городе обещался снять, а что тут у тебя, в такой дали от всех, скуку скучать? Оставайся здесь сам со своею оборванкою! Только знай: все платья мои, и юбки, и прочие вещички, и салопы, и шали – я все с собой заберу, а коли не дашь – так ославлю тебя, что и на Кукуй носа не сунешь: засмеют!
И, не удостоив более даже взглядом ни бывшего любовника, ни ту, с коей он оказался застигнут на месте преступления, Катюшка круто повернулась – и поплыла из комнаты. Ее торжественное убытие было несколько смято тем, что ворох юбок застрял в дверях и пришлось протискиваться бочком. Но вот сие было благополучно осуществлено, и дверь за оскорбленной в своих лучших чувствах дамой захлопнулась.
Фриц фон Принц получил отставку.
* * *
По дому еще какое-то время разносилось эхо Катюшкиного негодования, однако собрала она свои пожитки на диво споро: не прошло и четверти часу, как засвистел, загаркал под окнами кучер и сытые лошади, громко топая по набитой земле, повлекли возок с Катюшкиным добром и ее саму прочь от грешного любовника – в объятия нового… новое ведь, само собой, всегда лучшее!
Алена задумчиво поглядывала на оторопелого немца, который никак не мог взять в толк свершившегося и имел вид ребенка, заблудившегося в лесу. Правда, нелегко было представить дитятю с этакой трубкою во рту, из коей Фриц безостановочно выпускал клуб за клубом. Трубку сию, как было известно всем домашним, подарил ему сам государь Петр Алексеевич… сын того царя, при котором за курение рвали ноздри и били кнутами. Ну что ж, теперь нравы изменились – до того изменились, что бабенка безданно, беспошлинно может покинуть полюбовника, коему всецело обязана спокойным привольным житьем, и отбыть к другому на содержание.
А вот интересно бы знать, размышляла «змея», пригретая на Катюшкиной пышной груди, обратил ли внимание Фриц, сколь споро его любовница смылась? Нажито у нее было немало, ох немало, однако же в считанные минуты все снесено в возок. Додумается ли Фриц, что все добро-добришко было Катюшкою втихаря собрано и увязано загодя?.. Да где ему сообразить! Стоит, словно мешком по голове стукнутый, пыхтит трубкою. Нет, вроде бы ожил: подошел к буфету, достал четырехугольную бутыль толстого стекла, глотнул прямо из горлышка раз да еще раз…
Алена затаила дыхание. Многие мужчины не прочь учинить дебош да скандал под влиянием бахусовых паров. Уж не примется ли он сейчас вымещать злобу на той, из-за коей лишился веселенькой, пригоженькой метресски? Не пора ли ей исчезнуть подобру-поздорову? Дело-то сделано, чего еще ждать?
Уйти хотелось бесшумно, однако сделать сие не удалось: накрахмаленные юбки, которые никак не удалось собрать с полу, предательски шуршали.
Фриц оглянулся и некоторое время тупо смотрел, словно не в силах вспомнить, кто это перед ним и, главное, отчего в этаком виде.
«Ну вот! – обиженно подумала Алена. – А ведь что говорил, негодяй! Таубе, мол, и эта, как ее… бирлинг…»
Не отводя от Алены задумчивого взора, Фриц вновь приложился к горлышку, а затем решительно сунул бутылку в буфет. В его прищуренных глазах вдруг вспыхнуло новое выражение. Скорым шагом приблизившись, он развел руки Алены в стороны, так что юбки вновь поползли на пол, и сосредоточенно проводил их взором. Повинуясь его движениям, Алена переступила через них и двинулась за Фрицем к тому самому, уже знакомому, канапе. Теперь она чувствовала себя совершенно ошеломленной и никак не могла понять, что ей предстоит. Впрочем, кое-что начало проясняться, когда Фриц не только снова расстегнул, но и проворно снял кюлоты и уселся на канапе. Полы его измятой сорочки вздымались на величавом знаке мужского достоинства. Свидетельница сего так и вытаращила глаза. Как? Снова?.. Да что это с ним?! Почему? Неужто?..
Она не успела додумать. Небрежно откинув полы, Фриц сделал приглашающий жест, а когда дама замешкалась, не поленился подтащить ее к себе и водрузить на свои колени, для надежности поглубже насадив на кол. Она задергалась, вырываясь, но Фрицу только того и надобно было, так что вскоре они уже прыгали вместе, и наконец Фриц знакомо побагровел, завел глаза, застонал…
Алена не без любопытства следила за его лицом, на котором выражение напряженного ожидания постепенно сменялось блаженным спокойствием.
Наконец Фриц открыл глаза:
– О… о! Zweimal подрьяд… О, это ест Herrlichkeit! О, да ты настоящая чюро-дей-ка! Как это говорится в Русланд? Не знайт, где найдет, где потеряйт? Нет плохо без хорошо? О, это ist Weinkrampf!
Алена растерянно улыбнулась, кивнула и сделала попытку слезть, но Фриц еще крепче стиснул ее талию:
– О нет, нет! Оставаться на место! Как это сказать… Святое место не бывать пустое? Здесь сиживать Катюшхен, теперь будешь сиживать ты, meine Taube! Это будет твой… как это бывает? Палка для птиц? Сидеть птица?
– Насест? – робко предположила ничего не понимающая девушка.
– О ja! – захохотал Фриц. – Твой насесть! Этот дом – твой клетка, а meine Glied – твой насесть! Was wollen sie? Ты хотеть?
Она пожала плечами, все еще не в силах понять, чего от нее добивается этот немец-перец-колбаса, который, вместо того чтобы горевать по уехавшей любовнице или буйствовать во гневе, хохочет и веселится.
– Не хотеть? – удивился Фриц. – О, я понимаю. Тебе мало zweimal! Надо dreimal? Ох-хо-хо! А ну-ка, meine Glied… Ну, давай, давай… – Он растерянно хлопал светлыми ресницами. – О нет… да! Да! Ты чувствуешь? Ты его чувствуешь? Ты рада? А, meine Beereling?
«Ягодка» закрыла лицо руками, невольно подчиняясь резким движениям Фрица, восхищенного вновь обретенными свойствами своего залежавшегося и чуть ли не мохом поросшего орудия. И если сначала он еще допытывался, смеется она или плачет, то вскоре вновь позабыл обо всем на свете, жадно ловя летучие искры животворного огня.
А она… Уж смеяться-то ей было не над чем! Плакать? Конечно, следовало плакать, но Алена уж столько слез пролила, что одни всхлипывания и остались. Так что она, пожалуй, все-таки смеялась.
Часть II
Свет мой ясный
Пролог
…Алена очнулась от боли: кто-то дергал ее за волосы. Эта боль воскресила жуткое воспоминание: медведь сдирает с головы жертвы кожу вместе с волосами! Она вскинулась, рванулась – и в то же мгновение к ее лицу придвинулось чье-то лицо.
Это был не медведь, а человек!
– Отпусти, Христа ради! – шепнула Алена, однако вцепившаяся в ее косу рука не ослабела, словно незнакомец не понимал. И тут Алена впервые заметила, что взгляд его пуст и неподвижен, словно у мертвеца… или безумца.
Господи! Она обмерла, обмякла в этих железных руках. Неужто ее бросили к какому-нибудь несчастному одержимому из тех, которые настолько опасны, что их держат в клетках до смерти? Ну, если так, минуты ее сочтены, коли не придут надсмотрщики, не спасут!
Существо так крепко натягивало косу, что Алена едва могла повернуть голову, чтобы оглядеться и понять, где находится. Oна видела сквозь прутья решетки очертания домов, выступающих из рассветной полумглы. Mесто показалось смутно знакомым. Вроде бы окрестности Красных Ворот. Где-то здесь рядом Аптекарский приказ, куда они часто ходили с отцом, куда собирались с Катюшкою – посмотреть на чудовище, да так и не собрались.
И тут догадка, страшнее которой и представить невозможно, страшная, как смертельный удар, коснулась рассудка и заставила Алену испустить крик, который показался ей оглушительным, а на самом деле был слабым хрипением.
Она медленно зажмурилась, не в силах более глядеть в лицо своей смерти.
Понятно, почему ей показались знакомыми окрестности! Это как раз и был двор Аптекарского приказа, тот самый двор, где держали на цепи полузверя-получеловека, найденного охотниками в арзамасских лесах. В клетке этого чудовища и находилась сейчас Алена.
Что делать? Начать звать на помощь? А если это разъярит его? О, хоть бы пришли караульные! Может быть, если чудовище увидит пищу, оно отпустит Алену и ей удастся взобраться на решетку?
Она покосилась на страшное, изрытое оспинами лицо, над которым торчали сбившиеся колтуном волосы. Слышала, будто звери не выносят пристального человеческого взгляда, могут страшно разъяриться от этого, однако чудовище на нее не накидывалось, и все дольше становились мгновения, когда они с Аленою смотрели друг другу в глаза.
«А если опять заговорить с ним?» – подумала она. Конечно, это почти наверняка напрасная затея, но все-таки Алена решила попробовать.
Не сразу удалось разомкнуть пересохшие от страха губы, но наконец она вытолкнула из горла хриплое подобие слов:
– Кто ты?
Взгляд чудовища замер на ее губах, и Алена снова заставила их шевельнуться, проговорив:
– Отпусти меня.
Теперь голос повиновался лучше, звучал мягче, и хоть чудовище явно не понимало ничего, оно продолжало пристально смотреть на ее губы.
– Не убивай меня, – проговорила Алена. – Я тебе ничего плохого не сделаю.
Покрытые коростой губы чудовища дрогнули, разомкнулись – и с них сорвался какой-то нечленораздельный звук. Вот именно: это было не рычание, а некое всхлипывание, и Алена с изумлением поняла, что неведомое существо пытается говорить! Вряд ли оно хотело что-то выразить – вернее всего, просто силилось повторять за Аленою. Очевидно, ему понравилась человеческая речь, хотя едва ли с этим существом кто-то прежде разговаривал. Наверное, оно все время слышало грубые крики, в которых таился страх и ненависть перед его уродством.
– Отпусти меня, а? – попросила Алена как могла мягче. – Не причиняй мне вреда, Христом-богом тебя молю. Ведь ты когда-то был человеком, значит, можешь кого-то пожалеть…
Как ни странно, ей не так уж трудно оказалось говорить с ним приветливо. Страх еще сковывал движения и помыслы, но Алена всегда любила всякое зверье, и никогда в жизни ни одна самая злобная псина не сделала даже попытки накинуться на нее. И это чудовище вело себя вполне мирно. Оно слушало – и вроде бы пыталось понять.
«Надо говорить, беспрестанно говорить, – мелькнула мысль. – Я убаюкаю его речами, я смогу продержаться, пока не придут люди…»
И в это мгновение люди пришли.
Сначала Алена услышала далекий смех, потом вдруг звук резко приблизился, словно человек вышел из-за угла. И на миг стало тихо… Алена боялась повернуться, однако всем существом своим расслышала топот бегущих ног и полные ужаса крики на два голоса:
– Мать честна! Девку… девку заломал, зверюга!
– На помощь! Спасите! Спасите, кто в бога верует!
Чудовище сгребло Алену в охапку так стремительно, что она даже пикнуть не успела, и издало сдавленное рычание. Дико поведя глазами, оно швырнуло Алену в угол клетки – она не удержалась на ногах и упала – и принялось бросаться на решетку, сотрясая и выворачивая ее из земли. Ярость его чудилась неукротимой, и два караульщика порскнули прочь, потому что длинные когтистые ручищи вдруг просунулись меж прутьями в явном стремлении схватить неосторожного и растерзать на месте.
Алена с трудом села, повела глазами – и только теперь вполне разглядела то существо, которое во всякий миг могло сделаться ее палачом.
Оно было бы среднего человеческого роста, когда б не согбенная спина и не понурая, провисшая меж плеч голова, которую даже в ярости оно не могло вполне поднять. Ноги его были босы, и всей одежды на нем была черная от грязи посконная рубаха, вся в прорехах, сквозь которую проступало неимоверно грязное и худое, однако все так и оплетенное тугими мышцами тело. И если несколько мгновений назад Алене чудился проблеск мысли в поступках этого существа, то сейчас в нем истинно не было ничего человеческого. Это был зверь… дикий зверь, готовый убить всякого, кто посмеет отнять у него добычу. И этой добычей была Алена.
Она закрыла лицо руками, сжалась в комок.
Она-то смотрела на него с жалостью, видя только брата своего по Творцу, несчастного получеловека, – а что он видит в ней? Не вызовет ли она в нем жуткого, смертельного вожделения? О, что же, что ждет ее?! Если эта пугающая догадка верна, так лучше пусть он перервет ей горло, пусть загрызет заживо!..
1. Скукотища
«Какая планета ближе к душе рождающегося человека, от той он и приемлет рождение. Одни планеты сухого свойства, другие – влажного, третьи – студеного, четвертые – горячего. Те же естества получает человек, рождающийся при соответственном положении планет в момент его рождения. Человек естества теплого и влажного бывает разговорчив и высказывается ско-оро-о, – Алена широко зевнула. – Человек естества сухого и горячего – дерзок, храбр, ненасытен в своих привязанностях; человек студеного и сухого естества – молчалив и важен; человек естества студеного и влажного – неподвижен и печа-а-лен…»
Алена с тоской отложила книжку. И что только находила Катюшка в этих бреднях хиромантов и прочих звездочтецов? Верно, мало находила, коли не позаботилась прихватить с собой вместе со всеми пожитками. Снотолкователь-то взяла!
Ох, господи, прости, зевота так и разрывала! Алена едва успевала прикрываться ладошкой и крестить рот.
Прилечь бы… но нельзя, времени нет: вот-вот приедет к обеду «человек студеного и сухого естества» – Фриц фон Принц, ее господин и хозяин!
Алена, которая до девятнадцати лет жила как в спокойном, счастливом сне, где все происходило неспешно и размеренно, поражалась, сколь быстро менялась в последнее время ее судьба. Как будто та волшебная купальская ночь, когда она стала другой – стала женщиной! – повлекла за собой коренные изменения в ее жизни. Так всплеск камушка, кинутого в реку, расходится по воде множеством кругов. А ее «камушек» пошел вообще «блинчиком»… Отцов долг, потом расправа – и его смерть, стремительное замужество, гибель мужа – а потом пошло-покатилось! И за май-июнь-июль сколько всего содеялось! Хватит иному целую жизнь прожить, а Алене трех месяцев показалось мало. Теперь, кажется, наступило затишье, но не понять: судьба и впрямь замедлила свой сумасшедший бег или просто затаилась, выглядывает откуда-нибудь исподтишка, выжидая подходящего (а может быть, самого неподходящего) мгновения, чтобы вновь запрыгать, замахать руками и пуститься вскачь?
Неизвестно, как там располагает судьба, одно Алена знала доподлинно: она сама только того и ждет, ибо жизнь с Фрицем была ей невыносимо скучна.
Впервые за многое время не только хлебушка стало у нее вдоволь, как в песне поется. Конечно, Фриц, обжегшись на молоке, дул на воду, и достославный шкап, осиротевший после его опустошения Катюшкою, больше уже не наполнялся таким бессчетным количеством роб, юбок, башмаков и шиньонов с лентами, однако несколько платьиц в нем все-таки поселились. Алена, ей-богу, перестала бы быть женщиной, если бы у нее не легчало на душе, когда она разглядывала эти нижние юбки – шелковые или атласные, шнурованья с большим декольте, верхние распашные платья с узкими рукавами до локтя и с двумя-тремя рядами блондовых фалбалок, ниспадавших на руку. Теперь у нее были свои, а не Катюшкины, взятые поносить, ленты, своя вышивка к платьям золотой и серебряной нитью, свои золотые и серебряные аграманты,[87] а также свое всевозможное кружево, разглядывать которое Алене было столь же занятно, как, скажем, в детстве – лубочные картинки: орнамент золотисто-желтых блонд плелся из тех же тонких нитей, что и все кружево, но обводился по контуру более толстой одноцветной, или цветной, или злат-серебряной нитью, образуя самые диковинные узоры.
Все эти богатства она вполне могла взгромоздить на себя, и черед раздумий о наряде наступал с неизбежностью рока после того, как, с утра подрумянясь слегка, Алена завтракала с Фрицем. Теперь приказы о столе отдавал он, и на широкой дубовой столешнице сделалось много свободного места. Исчезли икра, и ветчина, и блины: перед каждым стояла чашка с серой кашкой, но если Фриц дочиста выедал свою, после чего наставительно поднимал палец и восклицал, что это необычайно полезно для пищеварения, то Алена давилась, размазывала свою кашу по миске, создавая видимость еды, а потом отдавала должное орехам, ягодам, яблокам, дыням сырым, моченым и варенным в меду, которые в ту пору не сходили у них со стола, ибо почтенные бухарцы привезли на знаменитых ослах в Москву несметное количество дынь. А это божье творение, как сведома была Алена, обладает двумя противоположными свойствами: если жареные семечки дыни содействуют мужскому возбуждению, то дынная мякоть успокаивает оное. На ее счастье, Фрицу дыни были весьма по вкусу, а изгрызанье семечек он считал совершенно варварским занятием.
Да, вот так нынче обстояли дела: на ночь Фрицу коварно подавалось теплое молоко с медом; в его подушки была зашита пропитанная валерьяновым маслом тряпица, да и у изголовья его, и в кабинете всегда стояли букеты из валерьяны, благо, в эту пору она вовсю цвела и добыть ее не составляло труда; дынями Алена потчевала его до отвала; свежий лук, перец и другие пряности вовсе исчезли со стола… К ночи Фриц ощущал такую неодолимую усталость и сонливость, что мечтал лишь об одном: поскорее приклониться к подушке (о коварном содержимом коей он, понятно, не подозревал.
И слава богу! Слава всем схимникам, скромникам, праведникам, апостолам святым, что эта слишком дорогая мыта,[88] которая была наложена судьбой на Алену, свелась от золотого рубля к медной полушке. Ибо чем дальше, тем больше отвращения внушало ей вожделение Фрица, и никак, ну никакими усилиями не удавалось вообразить себя в объятьях лесного божества, а не в трезвых, немецких, отвратительно воняющих табаком.
Да и немец вряд ли особенно страдал от своего спокойствия. Фриц был «естества студеного и сухого», так что ему потребна была не женщина «неподвижная и печальная», вроде Алены. Нет, ее чары сильны были только на первый раз. Вот ежели б тут снова появилась голубоглазая дамочка «естества теплого и влажного», которая «бывает разговорчива и высказывается скоро…». Но о Катюшке никогда помину не было; вообще Фриц вел себя так, словно она никогда не заглядывала в его жизнь.
Итак, Фриц безмятежно храпел ночами; Алена тоже с удовольствием вдыхала валерьяновый запах, потому что хоть ночью могла избавиться от одолевавшей ее безысходности.
Когда на душе муторно, делать ничего не хочется, да и разве сделаешь что, если Фриц раз пять на день норовит наведаться домой в неурочный час, удостоверяясь, не слетела ли с насеста его новая голубка! Нет, Алена не верила в его любовь… да о любви меж ними ни словечка и не было молвлено! Однако, испытав от прежней ягодки столь многие плутости, Фриц больше не хотел рисковать и увеличивать число своих рогов. По этой же причине он ни разу не брал с собой Алену на ассамблеи и другие вечеринки, ездить на которые столь горазда была Катюшхен. Алена, впрочем, ни чуточки об этом не жалела! Едва ли не каждая ассамблея заканчивалась какой-нибудь несусветной причудою по примеру государевых выдумок. Петр Алексеевич порою бывал в Москве, и стоило ряске тихой обыденности затянуть это «болото» (так он с ненавистью называл Первопрестольную), как туда кидался какой-нибудь новый каменюга – и взбаламучивал «верьхи».[89] Слухи о его выходках доползали также из Питербурха – и один страшнее другого. Чего стоила хотя бы история о том, как во время петровских бесовских потех граф Матвей Алексеевич Головин, за то, что не хотел рядиться и мараться сажею, был раздет донага и преображен в демона на невском льду. Демон не явил силы демонской: он простудился, получил горячку и вскоре умер… И Алена до смерти боялась: а вдруг на одной из ассамблей попадется она на глаза государю, или его приятелю Францу, или Меншикову? А вдруг узнают они ту, которую видели зарытой в землю на площади? Что тогда с нею станется?!
Глупости, конечно. Скорее они поверят в оживших мертвецов, чем в этакое преображение казнимой бабенки. Умом Алена все понимала, но никуда не могла деваться от страха, прочно угнездившегося в душе и евшего ее поедом. Изгнать его можно было одним путем: найти истинного виновника, истинного убийцу! А как это сделаешь, когда ты все время находишься под прицелом ревнивых Фрицевых глаз?!
Конечно, она могла сбежать к Катюшке, как и уговаривались. Но тогда даже самый слабоумный из дурачков, христарадничавших на папертях, живо смекнул бы, что меж подружками царило полное согласие, а против Фрица составлен был хитроумный, коварный заговор. Трудно было бы даже вообразить последствия его гнева! Уж такие пошли бы клочки по закоулочкам! Жалоба государю; может быть, даже дуэль… Понятие сие еще не вошло в российскую обыденность, однако дуэли уже случались, особенно в Курляндии, где мнящая себя Европою Польша была ближе. Там-то дуэлянились направо и налево, так что про многие смертоубийственные исходы люди политесные извещены были хорошо. Вот кабы фон Штаубе со своей любушкой уехали в Питербурх, Алена живо дала бы деру от Фрица и поселилась в их домике, который Катюшка клялась оставить за ней. Но с этой поездкой все что-то затягивалось, что-то откладывалось, так что Катюшка жила будто на пороховой бочке, опасаясь мести Фрица, а Алена маялась бессмыслицей своего существования.
Кабы не Ленечка, она вовсе спятила бы!
А Ленька был теперь при ней. Поскольку Катюшка забрала с собою рукастого и облагороженного (в том смысле, что рожа с его лица почти совершенно исчезла) Митрия, хозяйство Фрицево осталось без кучера, конюха, домоправителя и закупщика провизии. Алена, воспользовавшись удачной минутой, заикнулась о Леньке (пришлось назвать его двоюродным братом, чтобы Фрицу не лезло в голову лишнее), ухитрилась подать ему весточку – и вот он предстал перед нею и Фрицем как лист перед травой.
Алена всякого ждала от этих смотрин, но уж никак не того, что Фриц вытаращит глаза, а потом пойдет бить Леньку по плечам и жать ему руку, хохоча и восклицая:
– Oh, meine Mitspieler![90] Сколькая лета, сколькая зима! Изволишь? Ха-ха-ха! Изволишь?
– Изволишь, изволишь! – радостно вторил Ленька, не уступая Фрицу в силе ударов и пожатий, а потом полез за пазуху, вынул крошечный бумажный сверточек и сказал, ломая язык, для того, чтобы быть лучше понятым иноземцем: – Цвай копейка твоя видать?
– О, цвай копейка, цвай копейка! – обрадовался Фриц, и долго еще хохотали они с Ленечкой, вспоминая свою встречу в какой-то харчевне, где просидели всю ночь за картами.
Это было больше года назад: Фриц тогда едва приехал в Россию и знал одно только русское слово: «Изволишь?» Ленька сказал ему: «Изволишь?», показал карточную колоду – и они бились в марьяж сперва просто так, «на интерес», потому что Фриц был очень осторожен в игре, ну а потом он все же решился поставить «цвай копейка», которые ушлый русский у него мгновенно выиграл – и поклялся сохранить на память о немце, который, не зная ни слова по-русски, играл с русским в карты ночь напролет. Так что устройство Ленечки в дом Фрица прошло без сучка без задоринки, и Алена теперь была не вовсе одна как перст.
Ленька был тощий и верткий, будто молодой угорь. «Его мать небось бегом родила, да и он чуть встал – и побежал, и по сю пору бежит!» – говорила прислуга. Благодаря этой своей бегучести Ленька не только успевал за день переделать невообразимое множество дел по дому, но и добежать до Белого города, заглянуть украдкой на Ульянино подворье, а то и добиться тайного словца от кого-нибудь из работников, ибо со многими он уже свел дружбу, щедро угощая их в кружалах и пьяными в дымину приволакивая домой. Сам Ленька мог выпить хоть бочку – и остаться трезвым, потому что обладал непревзойденным умением незаметно для собутыльника выплескивать содержимое своей кружки за спину, или под стол, или в сторону, в то время как всякий нормальный питух льет пьяное зелье себе в рот. Но ничего он не выведал, кроме того, что жизнь в Ульянином доме текла тихо, ровно, богомольно – так же однообразно, как жизнь Алены.
Но настал, настал-таки день, когда ее судьбе осточертело румяниться, читать зачитанные книжки и с тоской угождать Фрицу, которому все это было как бы и без надобности (Алена не сомневалась, что он не забыл Катюшку и тайно вздыхал о ней)! Настал день, когда Фриц явился оживленный, помолодевший и заявил, что должен немедля ехать в Петербург – один! Не успела Алена истово возблагодарить господа за такую милость, как примчался Ленечка с вытаращенными от возбуждения глазами и улучил минуту шепнуть Алене, что в рядах Китай-города верный человек видел Агафоклею, ближнюю прислугу Ульянищи, которая пыталась сбыть подороже перловые[91] подвески, а подвески те, как было доподлинно известно, – краденые, проданные некогда Никодиму Мефодьевичу.
– Не миновать, чтоб им не быть в тайном Никодимовом схороне, – давясь в спешке словами, шептал Ленька. – Стало, либо сама Агафоклея, либо кто еще тот схорон нащупал. И помяни мое слово – за это убили Никодима! За денежки!
– Может быть, – пробормотала Алена, опасливо косясь на дверь, за которой Фриц радостно собирался в дорогу. – Но узнать это можно только там, на месте.
– Все, – рубанул ладонью Ленька, – завтра пойду опять туда – может, пристроюсь для какой ни есть работенки…
Алена покачала головой:
– Сам говорил – Ульяна кого попало к себе не берет! А если тебя признает кто? Нет, ты уж там довольно примелькался! Не ровен час, кто-нибудь из твоих собутыльников болтанет, что ты невесть сколько выспрашиваешь тут да вынюхиваешь, – и все, дело загублено. Нет, тебе идти нельзя.
– А кто ж тогда пойдет? – в отчаянии возопил шепотом Ленька. – Ты, что ли?
– Разумеется, – спокойно ответила Алена. – Раз больше некому, мне и идти.
Ленька шутку не оценил – только хмыкнул:
– Тебе? Ну да! Кем же прикинешься? Упырицей, из могилы восставшей? «Покайся, Ульяна Мефодьевна, не ты ли барахлишко братнино покрала?» – провыл он замогильным голосом, простирая вперед трясущиеся тощие руки, долженствующие изображать мертвые кощи, и даже лик его подернулся синеватой бледностью, и закатились глаза, и дыбом встали волосы, и это было враз так страшно и так смешно, что Алена не выдержала – зажала рот двумя руками и зашлась в беззвучном, неостановимом хохоте.
Рядом трясся, тоненько, слабо повизгивая, Ленечка. Но вот наконец Алена отерла слезы и, еще вздрагивая от неутихшего смеха, умирающим голосом шепнула:
– Нет, от призрака Ульяна открестится, отчитается. А я в таком образе к ней приду, что она меня в красный угол посадит, да еще всяко мне услужать примется!
И, победно сверкнув глазами на озадаченного Ленечку, она развернулась – и унеслась в комнату, откуда уже давно доносилось нетерпеливое Фрицево:
– Ленхен, Ленхен! Идить сюда, на дорожка – сидеть, на прощаний – целований!
2. Чертогрыз
– Это я? – Алена недоверчиво поглядела в зеркало. Зажмурилась и опять поглядела: – Ленечка, это я или не я?
– Ты, ты, – кивнул он, однако в голосе его не было уверенности. – Нечего и думать, что Ульянища тебя признает, даже я тебя не узнаю!
– Я и сама себя не узнаю, – пробормотала она, с отвращением отбрасывая за спину свою черную косу.
Это был ужас какой-то. Лицо при черных волосах у нее сделалось иссиня-бледное, постаревшее. А сколько сил было положено, чтобы перекраситься! Ленька облазил все дубы в округе, пока набрал довольное количество нарастающих на них орешков, называемых чернильными. Затем они были сварены в масле, а когда получилась густая пенистая грязь, Алена развела ее теплой водой и намазала этой гадостью вымытые и высушенные волосы. Точнее говоря, мазал Ленька: ведь чернильное снадобье чернило не только волосы, но и что ни попадя, в том числе руки. Поди-ка заявись к Ульяне с черными крашеными руками – живо смекнет: здесь что-то не так! Был, конечно, способ сделать волосы черными и не перепачкаться. В одной из тетрадок, куда отец списывал зелейные премудрости (с помощью Ленечки Алена тайком перетащила эти драгоценные записи из батюшкиного дома к себе), значилось: «У кого волосы желты, надо пить журавлиные яйца, с вином смешанные, – черны будут». Но опробовать этот совет Алена не решилась. И журавлиных яиц в Москве не сыщешь даже у знаменитых бухарцев, и это средство неведомо когда подействует. Может, лет через десять – сие в «Лечебнике» сказано не было. Лучше уж дубовые орешки!
Наряд у нее был под стать цвету волос, и сейчас, глядясь в зеркало, Алена поклялась себе, что больше никогда в жизни не наденет ничего ни черного, ни смурого.[92] Ведь именно такого цвета были на ней тиковый сарафанец да крашеная китайковая рубаха, которая, будь она новой, немилосердно терла бы тело, да, по счастью, оказалась до того ношеной, что почти уподобилась сетчатой серпанке. Все это добро было куплено Ленькой в Китай-городе и со всем возможным тщанием отстирано. Теперь рубаха кое-где полиняла и сделалась невзрачнее не бывает. Лапти тоже отнюдь не скрипели, а кое-где истерлись до того, что торчали грязно-белые матерчатые чулки. Платок, однако, у Алены был свой, достопамятный, на паперти подобранный, и когда она завернулась в него, то ощутила, что все дни сытой, относительно спокойной и привольной жизни слетели, будто шелуха, а ее плотно окутали тоска, неуверенность, страх, озлобленность. Не столько черный цвет, сколько это состояние духа искажало и старило ее бледное, мгновенно осунувшееся лицо. Однако Алене и этого было мало! Она не желала оставить ни малейшей приметы, по которой глазастая Ульяна могла бы ее признать, а потому все-таки послала Леньку к незаменимым бухарцам: купить молодых, еще недозрелых грецких орехов. Их соком было беспощадно испятнано лицо и руки Алены, так что теперь она казалась сплошь засиженной мухами и, глядясь в зеркало, думала, что еще никого не встречала на свете, кто внушал бы ей большее отвращение, чем она сама! На это и был расчет.
Рачительная хозяйка, Ульяна не давала лентяям спуска, да и к прилежным была сурова так, что похвалы от нее дождаться – легче было умереть. Единственными бездельниками, коих она привечала да жаловала в своем доме, были хожалые женки-странницы, богомолицы и самые обычные побродяжки, потому что они приносили к Ульяне самые разные слухи, а до смотней, сплетен и разного-прочего бабьего богословия Ульяна была охоча, как жаба до мошек. И чем уродливее, чем отвратительнее была пришлая, тем на лучший прием могла надеяться, а если уж она готова была поведать Ульяне какие-нито ужасные и кровожадные байки, то спору нет – будет желанной гостьей! Алена, которая неделю только и делала, что набиралась ума-разума у прислуги в двух домах – Фрица и фон Штаубе, – а также впитывала всякую рассказку, приносимую Ленькою с торгов Китай-города, не сомневалась, что Ульяна приветит ее: и за лютое уродство, а перво-наперво за то, что Алена сделалась истинным кладезем самых страшных, самых душераздирающих и сон отгоняющих рассказок, которые только ходили в ту пору по Москве.
И вот наконец, скрепившись сердцем и помолясь усердно богу, Алена в сумерки постучала желто-пятнистой, будто жабья лапка, рукой в высокие тесовые ворота, в которые вошла некогда единожды – молодой, только что повенчанной женой, а вышла обвиненная в убийстве, в сопровождении стражи. И немало сил понадобилось, чтобы устоять на месте, не броситься со всех ног прочь, когда приоткрылась смотровая щелка, в ней зыркнул недобрый глаз, а потом отворилась калитка и чей-то грубый голос буркнул:
– А… снова побирушка! Ну, вползай, коли пришла, чего стала!
* * *
Алена вползла. Это слово как нельзя более подходило к ее телодвижению, потому что войти на подгибающихся, расползающихся ногах было никак нельзя. Вышиб у нее почву из-под ног знакомый голос: в воротниках у Ульяны по-прежнему ходил Петруха, который был воротником и у Никодима, а стало быть, мог запросто признать свою бывшую хозяйку. И как было не признать, когда на его глазах, едва придя на этот двор, она увидала хромую лошадь – и посоветовала обложить ей больные ноги коровьим навозом. Петруха тогда более всех нахваливал новую хозяйку и прикусил язык, только углядев насупленные брови Никодима Мефодьевича. Больше у него уже недостало храбрости попросить у молодой хозяйки помощи, а было отчего: мужик маялся водянкою, и сейчас Алена приметила, что его раздуло еще пуще.
– Ну, чего глядишь? – с неудовольствием отворотил от нее Петруха свое отекшее лицо. – И без тебя тошно!
– Ах, бесстыжее твое лицо, – сердито прошипела Алена. – Бог видит, кого обидит! Зря на меня кричишь, может статься, я твою хворь исцелить могу!
Это был опасный шаг, но Алена хотела испытать прочность своей новой личины, дав Петрухе поглядеть на нее подольше. А потом, союзник в виде воротника ей не помешает: вдруг придется бежать отсюда сломя голову? Петруха может запереть перед нею ворота, но отворить малую калиточку…
В Петрухиных глазах появилось выражение такой детской надежды, что Алена невольно улыбнулась.
– Исцели, коли можешь, а? – тихо, совсем другим голосом молвил Петруха. – И сам не пойму, с чего такая напасть на меня напала?
– Да мало ли с чего? – пожала плечами Алена. – Попритчилось небось. Без притчи и трясца не берет! А у тебя, добрый человек, водянка. Эта болезнь не иначе оттого привязалась, что ты ночью выпил воды из непокрытой посудины, а ведь это время власти всякой нечисти, вот она и пробирается в воду и поражает неосторожного. От водянки надо с разваренного и заваренного сверчка воды выпить. Пей также березовых почек отвар, да побольше, лист брусничный завари и пей.
– Скоро… скоро ли скажется лечение? – нетерпеливо возопил Петруха, глаза коего так и шныряли по углам двора, словно выглядывали неосторожного сверчка.
– Терпи, – строго сказала Алена. – Знаешь, как говорят: хворь входит пудами, а выходит золотниками. Терпи, молись, да советов моих не забывай!
– Не забуду! – с жаром пообещал Петруха. – И тебя не забуду. Коли исцелюсь – век буду бога за тебя молить.
Алена кивнула ему – и пошла по двору. «Боже мой, – подумала она, – ведь у всякого человека что-нибудь да болит! И как же просто от такого больного своего добиться! Сказал ему зелейное или другое какое снадобье – и вот тот, кто видел в тебе врага или ничтожество, глядит, будто на мать родную! Вот бы так и жить: ходить по свету и лекарствовать, врачевством исцелять больных и убогих…»
Она так замечталась, что едва не наступила на какое-то крошечное существо, вприпрыжку приближающееся к ней по двору, пронзительно пища:
– Куды прешься, будто к себе домой? Гони ее, Петруха! А ну, гони прочь! Забыл, что я надысь наказала? Ах, башка твоя тупая! Пробить бы ее топором, чтоб вся дурь с водицей-то изошла!
Этой тщедушной карлицы Алена отродясь в глаза не видела, но тотчас узнала ее по Ленькиному описанию: Агафоклея, наперсница и ближняя девка Ульянищи. Девкою ее теперь назвать трудно, ведь она была ровесницей хозяйки, а той уже давненько сравнялось сорок. Хотя, пожалуй, Агафоклея и впрямь до сих пор оставалась девицею: вряд ли кто польстился на ее крошечные прелести. Про таких, как она, говорят: «Ни сук, ни крюк – каракуля!» – и дома звали ее не полным именем, которое было в полтора раза ее длиннее, а коротко, словно удар в лоб: Фокля. Многие думали, будто она не только телом убогая, но и головенкой скорбная, однако Ленька уверял, что Фокля хитрее лисы и опасаться ее следует не меньше, чем Ульянищи.
Вот эта самая Фокля и бежала сейчас к Алене с явным намерением ее на двор не пускать.
– А ты что повелеваешь? Хозяйка здесь ты?
– Ну, я! – гордо повела носишкою Фокля.
– Я! – с издевкой хмыкнула Алена. – Пришла свинья до коня и сказала: вот и я лошадь. А конь отказал: и ноженьки коротеньки, и ушеньки кургузеньки, и сама как свинья!
Позади раздались странные звуки. Алена оглянулась: это отмщенный Петруха делал вид, будто закашлялся.
– Ну а коли ты хозяйка, – с усмешкой спросила она, – скажи, зачем ворота на полночь ставлены?
Фокля громко чихнула – пожалуй, от непомерного удивления.
– Расти в брюхо, – вежливо посоветовала Алена: – Что ж ты так неосторожна, голубушка? Разве не знаешь: у того беда на носу висит, кто не чтит примет да не слушает старых людей. Исстари всем известно: коли ворота на полночь, стало быть, на север, поставлены, значит, всякая чертовщина неминуемо должна хозяев одолеть и выжить из дому!
– Складно врешь, – послышался позади низкий хриплый голос.
И Алене показалось, что все кончилось, не начавшись…
* * *
Опять противно затряслись ноги, но она нашла в себе силы обернуться и прямо взглянуть в лицо неведомо откуда появившейся Ульянищи.
Она показалась еще толще, тяжеловеснее, нескладнее, чем осталась в воспоминаниях. И лицо было обрюзгшее, покрытое желтоватой бледностью, с рябинками, которые, знала Алена, наливаются кровью, когда Ульянища впадает в ярость, так что вся она делается похожа на свою желто-красно-зеленую мухояровую[93] кофту. В эту устрашающую кофту она была одета и сейчас. Кроме того, на ней была мятая юбка дикого[94] цвета, а на голове – черный платок.
Как всегда, при виде Ульяны перло с души, мутило, но делать было нечего: назвался груздем – полезай в кузов!
– Ты, что ли, честная вдова Ульяна Мефодьевна? – спросила Алена, пытаясь хоть как-то защититься от пронизывающего взора, которым Ульяна так и мерила ее с ног до головы.
– Да, это я. Вдова, верно… И сирота, ведь без мужа жена всегда сирота!
На лице Ульянищи появилось выражение свежей скорби, на которое Алена непременно купилась бы, когда б не знала доподлинно, что Ульянин муж скончался уже десять лет тому, и она меж своими не называла его иначе как дубина стоеросовая, всякий раз прибавляя: «Хвала господу, что от него избавил!»
Вот бы напомнить ей это и поглядеть, какое сделается у ней лицо, как она выпучит свои мышьи глазки, запрыгает от ужаса! Стоило немалых трудов подавить пренелепейшее желание и сказать с соответствующим выражением:
– Сама сирота, а все ж, известна я, ты сирот благоденствуешь.
– Благоденствуя сирым, рано или поздно будешь вознагражден! – ответила Ульяна смиренно.
«Да она дает свою доброту в рост, как братец ее – денежки давал!» – с трудом подавила усмешку Алена и попросила:
– Мне приюта не найдется… хотя бы на ночь?
– Ступай вон на сеновал, тебе туда поесть подадут, – раздался где-то у колен писклявый голосишко, и Алена вспомнила про Фоклю.
На сеновал? Черта с два! На сеновал она и без Фоклиной подсказки наведается… немногое время спустя. А пока ей непременно надобно поближе и подольше побеседовать с Ульянищей. Поэтому она с нарочитым недоумением поглядела сверху вниз, как бы с трудом разглядев говорившую, и огрызнулась:
– А ты куда лезешь? Не с тобой разговор!
Ульяна не смогла скрыть ухмылки, однако тут же осуждающе поджала губы:
– Дерзка ты не в меру, как я погляжу. Ну да ладно. Скажи, знаешь ли баек, рассказок каких? Про чудеса и ужасти можешь складно лгать? А то меня ночница[95] доняла – спать не могу. Ночи длинные, темные… – Она зябко повела плечами. – Все чудится, чудится…
«После моих «баек» тебе и не такое причудится!» – мстительно подумала Алена, а вслух сказала со знанием дела:
– Отчего ж не быть ночнице? В доме-то стучит? Стучит!
Ульяна дикими глазами уставилась на нее, потом переглянулась с Фоклею, которая тоже имела остолбенелый вид, и выдохнула:
– А ну, заходи, убогая! Да скажи – ты об чем речь-то ведешь?
С этим стуком была связана особая история, и хоть Алена о ней уже позабыла, сейчас она пришла на память весьма кстати. В тот самый последний, роковой день, улучив минуту, когда хозяина не было дома, Фролка вошел в большую светлицу, где на лавке валялась еще не отошедшая от ночных побоев Алена, и, весело подмигнув ей, сказал: «Ништо! Сейчас мы Никодиму Мефодьевичу в задницу знатную иглу засадим!» С этими словами он залез в холодное печное жерло и, немыслимым образом изогнувшись, подцепил где-то в дымоходе малую дощечку на веревочке. Снова мигнул полуживой Алене и пояснил: «Как печку затопят, дым зачнет дощечку шевелить – она и примется по камню: стук да стук. Стук да стук! Никодим-то наш свет Мефодьич попрыгает, повертится: не иначе, скажет, черти в доме завелись за грехи наши! Авось поутихнет!» Тут же на крыльце загрохотали недовольные хозяйские шаги, и Фролка предусмотрительно вымелся в сени, оставив полуживую Алену вяло гадать, было все это – или только привиделось.
Ей так и не удалось услыхать Фролкина стука: в тот же вечер Никодим помер, а их обоих сволокли в застенок. Но сейчас, увидя, как изменилось лицо Ульянищи, Алена поняла: Фролкина «игла» все еще колется!
И она отважно ступила на крыльцо, говоря со знанием дела:
– Коли стучит где-то, сие означает одно из двух. Перво-наперво, для дома могло быть срублено буйное дерево. Таким деревьям придана особая разрушительная сила, скрытая и тайная, угадать которую могут только колдуны. Буйное дерево, попавшее вместе с другими бревнами в стены избы, производит непонятный шум, а потом без причины рушит все строение и обломками давит насмерть неопытных и недогадливых хозяев!
– Да откуда тебе было знать, что у нас стучит?! – изумленно пискнула Фокля, и Алена снисходительно глянула вниз:
– Да я чертовы козни за версту чую! Научил знатка один… отчитывать не умею, чего нет, того нет, а чуять – чую!
В эту минуту они из сеней вошли в скудно освещенную горенку, и у Алены занялся дух.