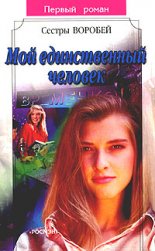Взгляни на дом свой, путник! Штемлер Илья

– Хорошо сказал, дорогой, – донесся из глубины зала голос толстомордого Кости. – Правильно сказал. Как настоящий поэт.
– Слышит, стервец, – покачал головой Нахум. – Такой слух, понимаешь… Кстати, и форма, ты заметил, одинаковая, что у солдат, что у офицеров. Знаки различия есть, а так одинаковая. И если, скажем, на сборах раздают обед, то все равны – и солдаты, и генералы. Бывает, что не хватает еды генералу, если он пришел не вовремя… Видишь, какой анекдот получается.
– Ты меня извини, Нахум, – проговорил я. – Но как-то слабо верится… Эти ребята с оружием, мальчики и девочки, тонкие, изящные, с библейскими глазами… И потом, когда они служат? Повсюду – в городах, в поселках, на шоссе, на пляже – грызут мороженое, едят питу. И все куда-то едут и едут. На автобусах, на попутных автомобилях…
– Известно, куда едут! – воскликнул Нахум. – К маме, на обед. Ночуют у себя дома или у подружек. Конечно, те, кому положено, – дежурят, смотрят на экраны, техника у нас сейчас неплохая и, кстати, своя, израильская. А так все по домам. Как после работы…
Шарканье тяжелых шагов прервало наш разговор. Взор Нахума, обращенный к хранилищу, стал мягче и беспомощнее, точно у близорукого, когда тот снимает очки.
Появился тучный Костя. Слоистые веки наполовину прикрывали черные выпуклые глаза уставшего человека.
– Насмотрелся на свое добро? – спросил Нахум.
– Слушай, писатель, – Костя обратился ко мне, – в каком-то театре я видел, еще в Дербенте… Один жадный еврей сидел со своим золотом. Потом к нему еще пришел сын, или кто-то там, не помню…
– Может, «Скупой» Мольера? – высказал я предположение. – Или, может быть, Пушкин. «Скупой рыцарь».
– Да, я помню. Антисемитская такая пьеса, – продолжал Костя. – Вышли из театра, я говорю жене: «Слушай, как можно? Статья есть специальная за межнациональную пропаганду». Жена ответила: «Дурак ты, Костик. Это – искусство…» Теперь я понял, понимаешь. Молодец был Пушкин, собрал здесь евреев, помог своим искусством. А вообще-то золото – страшная сила. Целый день бы сидел у своего сейфа, только надо идти, делать еще золото. Потому что я богатый еврей. – В тяжелом взгляде Кости я уловил насмешку. Разыгрывает он меня, что ли? – Послушай, ты совсем приехал сюда? Ах, в гости! Тогда молодец! Сюда приезжать не надо. Там, где много евреев, жить очень тяжело. – Костя протянул мне руку. Я поразился какой жесткой и крепкой оказалась его ладонь.
Попрощавшись с Нахумом, Костя ушел.
– Странная личность, – произнес я неопределенно. – Кто это?
– Хороший человек, – коротко определил Нахум. – Один из тех, кто был гордостью Израиля. Коммандос из группы Натана Нетаньягу. Они освобождали заложников в Уганде, в аэропорту Энтеббе. Помнишь ту историю?
Еще бы! Как я мог не помнить историю, которая потрясла мир! В 1976 году после посадки в Афинах французский лайнер, на борту которого летело из Тель-Авива 246 пассажиров, был захвачен палестинскими террористами и угнан в Уганду. Президент Уганды Иди Амин поддержал террористов. Президент Уганды ненавидел евреев еще и за то, что англичане в свое время рекомендовали Уганду как один из возможных вариантов размещения еврейского государства…
Прибыв в аэропорт Энтеббе, террористы отпустили всех пассажиров, кроме евреев, и заперли заложников в здании аэровокзала, требуя освободить из тюрем Израиля арестованных террористов. Иначе они расстреляют пассажиров-евреев захваченного лайнера.
Узнав о происшествии, израильтяне через сорок минут приступили к разработке плана по освобождению граждан своей страны, а также французских летчиков, которые решили остаться со своими пассажирами… В результате операции, осуществленной на расстоянии более четырех тысяч километров от Израиля, заложники были освобождены, террористы и союзные с ними угандийские солдаты убиты. Но при этом погиб руководитель операции. Раненный шальной пулей, он умер в воздухе по дороге домой.
– Так вот, этот Костя – один из коммандос. Он также участвовал в уничтожении террористов, захвативших автобус с детьми. И вообще был орел, пока не заболел какой-то редкой болезнью. Наша лучшая в мире медицина опустила руки – не поймут, в чем дело. Что-то на молекулярном уровне. Орел превратился в раскормленного индюка… А человек он и вправду богатый. После отставки занялся бизнесом, и довольно успешно… Между прочим, я тоже был в коммандос, – улыбнулся Нахум, – но не долго, перевели в обычные войска. Я никак не мог научиться метко стрелять на бегу. Да и под водой неважно ориентировался. Правда, ловко стрелял с парашюта, но этого было недостаточно, там такой конкурс… Но кое-что из мужской работы и мне перепало.
Много любопытного я узнал на этих посиделках в подвале банка «Дисконт». Приходили клиенты, приветливые, милые, состоятельные люди – сабры, сефарды, ватики… Только олимов среди них было не так уж и много. Но попадались. Из тех, кто уже нашел себя. Кто-то купил бензоколонку с автоматической мойкой, кто-то служил на престижном автобусном предприятии «Эгед», кто-то – о чудо! – устроился работать по профессии – врачом. И не куда-нибудь, а в первоклассный госпиталь «Рамбам», практикующим хирургом, с окладом восемь тысяч шекелей в месяц…
– Коммандос – это особое братство, – продолжал Нахум после ухода очередного клиента. – Это особые ударные силы армии. Их сразу узнаешь по внешнему виду. Они не таскают за собой рюкзаки с автоматом. Вернее, таскают, но не так, как эти пацаны и девчонки. У них особая стать. Воинская элита, гвардия… Коммандос может все. Владеет всеми видами оружия, техникой. Выносливые, как верблюды. Хладнокровные, смелые. Настоящие наследники Макковеев… Это потом, через годы, коммандос становятся такими вот, как я, добродушными поэтами. Или такими, как Костя… В молодости об этом не думаешь, в молодости тебя всего поглощает страшная сила – любовь к Эрец-Исраэлю, к Земле Израильской. Одна мысль о трагических дорогах твоего народа порождает такую ненависть к врагам, боль и гордость, что само понятие смерти принималось как величайшее благо, ниспосланное свыше. Да-да, это не поэтическая метафора. Нет силы могущественнее, чем национальное самолюбие. И ничто не может нанести большей обиды, чем оскорбление национального чувства. Знаешь, старик, я счастлив, что приехал сюда. А вдвойне счастлив, что все это не упало с неба, а я сам, по мере своих возможностей, создавал, строил и защищал свою маленькую страну…
Небо голубым пологом нависло над морем. Бирюзовая вода мягко поглаживала морщинистые камни мола. Солнце горячим компрессом льнуло к телу. Сознание погружалось в дрему… Сколько я пробыл в таком состоянии – не помню. Обгореть я не боялся – крем для загара «Доктор Фишер» № 15 давал гарантию. Всего в комплекте было около пятидесяти номеров, можно было добиться загара любого оттенка – от густо-коричневого до светло-кофейного, на всякий вкус. При этом крем не смывался морской водой, очень удобно, если б не цена.
Благостное состояние владело мной. Слух улавливал робкий шелест воды, словно море решило прилечь рядом со мной, отдохнуть после вчерашней работы.
Да, вчера море поработало от души. Хмурые седые волны чем-то напоминали суровых стариков-евреев в синагоге. То смиренно бормотали какие-то свои морские молитвы, то разгорячась и покачиваясь, повышали голос до крика, обрушивая на покорный берег тяжелую сердитую воду. Стремительная, она, казалось, дотянется до рельсов железной дороги. И дотянулась бы, если б ее не прогоняли обратно поезда, что подобно сторожевым псам мчались вдоль кромки моря из Иерусалима и Тель-Авива в Акко, через Хайфу и обратно. Задиристые тепловозы на больших скоростях тянули за собой восемь голубых и серых пассажирских вагонов. Или громыхали товарняки, всегда груженные «под завязку». Я почти не видел порожних платформ. Все время что-то везут, везут, везут…
Параллельно железной дороге пластаются две нитки шоссе. И не просто шоссе, а скоростной многорядный первоклассный автобан, спину которого день и ночь сплошным потоком массируют легковушки вперемешку с мощными трейлерами. Со стороны громоздкие трейлеры кажутся пастухами в гуще своего беспокойного разноцветного стада.
Кто бывал в Гаграх, видел дома, белеющие на поросших зеленью склонах, тот может представить себе и Хайфу, раскинутую на двенадцати холмах, составляющих гору Кармель. Среди древних городов Палестины Хайфа считается далекой прапраправнучкой, она основана всего лишь в 1760 году. Но все равно, являясь наследницей своих оглушительно-знаменитых предков, Хайфа умудрилась приютить на своей территории Грот Мадонны, в котором нашло убежище в холодную ночь Святое семейство, возвращаясь из Египта, – небольшую пещеру в скале, освещенную лишь мерцанием свечей с амвона, на котором стоит скромный крест с распятием. Мало кто из жителей Хайфы знает это святое место. Зато все знают Центральный базар.
Множество улиц ведут к базару. Я обычно садился в автобус. В просторный мощный «мерседес». С витринными стеклами окон, бесшумными дверьми, с искусственным климатом, мягкими рессорами и автоматической коробкой передач. Водитель, как правило тот самый израэлит, встречает пассажиров холодным взглядом робота, лишенного эмоций. Он придан автобусу, как составляющая этой чудо-машины. Пассажир входит только через переднюю дверь и предъявляет водителю то купон, то месячный проездной билет, то деньги: шекель семьдесят агорам, что довольно дорого для кармана олимов. Водитель, словно фокусник, выбивает из прозрачных накопителей кассы сдачу и вручает билет. Или пробивает компостер в талоне, рассчитанном на пятнадцать поездок. Талоны детские, студенческие, для пенсионеров, разовые и месячные. Все они различаются по внешнему виду. Кстати, месячный проездной билет не только именной, но и отличается формой просечки для мужчин и для женщин, дабы исключить проезд на один билет всей семьи. Это вызвало панику среди олимов – приспосабливаясь, муж передавал жене свой билет, и наоборот…
Бывалый автомобилист, я невольно восхищался мастерством водителей автобусов, которые по узким, извилистым и гористым улицам гоняли красавцы-автобусы красного цвета – отличительный цвет принадлежности к самому крупному автобусному предприятию «Эгед»…
Итак, красный автобус шальным петухом проскочил узкую улицу, заваливая пассажиров на крутом повороте, и остановился на улице имени Шапиро. Помню, как, услышав впервые название улицы, я не поверил своим ушам – ведь я только-только приехал из Советского Союза и не все осмыслил. Шапиро?! Хохма, что ли? Так я был ошарашен, когда в Одессе объявили остановку на улице Шолом-Алейхема… Это потом я бродил по улицам имени Эйнштейна, Розенблюма, Ротшильда, Кацмана и Рабиновича «Ну и страна, – думал я, – хотя бы разок выйти на улицу Ленина, глотнуть воздуха. Так нет, ходишь как по одному большому еврейскому анекдоту!..»
С улицы Шапиро я свернул направо и попал на базар.
Базар затопил длинную улицу, спускался в огромное подвальное помещение, выбирался из него и уплывал дальше, вниз. Со своим цветом, запахом, криками, музыкой, толчеей, беготней, ящиками, бочками, фурами… И над всей этой мешаниной витал неестественно громкий вопль продавцов, извещающих миру стоимость своего товара: «Шекель! Шекель! Шекель вахеци!» – что означало полтора шекеля…
Рискованная попытка описывать восточный базар – это надо видеть, слышать, вкушать, если достаточно в кармане шекелей. Не скажу, что для этого надо иметь много шекелей. Но для большинства вновь прибывших в страну любая сумма – сумма. Поэтому они торгуются с базарными крича-лами, вызывая с их стороны презрение. «А, русски! Перестройка!» – и отмахивают рукой: мол, ступай, ничего не уступлю. И стыдливо отходят от них наши бедолаги, тая в душе обиду: не станет же он объяснять горластому, неуступчивому и нагловатому торговцу, что не так давно он бы и взглядом не удостоил такого типа, он, профессор консерватории или специалист по экономике и праву…
В рядах, где торгуют мясом и колбасами, затерялся магазинчик Изи, некогда кишиневского страхового агента.
«Все в порядке, – говорит Изя, – не надо падать духом! Я тоже первое время хотел пешком вернуться в Кишинев. Но поостыл, переждал. Живу здесь полтора года, и ничего, кручусь. Вы видите мой ассортимент? Таких продуктов в Кишиневе не было со времен полководца Суворова, клянусь честью. Люди довольны, я при деле, и родственники пристроены».
В магазине Изи работала его родня. Может быть, поэтому он пока не прогорел. Многие прогорели, Изя не прогорел. Наоборот, собирается открывать еще один магазин. Удачник? Отчасти. Но больше упрямый и рисковый человек: начать свое дело при широкой конкуренции – известный риск. Не только собственный риск, но и тех, кто дает гарантию за тебя банку.
«Я все прошел, – горделиво говорил Изя. – И посуду мыл в ресторане, и ямы копал у мошавника, и куриные головы собирал. А теперь вот сам их выбрасываю».
Почему-то куриные головы вспоминают как отличительную сторону неустроенной жизни. Владельцы мясных лавок сносят куриные лапки, крылышки и головы в специальный ларь, что возвышается в центре базара. Можно рассчитывать на великолепный бесплатный куриный бульон или холодец. А к концу базарного дня можно прикупить фрукты и овощи по более низкой цене, а то выбрать и вовсе без денег овощи в брошенных ящиках, да такие, что нередко в советских магазинах идут первым сортом…
Жизнь готовит эмигранту много сюрпризов. И лестница, ведущая от улицы Герцеля к базару, перила и площадки которой представляют один общий прилавок. Чего только там нет! И носовые платки, и туфли, и бинокли, и водка, и собрание сочинений Ирасека в красных переплетах, и часы-будильник «Витязь», и шубы… Все-все, что удалось прихватить с собой обычной еврейской семье при отъезде из России.
Торговали в основном старики и старушки. Молодые и здоровые в это время сидят по ульпанам или ищут квартиру и работу. Как мне хотелось обнять этих стариков, что с надеждой и покорностью смотрят на каждого проходящего мимо их немудреного товара, подойти и обнять их, успокоить встревоженные души. Ничего, милые, все будет хорошо, все будет прекрасно. Вы у себя дома, это главное. Никто не оскорбит вас здесь, никто не ударит, не обидит. У вас есть пенсия, и вы на ту пенсию еще потянете своих домашних.
«Берегите бабушек! – напутствуют друг друга эмигранты. – Это наш собес».
Семья, в которой есть пенсионер, могла считать себя получившей приличное наследство.
Был случай. На второй день после своего приезда я выбрался в город и, потеряв направление, обратился с вопросом к первому встречному. И это была старушка. Маленькое, сухонькое существо в опрятном костюмчике, с ридикюлем под мышкой. Перемешивая русские и польские слова, она спросила:
– А что, пан не хочет взять автобус? – Старушка пытливо взглянула на меня. – То ж далеко идти, пан может запотеть.
Я ответил, что хочу пройтись пешком. И у меня есть при себе платок, на случай если «запотею».
– Нет, нет, – она тронула меня за рукав, – пан не хочет брать автобус, у пана недюже з пенензами?
Она была права – деньги хоть у меня и были, но платить за автобусный билет при здоровых ногах и свободном времени в городе, куда ты попал впервые, мне казалось кощунством. Тем более если идти недалеко.
– Знаете, мадам, я вчера приехал в страну. Мне интересно смотреть на город не торопясь.
– Ах, пан только вчора прибыл до Хайфы?! – воскликнула старушка. – Так это будет мой сюрприз пану. – Она раскрыла ридикюль и достала купюру в двадцать шекелей.
Я обомлел. В начале приезда мне эта сумма показалась весьма значительной.
– Возьмите, пан, возьмите! И купите себе билет на автобус. И фрукты детям. У меня еще есть деньги, не стесняйтесь.
Я отказывался, но как-то уклончиво.
– Евреи должны помогать друг другу. – Глаза и щечки старушки горели, она удерживала мой рукав.
А вокруг уже собралась небольшая толпа, и, конечно, почти все были «русские».
– Полицию позвать, что ли? – предложил кто-то. – Что он пристает к бабке? – и, вникнув в ситуацию, молодой человек с черной бородой добавил: – Возьми деньги, пижон. Я за двадцать шекелей четыре часа метлой на пляже махаю.
Мне осталось лишь поблагодарить старушку.
Вечером мой племянник Ленька, выслушав эту историю и покрутив в руках подаренную бумажку с изображением Бен-Гуриона, спросил деловито: «Где гуляет та бабушка? Точный адрес и приметы!»
Тогда я решил, что неожиданная встреча со старенькой польской еврейкой явилась предзнаменованием удачного моего пребывания в Эрец-Исраэле…
В дальнейшем я встречал подобных стариков (уже без «сюрпризов»). Привыкнув в Ленинграде годами смотреть программу «Время», я испытывал недомогание в девять часов вечера и по совету сестры отправился в «богадельню», что размещалась в трех соседних домах, на крыше одного из которых белела круглая тарелка телевизионной антенны дальнего приема.
Тихий двор утопал в цветах. Банановые пальмы тяжело покачивали еще зелеными плодами. И лишь отдаленные голоса и какие-то хлопки нарушали тишину райского уголка. Поднявшись по опрятной лестнице, я заглянул в распахнутую настежь дверь, что выходила на веранду. Просторная, светлая комната. Раздвинутые портьеры открывали вид на море. Старинное тяжелое трюмо с овальным зеркалом. На стене ковер с какими-то семейными фотографиями. Небольшая прихожая сливалась с кухней, сверкающей хозяйственной утварью. Однако хозяев что-то не было видно. И следующая квартира, выходящая на веранду, пустовала. Приблизившись к третьей двери, я остановился в изумлении. Рядом с косяком висела табличка «Красный уголок». Ну и ну!
Я просунул голову.
Длинный стол, покрытый кумачовой скатертью, упирался в трибуну, только без герба с серпом и молотом. За столом трое мужчин и одна женщина стучали костяшками домино. Всем им было далеко за семьдесят.
– Йося, – женщина взглянула на мою удивленную физиономию, – кажется, приехал твой племянник.
– Этот босяк сегодня уехал в Элат. – Тощий мужчина в полосатой бобочке повернулся в мою сторону и вопросительно уставился блеклыми глазами.
Я объяснил, что живу по соседству и пришел посмотреть программу «Время». Йося кивнул, молча указал на стул и откинул шелковую ширму, за которой прятался телевизор. До начала передачи оставалась четверть часа. Смиренно сложив руки на коленях, я принялся ждать. А со стены на меня с любопытством взирали Ленин, Подгорный, Косыгин и Горбачев. Потрепанные фотографии в каких-то рыжих крапинках. Рядом желтели вырезки из старых газет со знакомым шрифтом то ли «Правды», то ли «Известий». Еще эти стулья, свидетельски стоящие вдоль стены… Словно я вернулся домой и заглянул в родной ЖЭК десятилетней давности, если бы не пианино, затянутое парусиновым чехлом.
Игроки добродушно подтрунивали друг над другом, отчаянно споря по каждому ходу, и сплетничали… Я узнал, что вчера был пенсионный день и все получили на пятьдесят шекелей больше, чем в предыдущий месяц, так как курс шекеля упал по отношению к доллару. Дай бог, чтобы он и дальше падал! Еще я узнал, что утром всем меняли постельное белье, а тем, кого не было дома, придется ждать десять дней. Они подняли скандал, и староста сейчас звонит по телефону в хозяйственный отдел «Гистадрута»… И что какой-то еврей из Эквадора совсем плох, врачи потеряли надежду; конечно, восемьдесят один год…
– Мальчишка! – воскликнул Йося и грохнул костяшкой о стол. – В его возрасте моему младшему сыну было только семь лет.
– Ах! – кокетливо воскликнула женщина. – Йося, вы – разбойник!
Йося важно надул щеки, разукрашенные синими склеротичными жилками…
Я узнал, что завтра намечается «культпоход» в театр на русскую постановку гастролеров из Тель-Авива. Билеты покупают за свой счет, зато автобус бесплатный, туда и обратно… Потом вновь вернулись к еврею из Эквадора, на квартиру которого в доме престарелых довольно много претендентов. Ходят, интересуются, жив он еще или уже нет. Боятся, что староста «за взятку» передаст освободившуюся квартиру. Конечно, с этой новой алией понаехало столько одиноких пожилых людей – а куда им деться? Конечно, сюда. В каждом районе города есть свои дома для престарелых. Еще бы! Такие условия – прекрасная однокомнатная квартира с удобствами. Правда, обед приходится готовить самим…
– Я вам скажу, что у нас не хуже, чем в кибуце, – заявил Йося.
– Смотря в каком кибуце, – отрезала старушка. Она все время пыталась уколоть Йосю, и не без кокетства. – Можно подумать, что вы, Йося, видели когда-нибудь настоящий кибуц. С настоящим домом для престарелых, с лифтом, в котором цветут розы. Поэтому в Израиле средний возраст один из самых высоких в мире – семьдесят пять лет. Вы даже Хайфы не видели, сидите тут со своим Лениным. Поехали бы на Кармель. Полюбовались бы Хайфой. Посмотрели на дома, где живут порядочные люди без вашего коммунистического рая. Зашли бы в «Дан-Панораму», увидели, что люди продают и что люди покупают.
Йося окинул партнершу жутким взглядом блеклых глаз. И упрекнул старушенцию в том, что та отлынивает от работы в хоре. Люди собираются, а пианистка в это время валяется на пляже. Так и не разучили песню «Летите, голуби, летите…».
Старички раздухарились, предъявляя друг другу какие-то претензии. Я сидел тихо: еще турнут из помещения под горячую руку.
– Я не желаю разучивать ваши дурацкие песни! – взвизгнула старушенция. – Надо учить «Гатикву», гимн страны, которая дала нам крышу и покой. А ты, Йося, можешь смотреть свою программу «Время»! – Она размешала костяшки домино и, переваливаясь, заковыляла к выходу, когда на экране телевизора прыгала секундная стрелка, приближаясь к девяти…
Новости с Родины были все те же. Война в Карабахе, парламентская болтовня, что-то еще, привычное и скучное.
Необычность первых минут от того, что все это я вижу сидя в Хайфе, улетучилась, я искоса взглянул на Йосю. Старик выпрямил спину и выгнул шею. Как он напоминал сейчас мне дедушку Сашу, моего милого и доброго деда. Во время официальных сообщений дед оттопыривал в сторону радиоприемника большое ухо, поросшее пушком, и бормотал: «Ах, как они испугались! «Руки прочь от Кубы!» Доярка сказала, и Кеннеди сразу наделал в штаны. Ну?! Как вам это нравится. Доярка сказала, а гиц ин – паровоз!»
Таким же беспомощным и милым казался мне сейчас Йося…
– Им надо приехать в Израиль и посмотреть. В Израиле все есть. И коммунизм, и социализм, и капитализм. Им надо только приехать и посмотреть. Но разве они это сделают? Никогда в жизни! Чтобы водиться с евреями?! Коммунизм – пожалуйста в кибуц. Социализм – пожалуйста в мошаву или там на завод. Капитализм – пожалуйста, сколько угодно, в любой банк, в любой магазин. И к тому же нет голодных и холодных… Что им стоит прийти, посмотреть, поучиться. Так нет! У евреев – ни за что! А?! Я живу в Израиле уже десять лет. Душа моя здесь, а сердце там. Что делать, такой я человек. Все мне дал Израиль – приличную пенсию, квартиру, лечение. А мне снится, что я иду по Киеву. Зачем я приехал? Послушал своего племянника-засранца. А что я бы делал один в Киеве? Бегал из очереди в очередь и умер где-нибудь в диетической столовой от паровой котлеты на машинном масле, чтоб им пусто было! – Йося помолчал и вздохнул. – Вот если бы то, что я имею здесь, перенести туда! Но об этом можно только мечтать…
С чего это я вдруг вспомнил о визите в дом престарелых, лежа на горячей спине мола? Или я вздремнул, а дом престарелых мне всего лишь почудился?
Послышался нарастающий рокот самолета. Неожиданно в гул мотора вплелись русские слова, произнесенные мальчишескими голосами.
– Ну прочти, прочти, что там написано?! – требовал тонкий голос мальчика. – А… Не можешь? Там написано: «Тебя ждет «Леуми-банк».
– И неправильно! – возразил второй голос. – Ты читаешь слева направо и переворачиваешь смысл. Банк не фамилия, банк – учреждение. Надо читать: «Банк «Леуми» ждет тебя».
Мальчики заспорили.
Я разлепил веки. В небе гудел самолет, от хвоста которого тянулся шлейф, сотканный из слов на иврите. Обычная реклама, ничего особенного. В Стокгольме я видел и не такое – там на воздушном шаре с надписью «Вольво» парил над городом настоящий автомобиль…
Обернувшись, я увидел спорщиков. Это были рыболовы, которых я приметил, подплывая к молу. Тогда они держали вахту в стороне от моего камня и вот, перебрались…
– Кто вас сюда звал? – проговорил я грубовато. – Тут что, лучше клюет?
Мальчики притихли, мой русский язык их насторожил; наверняка они думали, что я абориген.
– Нас оттуда прогнали, – протянул один из них, в синей жокейской кепке с длинным козырьком.
– Конечно, вы так громко разговариваете, рыбу пугаете, – примирительно произнес я; меня забавляли эти две круглые рожицы.
Мальчики приободрились.
– Не-е-е… Они нас прогнали, потому что мы из России, – беззлобно пояснил второй мальчуган в серой майке, заправленной в шорты. – Они всегда нас гоняют, а там как раз хорошее место.
Я расправил плечи и сел. Оглянулся. В отдалении расположились с удочками несколько пацанов. Крепких, смуглых, в ярких просторных трусах-плавках, настоящих израильтян… И невольно вернул взгляд к моим бледнокожим изнеженным с виду недавним соотечественникам. Не первый раз я слышал о вражде между аборигенами и вновь прибывшими в страну. Особенно среди ребят. Это удручало. Не сама вражда – подумаешь, кто в детстве не задирается? Меня удручала причина неприязни и более того – методы: жестокие, безоглядные, целенаправленные, нередко с трагическим исходом. Читая статьи в газетах об инцидентах в школах, на улицах, в общественных местах, вслушиваясь в истории, какими делятся на пляжах, я испытывал горечь и ярость. Боже ж ты мой, неужели тысячелетняя история ничему не учит?! И является ли человек «венцом мироздания»? Или он примитивное существо, естественной средой обитания которого является смрадное болото, несущее гибель и ему, и семени его, и семени семени его? Забывая уроки прошлого, он вновь и вновь испытывает судьбу, ступая на тропу ненависти к ближнему. Почему люди, собранные со всех концов мира, гонимые ненавистью и злобой, собравшись наконец вместе на своей земле, сеют, в свою очередь, между собой раздор? Месть за тысячелетнее унижение? Но кому? Таким же, как и они сами, только другого оттенка кожи? Или просто выход нервной энергии у одних проявляется вандализмом, у других – мордобоем, у третьих – просто звериным криком в пространство, к звездам… В чем корень этих ядовитых всходов?!
На родину своих предков приехали новые люди, в большинстве своем высокообразованные специалисты. Их появление создало реальную угрозу тем, кто давно обустроился в этой стране. Тем, кто не хочет ничего уступать, считая, и справедливо считая, что, пройдя тяжелую дорогу, они вправе пожинать плоды своих трудов и лишений.
Но жизнь – это движение, постоянная эволюция. Остановка, консервация – беда даже для государства с глубокими экономическими корнями. Что же касается такого государства, как Израиль, окруженного врагами, это не просто беда, это физическая гибель.
– Хозяин сказал папе, что изобретения ему не нужны. Что он и так хорошо зарабатывает на своей фабрике, – ответил на мой вопрос маленький рыболов. – У него работают местные евреи и арабы. Олимы ему не нужны.
– А что папа?
– Ничего. Бегает с утра, ищет работу. С мамой.
– А ты бездельничаешь?
– Почему? Я собирал апельсины у мошавника, за пять шекелей в час. Но меня уволили. И Витьку уволили, он продавал мороженое.
– Ладно, ладно… «Уволили»! – обиделся второй мальчик. – Он сам прогорел, мой хозяин. Все равно скоро в школу.
– А в школе как?
– По-разному, – ответил тот, в кепке; его звали Саша.
– Непривычно, – поправил Витька. – Вы были в израильской школе? – На мой отрицательный жест он воскликнул: – У вас что, нет детей?
– Есть. Дочка. Только она уже взрослая, совсем взрослая. И живет в Нью-Йорке.
– А почему вы тогда живете здесь?
– Н у… Я не живу здесь, я в гостях.
– Ах, вы гость?! – разом воскликнули рыболовы. – Это другое дело. И вы не думаете сюда переезжать?
Сколько раз подобный вопрос мне задавали не только в Израиле или Америке, но и дома, в России! Кто с любопытством, кто с состраданием, кто с жалостью. Бывало, и с пониманием.
Ответить на этот вопрос сложно не потому, что я не могу определенно ответить сам себе, сложно оттого, что многие, не принимая мой ответ, считают его недомыслием, проявлением глупости, а то и просто кокетством. Да, трудно устоять на ногах в стремнине среди обвала несущихся потоков воды. Так много составляющих в этом конкретном поступке – оставаться жить в стране, где родился, где прошла вся жизнь, где все срослось с тобой как кожа. Или уехать из страны, где если не ты сам, так твои дети, твои близкие испытывали незаслуженное унижение только за то, что в паспорте параграфом пятым записано иное происхождение… Куда ехать? Где нет пометки в паспорте, где ты не испытываешь унижения своего достоинства, но все остальное не твое, ничто не связывает тебя с прошлым, нет зарубок твоего детства? Где все надо начинать заново? А можно ли родиться заново? Да. Некоторые могут сказать прошлому: «Сгинь!» – и все начать сначала. Другие приходят к этому через мучительные сомнения. А третьи, вроде меня, не могут перешагнуть черту. И не только не могут, но и не хотят, а это главное. Пытаются оправдаться: дескать, было бы мне лет на двадцать меньше, да и другая, более практичная, чем литература, профессия, тогда иное дело, тогда бы не задумываясь упаковал чемоданы…
Честно говоря, это не просто ширма, ограждающая от истинного отношения к проблеме. Ведь я не только принял сразу мысль о расставании с дочерью в далеком семьдесят восьмом году, но и всячески помогал ей с отъездом. А в те годы сие было актом и решительности, и определенного риска. Сколько семейных уз распалось, сколько разочарований и слез. Меня поддерживала в столь сложном решении уверенность в том, что дочери при существующей системе ничего не светит, ее уделом будет прозябание и страх. Трудно было разглядеть в фундаментальной государственной структуре приближение перемен. А для себя, как для литератора, я понимал – нет на земле более изломленного и трагического места, доведенного в трагизме до фантастического абсурда, чем Россия.
Может казаться кощунством «узкопрофессиональный» интерес, но это не совсем так. Интерес связан в тугой узел с болью за горемыку-страну, свою страну. И не злорадства ради я собирал материал для очередной работы, пропуская сквозь себя судьбы будущих героев – то таксистов, то путейцев, то торгового люда, то сотрудников архива. Каждое погружение в чужую жизнь оборачивалось новым неизведанным познанием. Так творческое начало подминало личную жизнь. Или это оправдание, а на самом деле я просто не могу навсегда покинуть Россию – не могу, и все! Пророс я здесь. Возможно, это особая форма мазохизма, болезни странной, необъяснимой. Такое не просто понять, да еще мальчикам со смешными обиженными лицами.
– Я бы тоже… лучше приехал в гости, – неожиданно заключил Саша.
– Чего так? – спросил я.
– Так, – потупился мальчик. – У нас, в Москве, было много друзей. А тут мы вдвоем с братом. Когда на нас нападают, становимся спиной к спине, как Тяни-Толкай, и отбиваемся.
Витька кивнул.
– И потом, в школе… Учителя садятся на стол, а ноги кладут на стул. Ученики лежат вповалку на полу. Не понятно – где учительница, а где ученики. Мне это не нравится. Девчонки приходят в школу: пальцы в золотых кольцах и маникюр, на лице штукатурка. Да и мальчишки с серьгой в ушах… Нет, мне это не нравится.
– А мне нравится, – вставил Витька.
– А… ты вообще у нас анархист. Забыл, как тебя звезданули по голове палкой?
– При чем тут это? – нахмурился Витька. – Мы говорим о школе.
– Ему долбанули по голове палкой, потому что он «русский». – Саша отмахнулся от брата. – Их было человек десять, марокканцев, а нас двое. Хорошо, подскочил полицейский. Он разогнал марокканцев. Он орал: «Сволочи! Из-за вас, чернозадых, прокакаем страну!» Он был белый, тот полицейский. Но не из русских, наверное поляк. Или румын. Хотя румыны тоже не любят русских.
– Ладно тебе. Дядя спрашивает о школе, а ты… – Витька шмыгнул вздернутым, типично славянским носом. – Мне нравится в школе. Когда мы появились, ребята притащили гоменташи, угощали нас. И подарками завалили. Удочки подарили. В школе ничего, жить можно. Вот на улице – другое дело. Такая же интифада, от этих сабров все можно ожидать, как от арабов. Они завидуют нам, что можем купить автомобиль без налога, а им даже нечем заплатить за квартиру. Как будто кто-то из нас может купить этот автомобиль.
– А еще был случай, точно как «Вестсайдская история». Вы видели «Вестсайдскую историю»? Ее тоже сочинил еврей, по фамилии Бернштейн…
И мальчишки, перебивая друг друга, поведали мне историю, которая произошла в Бат-яме… Парень-сефард влюбился в девочку из России, брат которой организовал отряд самообороны. Он запретил своей сестре встречаться с сефардом. События развивались. В результате драки погибло несколько подростков. Дело дошло до обсуждения в правительстве вопроса отношений между этническими группами, но разразилась война в Персидском заливе, и о «Бат-ямской истории» забыли.
– Во время войны – да, все наконец поняли, что они евреи. Отношения стали другими, – заключил старший брат Витька.
Война в Персидском заливе была для новых репатриантов огромным потрясением. О войне рассказывали так, словно страна принимала прямое участие в военных действиях. Впрочем, как считать. Война не только передовые позиции, но и тыл, а Израиль оказался в тылу. В домах выделялись наименее уязвимые помещения на случай бомбежки. Окна заклеивали лентами, запасались водой, продуктами. Сутками люди сидели, вслушиваясь в радиосообщения, ожидая начала тревоги, ожидая конца тревоги.
Противогазы оказались самым необходимым предметом. Отсутствие опыта газовой войны сказывалось на качестве противогазов. Нередко люди задыхались, особенно пожилые. Да и молодым было несладко сидеть в противогазах часами в неизвестности – сообщения по радио были хоть и регулярными, однако на русском языке информация давалась сухая, короткая, как правило в конце передачи. А то и вовсе не передавалась. Сие тоже загадочно и необъяснимо.
Впрочем, если поразмыслить шире, меня всегда поражало за рубежом какое-то пренебрежение ко всему, что идет из России. Возможно, истоком подобного отношения являлся скепсис к самой системе, строящей коммунизм. Словно к неразумным детям. Иной раз вначале и проявлялось какое-то любопытство, а в дальнейшем – пренебрежение и усмешка. И беру на себя смелость заметить, что даже страха – того страха, которым мы долгие годы ублажали себя, – страха перед нами не было. Нередко этот «страх» поддерживали те или иные зарубежные деятели, газеты, формируя общественное мнение в своих политических целях, а мы принимали, раздуваясь, точно индюки перед соперником. В оборот запускались огромные деньги, и всем это было выгодно, кроме рядовых налогоплательщиков… Да, нас не боялись, нас игнорировали – и наших туристов, и наших дипломатов, и наших специалистов, словом, всех, кто представлял такую неразумную систему, при которой большая страна не имеет конвертируемую валюту. Даже успех выдающихся деятелей нашего искусства подавался с определенным снисхождением, как относятся в столицах к провинциалам. И подобное отношение тянется за нашими гражданами как тень, даже если и вырвешься из системы. Надо обладать мощной «личной центробежной силой», чтобы разорвать притяжение, не многим подобное удается.
С другой стороны, это отношение вызывает у наших людей спесь и чванство – как самозащита от не принимающей их среды. Что нередко удивляет Запад. Это не только отсутствие культуры, но и просто самозащита. Отрезо-чек истории, в которую попал народ огромной страны, дал ощутимые результаты. Вот и приходится скрепя сердце чувствовать к себе снисходительное пренебрежение, как к надоевшему больному.
«Что вы говорите чепуху?! – кричал мне кое-кто из репатриантов. – Мы же уехали оттуда. Они, эти сефарды и сабры, должны нас на руках носить! Такие приехали специалисты! Какие врачи, какие инженеры! А они нос воротят».
Я избегал споров, ни к чему. Речь шла не о квалификации того или иного специалиста, речь шла о зловещей тени, что отбрасывала его прошлая среда обитания…
– Вообще-то вы молодцы, – говорил мне мой друг, бывший коммандос, а ныне поэт Нахум. – Если бы не ваше «первоклассное» оружие, вряд ли американцы так легко добились успеха в Персидском заливе.
Я лишь пожал плечами, мысленно согласясь с хранителем сейфов банка «Дисконт».
– Тем более вы должны с уважением относиться к олимам из России, – пошутил я. – Представляешь, если бы у Ирака было достойное оружие! Вряд ли мы с тобой тут вели сейчас беседы.
– Вели бы, – уверенно ответил Нахум. – Жаль, тебя не было здесь во время войны. Какой подъем был у людей!
– Подъем? А теперь вот – спуск, – отпарировал я. – Мне не очень нравится отношение к нашим олимам в Израиле.
– Слушай, ты оставляешь впечатление довольно ограниченного человека. Нельзя требовать от впервые попавшего на море, чтобы он хорошо плавал. Ему надо как следует побарахтаться. А там он или выплывет, или утонет. Когда мы приехали сюда, было куда хуже, чем сейчас, а нашим отцам еще хуже. Многие скулили, многие сбежали. А мы остались. И живем как люди. Потерпите и вы, ничего страшного. За свободу надо платить несвободой, так же как за день платят ночью.
– Нахум! Как коммандос, ты прав, – ответил я. – А как поэт… неудачная метафора. Люди согласны платить. Но когда враждуют дети одной страны только потому, что у них разный цвет кожи…
– Да, это плохо, – ответил Нахум. – А что, в стране, откуда ты приехал, не было драк? Русских среди русских, татар среди татар? Почему тебя так волнуют драки среди евреев? Ты, писатель, по-моему, хороший антисемит.
Я выкатил глаза от изумления.
– Да-да… Сам того не желая, ты проявляешь антисемитизм, выделяя евреев из толпы народов. Понимаешь?
– Ты хотел сказать: шовинист, – поправил я с усмешкой.
– Нет. Антисемит… Не прощая евреям то, что прощаешь другим народам, ты тем самым становишься антисемитом, мой дорогой.
Я задумался. Черт возьми, в этом была глубинная правда. Правда, идущая от иудейских пророков: все люди равны, и грехи их равны, так же как и добродетели. Тогда как же быть с «избранным народом»?
– Он «избран» не перед другими народами. Он избран перед Богом. Бог дарует своему народу испытания, с тем чтобы результат этого испытания вверить остальным. В этом его и «избранность», понял? А не в том, что евреи лучше других… А всякие там Штемлеры переворачивают заветы Бога в свою сторону.
– Не понял твоего обобщения, – всерьез надулся я. – При чем тут Штемлеры?
– А ты знаешь, кто такой был Штемлер? В Германии, тогда, в двадцатые и тридцатые годы? Профессор Берлинского университета, теоретик и основоположник национал-социализма, идейный учитель Шильгрубера, принявшего фамилию своего деда Гитлера…
– Ну знаешь!.. – опешил я. – Действительно… сидишь в своем банке, читаешь от безделья всякую дрянь. Тоже нашел мне однофамильца. Я знаю, что Штемлеры держали до революции в Херсоне магазин готового платья. А я даже в Коммунистической партии никогда не состоял.
– Ладно, ладно. Разнервничался. Никто не шьет тебе родство с социал-негодяем. Я имею в виду, что определение «избранность народа» кое-кому на руку. Можно столкнуть лбами. Кому же понравится, что кто-то избран, а ты нет…
– Хорошие испытания дарует евреям Бог, – проворчал я. – Тысячелетия гонения. Инквизиция. Холокост. Опять же окружение арабских государств.
– Именно. Да! Окружение арабских стран! – воскликнул Нахум. – Посмотри вокруг. Как выглядела раньше эта земля, до сорок седьмого года, до образования Государства Израиль? И как сейчас она выглядит! Поезжай в любой кибуц. А потом поднимись на гору Хермон и с высоты брось взгляд на Сирийские земли, на Ливанские земли. И увидишь, какой наша земля была раньше. Сравни!.. Вот в чем суть испытаний, ниспосланных Богом своему народу. Именно в этом сравнении, если хочешь, корень мирового антисемитизма. Народ выходит из испытаний очищенным и сильным. Я не говорю об уровне интеллекта – для того чтобы преодолеть препятствия в той же диаспоре, еврей должен обладать семью пядями во лбу, быть на голову выше. Иначе не пробиться. Вот тебе и естественный отбор. Это всем известный, истинный, классический источник антисемитизма. Кому понравится, что кто-то преуспел больше тебя, тем более в стране-метрополии, где все, казалось, создано только для тебя… Но есть и другая основа для антисемитизма. Региональная, что ли. Наша, ближневосточная. И разглядеть ее можно опять же с горы Хермон… Правители арабских стран могут многое, сидя на нефтяных кладовых, но единственное, что они не в силах сделать, так это изменить пейзаж. И пейзаж этот доступен не только правителям, но и простым арабам, бедуинам, феллахам. Никуда пейзаж не спрячешь. Простые-то они простые, но тоже соображают. Почему на тех же землях, через плюгавую речушку Иордан у евреев цветут райские сады, а у них, у арабов, – камни да пески, бараны дохнут? В том, что им лень работать, что целыми днями сидят в чайхане, а вламывают женщины, – в этом им признаться не хочется. Надо искать виноватого. А кто виноват? Евреев своих у них почти нет, осечка. Значит, виновато правительство. В Израиле руководители толковые, вот и живут как люди, а нам, в арабских странах, с правительством не повезло, не думают о народе. Правительство, в свою очередь, понимает опасность заразительного примера к западу от реки Иордан. Надо бы подобно соседу закатать рукава, начать работать, тем более Израиль еще в Декларации независимости торжественно призвал арабов установить сотрудничество и брал на себя часть общих задач развития Ближнего Востока. А ведь арабам было что перенять у соседа во благо своего народа. Но лидерам арабского мира плевать на свой народ. А удержаться у власти они могут с помощью испытанного метода – антисемитизма. Переведя общественно-социальную проблему в религиозно-национальную. Надежно и безотказно. Аллах акбар! И арабский мир хватается за ятаганы. Правда, не все. Турция, к примеру, на эту возню смотрит сквозь пальцы. Во-первых, пейзаж далеко, во-вторых, и сами могут работать. А Ирак, к примеру, хоть и далеко, но работать не может. Так что, если начинают брызгать слюной в какой-нибудь народ, верный признак, что тот народ неплохо сложил свою жизнь, – заключил Нахум. – Бог слишком поторопился. Создав человека, он не особенно позаботился о его нравственности. Когда спохватился и передал Моисею свои наставления, было поздно. Человек к тому времени познал упоение от гибели себе подобного. Кровь пьянит сильнее вина, человеку кажется, что он воистину могуч и всесилен. Так что Бог тут дал промашку. Или Моисей замешкался, спускаясь с горы Синай с десятью заповедями в портфеле. А когда наконец спустился, то застал народ в непристойных оргиях и греховном поклонении золотому тельцу. Сгоряча Моисей раскокал скрижали, пришлось вновь возвращаться на Синай, за вторым экземпляром. Словом, пока Моисей бегал туда-обратно, все и произошло, порок генетически овладел человеком…
– Но прости меня, – перебил я Нахума, – Моисей был из евреев, при чем тут антисемитизм? Выходит, именно евреи передали всем народам земли гены вражды и алчности.
Нахум посмотрел на меня, как на тяжелобольного:
– Ты забыл, бедняга, речь идет об Избранном народе. Народе, с которым Бог решил провести эксперимент по усовершенствованию человечества. А множество народов жило на земле и до евреев и в одно и то же время. Так что мерзкие замашки появились у людей сами по себе. Просто евреев Бог пытался исправить. Возможно, поэтому он и рассеял их по миру, чтобы они несли людям божеское намерение.
– А получилось наоборот. Где бы евреи ни появлялись, национализм прорастал новым всходом.
– Увы. Это лишний раз подтверждает, что грех первороден. И гибель человечества заложена в самом его рождении. Если человек не одумается и не вернется к Богу.
– Да, Богу не позавидуешь, работы невпроворот. Тем более и самим евреям далековато до совершенства, – подхватил я.
– О да! – согласился Нахум. – Весьма далековато. Поживи здесь, увидишь… А что касается ребят, меня это не очень тревожит. Да, враждуют. Очень жаль, очень обидно, понимаю. Но враги их помирят, уверяю тебя. К примеру, та же Персидская война…
Я смотрел в стеклянное небо, и казалось, сейчас увижу в его прозрачности Бога. А блеклые накаты облаков, точно контуры божественных одежд. Неужели в этом небе когда-то летали советские ракеты «Скады», а шорох моря разрывал многотонный рев американских «Пэтриотов», несущих гибель тем самым «Скадам»?
– Американская установка находилась у того холма, – Витька вытянул тонкую руку, – а «Скады» появлялись оттуда.
– Они пытались разбомбить нефтеперегонный завод, – пояснил Саша.
– А вы все знаете, – подначил я.
– А как же?! – хором загомонили мальчики. – Своими глазами видели… Они летели над морем, а запах керосина нюхала вся Хайфа.
– Кроме тех, кто сидел в убежище, – поправил брата Витька.
– Мы два раза видели этот концерт, – торопился Саша, не улавливая горькой шутки в своих быстрых словах. – Вначале слышался гул. Потом из-за холма появлялся столб дыма. Потом показывалась ракета, точно в кино. Потом она подпрыгивала и неслась над морем. «Скада» мы не видели, только лишь их место встречи. Яркая вспышка, точно фотографировали. А искры сыпались в море.
– Ладно, ладно. У страха глаза велики, – прервал я мальчиков.
– И вовсе мы ничего не боялись, – обиделся Витька. – Мы с папой и мамой ходили смотреть. Решили, чем сидеть, как мыши, и ждать, когда по радио скажут что-нибудь по-русски, лучше выйти на улицу…
– Противогазы мы брали с собой, – уточнил Саша. – Если что, мы могли заскочить в любую квартиру, двери у всех были открыты.
– Вот видите, – облегченно подхватил я. – А вы говорите, что местные к вам не очень добры, – и кивнул на ребят-израильтян, что расположились с удочками на соседних скалах.
– Так то ж война, – вздохнули ребята. – После войны все стало по-прежнему. Но ничего, приедет следующая алия, мы им покажем. Они еще поищут, где ловить рыбу, уверяю вас.
Я скользнул в море и поплыл к берегу. Разгребая тугую, упрямую воду, я какое-то время еще вспоминал голоса мальчиков, размышлял над сказанным, а душу томила горечь и печаль…
Тахана-мерказит – сердце города. Не мэрия, не почта, не базар, а Тахана-мерказит – Центральная автобусная станция. В Хайфе она примыкает к береговой полосе и занимает гигантский комплекс со множеством терминалов, с многоэтажным главным зданием, пандусами на нескольких уровнях, десятками магазинов, кафе, залами ожидания, билетными кассами, ларьками с фруктами, питой, мороженым, газетами…
Несметное стадо красных автобусов «Эгед» пасется на площади, что подземным переходом соединяется с железнодорожным вокзалом. Изучая расписание, я сокрушался, что северные маршруты страны не обслуживают двухэтажные автобусы. Ничего, поеду на юг, там наверстаю, думал я, с уважением глядя в сторону автобусов-дворцов, чьи вторые этажи высились над покорными спинами собратьев-мастодонтов.
Пестрая толпа колобродила по вокзалу. Особенно выделяются «иешиботники» – молодые люди, а то и просто мальчики, ученики религиозных школ – ешив. В черных сюртуках-лапсердаках, словно дирижеры симфонического оркестра, если бы не шляпы с ровными круглыми полями, белые рубашки без галстука, а главное – пейсы, длинные закрученные локоны на висках. Лица худые, полные, вытянутые, круглые, но все бледные, даже мучнистые. И глаза утомленные, в красных ободках бессонницы. Нежными девичьими пальцами они сжимают ручку портфеля. Кто-то в ожидании автобуса читает Тору, отрешенно раскачиваясь среди толпы, словно в пустыне… Сегодня пятница, и надо успеть к месту до времени зажигания свечей. В газетах публикуют точное время наступления субботы во всех крупных городах страны – время захода солнца.
Немало и солдат. Тоже спешат на субботу домой, к маме под бочок. Вот они стоят рядом у хромированного штакетника одного из терминалов, к которому причаливает автобус. Юноша в военной форме, смуглый, худой, с автоматом через плечо, и рядом, брезгливо отстранясь от взмыленного солдатика, стоит изнуренный в молитвах «иешиботник»… Два молодых человека представляют два института, вобравших наиболее широкие слои молодежи. Религия и воинство. Рядом… Во время войны в Персидском заливе все гражданские аэропорты были черными от скопления клерикалов и членов их семей, что пытались улепетнуть из страны. Кто как, правдами-неправдами, все равно куда – в Америку, в Австралию, в Европу, лишь бы удрать из страны, которую маньяк из Ирака грозил стереть с лица земли ракетами советского производства, начиненными бактериями и газом…
А солдатики держали службу. И рвались в бой. И гневались на всех, кто предостерегал Израиль от вступления в войну…
Вот такие два института. Я еще выберу время, поразмыслю над этим вопросом. И не в сутолоке автобусного вокзала. Слава богу, на этой земле, как нигде в мире, предостаточно уголков для подобных размышлений.
Автобус в Акко отправляется через каждые четверть часа. Задумка моя была не сложная: добраться до Акко, там повидать приятеля, затем заехать к дяде в городок Кармиэль, что в Галилее, пожить там несколько дней и двинуть к Тивериадскому озеру в кибуц Афиким, где служит врачом другой мой приятель. А оттуда и до Цефата рукой подать. Кто же, добравшись до Цефата, не потянется к Метулле, на самую границу с Ливаном? Или не спустится южнее, к Назарету, к тому самому Назарету, одно название которого заставляет волноваться сердце…
…Хайфа расставалась с моим автобусом неохотно. Спуски, подъемы, повороты, мосты и светофоры, светофоры. У каждого из них автобус смиренно пофыркивал, дожидаясь разрешающего знака. А дождавшись, он срывался с места и, подобно зверю, несся к следующему кроваво-красному фонарю, что висел на изогнутом светофорном столбе куском сырого мяса… Казалось – все, мы покинули наконец город. С правой стороны – портовые сооружения, слева – причудливые переплетения труб нефтеперегонного завода. Именно сюда посылал Ирак свои ракеты. Нет, вновь потянулись жилые массивы. И опять заводы, заводы. Неужели это все Израиль, страна людей, за которыми утвердилась слава торгашей и музыкантов?!
В этом районе размещалась в основном металлургическая промышленность. Весьма мощные предприятия, а дыма и гари не чувствовалось. Да и химический завод не очень дымил. Крупные автосборочные предприятия в Ашдоде и Ашкелоне внешне вообще казались обителью с двумя-тремя случайными трубами. Даже такие чумные заведения, как цементные заводы или шинные, и то не очень докучали окружающей среде. Однако местное население периодически поднимало бучу, митинговало и добивалось какой-то компенсации. Даже за то, что искажался вид из окна на Средиземное море. Интересно, предъявляются подобные претензии к бесчисленному множеству мелких частных мастерских, что как тараканы разбежались по подвалам, полуподвалам, занимая первые этажи домов, небольшие отдельные строения? Строгают, лудят, паяют, сваривают, сколачивают, сопровождая свою суету стуком, скрежетом, гулом… Плюс всевозможные запахи. Вот где соблазнительно добиться компенсации.
Я был у приятеля, который снял квартиру в арабском районе Хайфы. Просунул голову в окно его полуподвального жилья и увидел над собой днище автомобиля, что скучал на ремонтном подъемнике. Но приятеля ландшафт устраивал – хозяин мастерской обязался бесплатно поставлять свежие молочные продукты. Такие дела…
Судьба подарила мне довольно любопытное знакомство. В прошлом человек заводской, я с интересом относился ко всему, что затрагивает эту сферу человеческой деятельности. И попав впервые на израильский завод, я был озадачен. Начать с проходной, где сидел дед и читал газету «Зу гадерех», орган Коммунистической партии, в переводе – «Этот путь». Дед зыркнул на меня сквозь очки и заявил, что никакого отношения к заводу он не имеет, а шел за сосисками в соседний магазин и зашел сюда отдохнуть, вытянуть ноги. А если я хочу кого повидать на заводе, то пришел очень удачно: только-только подъехала рабочая смена, даже автобусы еще не остыли. И верно, еще на улице я обратил внимание на караван автобусов, какие обычно у нас возят детей в пионерский лагерь, правда, без мигалки автоинспектора. Рабочих подбирают на всем протяжении пути: они стекаются в условное место, в условное время.
Еще дед доложил, что на заводе делают не то двигатели к самолетам, не то какие-то агрегаты для атомных станций…
«Ничего себе, – подумал я. – К такому предприятию в Союзе и подойти нельзя. А тут на тебе, дед зашел вытянуть ноги по дороге в магазин. И все знает!»
– Подумаешь, – ответил дел. – Если бы они изготовляли колбасу. Или там, я знаю, сигареты, это я понимаю, для дела. А что охранять? Двигатели самолета? Кому они нужны, вы мне скажите?
И еще я подумал о том, что в стране проверяют каждый оставленный без присмотра пакет при входе в любое общественное место, ради безопасности досматривают все сумки и портфели, а тут, на заводе…
– Идите, идите. У вас же нет ничего в руках, идите спокойно. Только не в ту дверь, там сидит охранник-сабр. Идите во вторую дверь, я вам говорю.
Я направился к двери, следуя совету деда.
Девушка в форме любезничала с солдатом, не обратив на меня никакого внимания. По телефону внутренней связи я позвонил тому, кто пригласил меня на завод. Вскоре он явился, в голубом халате, какой-то аккуратный, просто стерильный.
– Слушай, Арон, ты ли это? – спросил я человека, с которым как-то познакомился на пляже. – И почему меня тут не обыскивают?
– Не огорчайся. Пока ты сюда шел, уже было известно содержание твоих карманов на предмет диверсии. А в руках у тебя ничего нет.
Так я и думал. Не так уж и просты эти израильтяне. Да и дед, что вытянул ноги в проходной, вероятно, Мата Хари в сивом парике и маскировочных штанах, а газета «Этот путь», орган Компартии, – для камуфляжа.
Привыкнув с молодости к атмосфере завода, я пытался разглядеть привычное.
Коридор был обозначен стеклянными стенами, за которыми стояли компьютеры, какая-то электронная аппаратура. Людей почти не видно. Может, обеденный перерыв?
– Что ты, разгар рабочего дня, – пояснил Арон. – Для того чтобы работать, надо заставить работать технику. Я тебе сейчас покажу аквариум. Как в океанарии в Элате.
– Ты обещал показать завод.
– А что я делаю? – обиделся Арон. – Привык к заводу-бардаку, погуляй теперь по заводу-санаторию.
Вокруг циркулярного аквариума сидели несколько человек в голубых халатах, тянули из банок сок, тихо переговаривались, наблюдая за торжественным шествием по кругу экзотических рыбин в прозрачной воде.
Знакомство с заводом профессионально – дело не простое. Надо не только проследить производственный цикл, но и вникнуть в технологию, во взаимоотношения с поставщиками, а иначе все равно что изучать реку без притоков. А я все пытался привязать свои впечатления к своему ленинградскому заводу с уровнем технологии, помеченным началом шестидесятых годов…
Поэтому я не мог сразу и разобраться, что нахожусь на формовочном участке, правда на вспомогательном – крупные детали завод получал из Южной Кореи, более выгодно. Но и мелкая формовка – процесс, который протекал в каких-то электронных печах, – впечатляла готовой продукцией. Если и надо ее доводить, то самую малость.
Сборочный цех – просторное помещение с гофрированным стеклянным сводом, наподобие перрона Московского вокзала в Ленинграде. За длинными верстаками сидели рабочие-сборщики в тех же голубых халатах. Электронное табло сообщало шифр позиции, еще какие-то необходимые данные…
Я задавал Арону вопросы, вникал, но, к сожалению, не записывал. А надо было. По памяти сейчас сложно восстанавливать мелкие, но необходимые детали. Скажем, почему хронометр перед сборщиком не только отсчитывал время, но и вращался. Впрочем, не в этом дело. Главное – общая тенденция, современный технологический уровень производства. Солидность, уверенность в качестве, способность к конкуренции.
Этот цех был не единственный, судя по складу готовой продукции, которая хранилась на просторном дворе. Какие-то агрегаты, обтянутые плотным пластиковым кожухом, ящики, сколоченные из свежих досок, на боку которых, среди цифр, темнело слово «Израиль»…