Мысли и изречения древних с указанием источника Душенко Константин
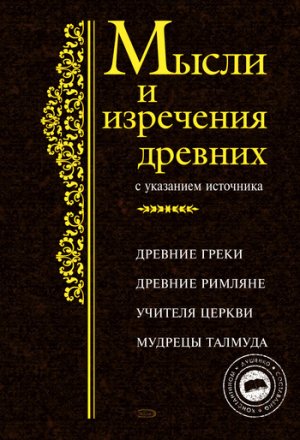
У каждого потемнеет в глазах, если он, стоя у края бездны, взглянет в ее глубину. Это – не страх, а естественное чувство, неподвластное разуму. Так храбрецы, готовые пролить свою кровь, не могут смотреть на чужую, так некоторые падают без чувств, если взглянут на свежую или старую, загноившуюся рану либо прикоснутся к ней, а другие легче вынесут удар меча, чем его вид.
«Письма к Луцилию», 57, 4–5 (141, с.96)
Никто не остается в старости тем же, чем был в юности, завтра никто не будет тем, кем был вчера. Наши тела уносятся наподобие рек. (...) Я сам изменяюсь, пока рассуждаю об изменении всех вещей. Об этом и говорит Гераклит: «Мы входим, и не входим дважды в один и тот же поток». Имя потока остается, а вода уже утекла.
«Письма к Луцилию», 58, 22–23 (141, с.100)
(В мире) пребывает все, что было прежде, но иначе, чем прежде: порядок вещей меняется.
«Письма к Луцилию», 58, 24 (141, с.100)
Что такое конец жизни – ее отстой или нечто самое чистое и прозрачное (...). Ведь дело в том, что продлевать – жизнь или смерть.
«Письма к Луцилию», 58, 33 (141, с.101)
Многих красота какого-нибудь полюбившегося слова уводит к тому, о чем они писать не собирались.
«Письма к Луцилию», 59, 5 (141, с.102)
Лесть всех делает дураками, каждого в свою меру.
«Письма к Луцилию», 59, 13 (141, с.104)
(Истинная радость), не будучи чужим подарком, (...) не подвластна и чужому произволу. Что не дано фортуной, того ей не отнять.
«Письма к Луцилию», 59, 18 (141, с.105)
Я стараюсь, чтобы каждый день был подобием целой жизни.
«Письма к Луцилию», 61, 1 (141, с.105)
Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто делает против воли.
«Письма к Луцилию», 61, 3 (141, с.106)
Кратчайший путь к богатству – через презрение к богатству.
«Письма к Луцилию», 62, 3 (141, с.106)
Мы ищем в слезах доказательство нашей тоски и не подчиняемся скорби, а выставляем ее напоказ. (...) И в скорби есть доля тщеславия!
«Письма к Луцилию», 63, 2 (141, с.107)
Для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они были со мной, я знал, что я их утрачу, когда я их утратил, я знаю, что они были со мной.
«Письма к Луцилию», 63, 7 (141, с.107)
Перестань дурно истолковывать милость фортуны. То, что ею отнято, она прежде дала!
«Письма к Луцилию», 63, 7 (141, с.107)
Кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил.
«Письма к Луцилию», 63, 11 (141, с.108)
Ты схоронил, кого любил; ищи, кого полюбить! (...) Предки установили для женщин один год скорби – не затем, чтобы они скорбели так долго, но чтобы не скорбели дольше.
«Письма к Луцилию», 63, 11, 13 (141, с.108)
(Об умерших:) Те, кого мним мы исчезнувшими, только ушли вперед.
«Письма к Луцилию», 63, 15 (141, с.108)
Сочинения иных ничем не блещут, кроме имени.
«Письма к Луцилию», 64, 3 (141, с.109)
Что такое смерть? Либо конец, либо переселенье. Я не боюсь перестать быть – ведь это все равно что не быть совсем; я не боюсь переселяться – ведь нигде не буду я в такой тесноте.
«Письма к Луцилию», 65, 24 (141, с.113)
Что можно добавить к совершенному? Ничего; а если можно, значит, не было и совершенства.
«Письма к Луцилию», 66, 9 (141, с.114)
Способность расти есть признак несовершенства.
«Письма к Луцилию», 66, 9 (141, с.115)
Одиссей спешил к камням своей Итаки не меньше, чем Агамемнон – к гордым стенам Микен, – ведь любят родину не за то, что она велика, а за то, что она родина.
«Письма к Луцилию», 66, 26 (141, с.117)
Если что перед глазами, оно не ценится; открытую дверь взломщик минует. Таков же обычай (...) у всех невежд: каждый хочет ворваться туда, где заперто.
«Письма к Луцилию», 68, 4 (141, с.123)
Лжет общий голос невежд, утверждающих, будто «самое лучшее – умереть своей смертью». Чужой смертью никто не умирает.
«Письма к Луцилию», 69, 6 (141, с.125)
Жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже.
«Письма к Луцилию», 70, 12 (141, с.126)
Лучшее из устроенного вечным законом – то, что он дал нам один путь в жизнь, но множество – прочь из жизни.
«Письма к Луцилию», 70, 14 (141, с.127)
В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит. (...) Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится – можешь вернуться туда, откуда пришел.
«Письма к Луцилию», 70, 15 (141, с.127)
Самая грязная смерть предпочтительней самого чистого рабства.
«Письма к Луцилию», 70, 21 (141, с.128)
Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра.
«Письма к Луцилию», 71, 3 (141, с.129)
Немалая часть успеха – желание преуспеть.
«Письма к Луцилию», 71, 36 (141, с.133)
Не бывает так, чтобы не возникали все новые дела, – мы сами сеем их, так что из одного вырастает несколько. (...) Нужно сопротивляться делам и не распределять их, а устранять.
«Письма к Луцилию», 72, 2 (141, с.134)
Как распрямляется сжатое силой, так возвращается к своему началу все, что не движется непрерывно вперед.
«Письма к Луцилию», 72, 3 (141, с.134)
Не так радостно видеть многих у себя за спиной, как горько глядеть хоть на одного, бегущего впереди.
«Письма к Луцилию», 73, 3 (141, с.136)
Боги не привередливы и не завистливы; они пускают к себе и протягивают руку поднимающимся. Ты удивляешься, что человек идет к богам? Но и бог приходит к людям и даже – чего уж больше? – входит в людей.
«Письма к Луцилию», 73, 15–16 (141, с.137)
Мы сетуем, что все достается нам и не всегда, и помалу, и не наверняка, и ненадолго. Поэтому ни жить, ни умирать мы не хотим: жизнь нам ненавистна, смерть страшна.
«Письма к Луцилию», 74, 11 (141, с.139)
Немногим удается мягко сложить с плеч бремя счастья; большинство падает вместе с тем, что их вознесло, и гибнет под обломками рухнувших опор.
«Письма к Луцилию», 74, 18 (141, с.140)
Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить, как чувствуем, и жить, как говорим.
«Письма к Луцилию», 75, 4 (141, с.143)
Век живи – век учись тому, как следует жить.
«Письма к Луцилию», 76, 3 (141, с.145)
Почему он кажется великим? Ты меришь его вместе с подставкой.
«Письма к Луцилию», 76, 31 (141, с.149)
Мы слышим иногда от невежд такие слова: «Знал ли я, что меня ждет такое?» – Мудрец знает, что его ждет все; что бы ни случилось, он говорит: «Я знал».
«Письма к Луцилию», 76, 35 (141, с.150)
Разве не счел бы ты глупцом из глупцов человека, слезно жалующегося на то, что он еще не жил тысячу лет назад? Не менее глуп и жалующийся на то, что через тысячу лет он не будет жить.
«Письма к Луцилию», 77, 11 (141, с.151)
Сатия (...) приказала написать на своем памятнике, что прожила девяносто девять лет. Ты видишь, старуха хвастается долгой старостью; а проживи она полных сто лет, кто мог бы ее вытерпеть?
«Письма к Луцилию», 77, 20 (141, с.153)
Жизнь – как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна.
«Письма к Луцилию», 77, 20 (141, с.153)
Самое жалкое – это потерять мужество умереть и не иметь мужества жить.
«Письма к Луцилию», 78, 4 (141, с.153)
Умрешь ты не потому, что хвораешь, а потому, что живешь.
«Письма к Луцилию», 78, 6 (141, с.154)
Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным.
«Письма к Луцилию», 78, 13 (141, с.155)
Кто из нас не преувеличивает своих страданий и не обманывает самого себя?
«Письма к Луцилию», 78, 14 (141, с.155)
Болезнь можно одолеть или хотя бы вынести. (...) Не только с оружьем и в строю можно доказать, что дух бодр и не укрощен крайними опасностями; и под одеялом (больного) видно, что человек мужествен.
«Письма к Луцилию», 78, 21 (141, с.156)
Слава – тень добродетели.
«Письма к Луцилию», 79, 13 (141, с.159)
Чтобы найти благодарного, стоит попытать счастье и с неблагодарными. Не может быть у благодетеля столь верная рука, чтобы он никогда не промахивался.
«Письма к Луцилию», 81, 2 (141, с.161)
Мы ничего не ценим выше благодеянья, покуда его домогаемся, и ниже – когда получим.
«Письма к Луцилию», 81, 28 (141, с.165)
Нет ненависти пагубнее той, что рождена стыдом за неотплаченное благодеянье.
«Письма к Луцилию», 81, 32 (141, с.166)
Римский вождь (...), посылая солдат пробиться сквозь огромное вражеское войско и захватить некое место, сказал им: «Дойти туда, соратники, необходимо, а вернуться оттуда необходимости нет».
«Письма к Луцилию», 82, 22 (141, с.169)
Усталость – цель всяких упражнений.
«Письма к Луцилию», 83, 3 (141, с.170)
Луций Писон как однажды начал пить, так с тех пор и был пьян.
«Письма к Луцилию», 83, 14 (141, с.172)
Опьяненье – не что иное, как добровольное безумье. Продли это состояние на несколько дней – кто усомнится, что человек сошел с ума? Но и так безумье не меньше, а только короче.
«Письма к Луцилию», 83, 18 (141, с.172–173)
Велика ли слава – много в себя вмещать? Когда первенство почти что у тебя в руках, и спящие вповалку или блюющие сотрапезники не в силах поднимать с тобою кубки, когда из всего застолья на ногах стоишь ты один, когда ты всех одолел блистательной доблестью и никто не смог вместить больше вина, чем ты, – все равно тебя побеждает бочка.
«Письма к Луцилию», 83, 24 (141, с.173)
Напившись вином, он (Марк Антоний) жаждал крови. Мерзко было то, что он пьянел, когда творил все это, но еще мерзостнее то, что он творил все это пьяным.
«Письма к Луцилию», 83, 25 (141, с.173)
Так называемые наслаждения, едва перейдут меру, становятся муками.
«Письма к Луцилию», 83, 27 (141, с.174)
Тот, кому завидуют, завидует тоже.
«Письма к Луцилию», 84, 11 (141, с.175)
На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою благополучно – у собственного наследника.
«Письма к Луцилию», 88, 12 (141, с.192)
Стремиться знать больше, чем требуется, – это тоже род невоздержности. (...) Заучив лишнее, (...) из-за этого неспособны выучить необходимое.
«Письма к Луцилию», 88, 36–37 (141, с.196)
(В нынешних) книгах исследуется, (...) кто истинная мать Энея, (...) чему больше предавался Анакреонт, похоти или пьянству, (...) была ли Сафо продажной распутницей, и прочие вещи, которые, знай мы их, следовало бы забыть.
«Письма к Луцилию», 88, 37 (141, с.196)
Достоверно (...) только то, что нет ничего достоверного.
«Письма к Луцилию», 88, 45 (141, с.197)
Все (...) познается легче, если (...) расчленено на части не слишком мелкие (...). У чрезмерной дробности тот же порок, что у нерасчлененности. Что измельчено в пыль, то лишено порядка.
«Письма к Луцилию», 89, 3 (141, с.197)
Вы (чревоугодники) несчастны, ибо (...) голод ваш больше вашей же утробы!
«Письма к Луцилию», 89, 22 (141, с.201)
Говори (...), чтобы (...) услышать и самому; пиши, чтобы самому читать, когда пишешь.
«Письма к Луцилию», 89, 23 (141, с.201)
Самый счастливый – тот, кому не нужно счастье, самый полновластный – тот, кто властвует собою.
«Письма к Луцилию», 90, 34 (141, с.207)
Природа не дает добродетели: достичь ее – это искусство. (...) (Древние) были невинны по неведенью; а это большая разница, не хочет человек грешить или не умеет.
«Письма к Луцилию», 90, 44, 46 (141, с.208)
Безопасного времени нет. В разгаре наслаждений зарождаются причины боли; в мирную пору начинается война.
«Письма к Луцилию», 91, 5 (141, с.209)
Судьба городов, как и судьба людей, вертится колесом.
«Письма к Луцилию», 91, 7 (141, с.210)
Беда не так велика, как гласят о ней слухи.
«Письма к Луцилию», 91, 9 (141, с.210)
Прах всех уравнивает: рождаемся мы неравными, умираем равными.
«Письма к Луцилию», 91, 16 (141, с.211)
Пока смерть подвластна нам, мы никому не подвластны.
«Письма к Луцилию», 91, 21 (141, с.212)
Наслажденье – это благо для скотов.
«Письма к Луцилию», 92, 6 (141, с.213)
Наполнять надо душу, а не мошну.
«Письма к Луцилию», 92, 31 (141, с.217)
Много ли радости прожить восемьдесят лет в праздности? (...) Прожил восемьдесят лет! Но дело-то в том, с какого дня считать его мертвым.
«Письма к Луцилию», 93, 3 (141, с.218)
По-твоему, счастливее тот, кого убивают в день (гладиаторских) игр на закате, а не в полдень? Или, ты думаешь, кто-нибудь так по-глупому жаден к жизни, что предпочтет быть зарезанным в раздевалке, а не на арене? Не с таким уж большим разрывом обгоняем мы друг друга; смерть никого не минует, убийца спешит вслед за убитым.
«Письма к Луцилию», 93, 12 (141, с.219)
Каждый в отдельности вмещает все пороки толпы, потому что толпа наделяет ими каждого.
«Письма к Луцилию», 94, 54 (141, с.227)
Несчастного Александра гнала и посылала в неведомые земли безумная страсть к опустошению. (...) Он идет дальше океана, дальше солнца. (...) Он не то что хочет идти, но не может стоять, как брошенные в пропасть тяжести, для которых конец паденья – на дне.
«Письма к Луцилию», 94, 62–63 (141, с.228)
Не думай, будто кто-нибудь стал счастливым через чужое несчастье.
«Письма к Луцилию», 94, 67 (141, с.229)
Само по себе одиночество не есть наставник невинности, и деревня не учит порядочности.
«Письма к Луцилию», 94, 69 (141, с.229)
Блаженствующие на взгляд черни дрожат и цепенеют на этой достойной зависти высоте и держатся о себе совсем иного мнения, чем другие. Ведь то, что прочим кажется высотою, для них есть обрыв.
«Письма к Луцилию», 94, 73 (141, с.230)
Мы часто про себя желаем одного, вслух – другого, и даже богам не говорим правды.
«Письма к Луцилию», 95, 2 (141, с.230)
Войны (...) – это прославляемое злодейство.
«Письма к Луцилию», 95, 30 (141, с.234)
Запрещенное частным лицам приказывается от лица государства. За одно и то же преступление платят головою, если оно совершено тайно, а если в солдатских плащах – получают хвалы.
«Письма к Луцилию», 95, 30–31 (141, с.234)
Человек – предмет для другого человека священный.
«Письма к Луцилию», 95, 33 (141, с.235)
Природа (...) родила нас братьями.
«Письма к Луцилию», 95, 52 (141, с.238)
(О Катоне Младшем): Сколько в нем силы духа, сколько уверенности среди общего трепета! (...) Он единственный, о чьей свободе речь не идет; вопрос не о том, быть ли Катону свободным, а о том, жить ли ему среди свободных.
«Письма к Луцилию», 95, 71 (141, с.240–241)
Богу я не повинуюсь, а соглашаюсь с ним и следую за ним не по необходимости, а от всей души.
«Письма к Луцилию», 96, 2 (141, с.241)
Злодеянья могут быть безнаказанны, но не безмятежны. (...) Первое и наибольшее наказанье за грех – в самом грехе.
«Письма к Луцилию», 97, 13–14 (141, с.244)
Никогда не считай счастливцем того, кто зависит от счастья!
«Письма к Луцилию», 98, 1 (141, с.244)
Кто страдает раньше, чем нужно, тот страдает больше, чем нужно.
«Письма к Луцилию», 98, 8 (141, с.245)
(Мудрец) считает одинаково постыдным бежать и от смерти, и от жизни.
«Письма к Луцилию», 98, 16 (141, с.246)
Мы ищем причин для страданья и хотим сетовать на судьбу даже неоправданно, когда она не дает нам повода к справедливым жалобам.
«Письма к Луцилию», 99, 3 (141, с.247)
Расстоянье между первым и последним днем (жизни) изменчиво и неведомо; если мерить его тяготами пути, оно велико даже у ребенка, если скоростью – коротко даже у старца.
«Письма к Луцилию», 99, 9 (141, с.248)
Люди стонут более внятно, когда их слышат.
«Письма к Луцилию», 99, 16 (141, с.249)
Человеку ничего не обещано наверняка, и фортуна не должна непременно довести его до старости, но вправе отпустить, где ей угодно.
«Письма к Луцилию», 99, 22 (141, с.250)
Пусть (...) память (об умерших) будет долгой, а скорбь – короткой.
«Письма к Луцилию», 99, 24 (141, с.250)
Более велик тот, кто отнимает у нас саму способность оценивать, чем тот, кто заслуживает высочайшей оценки.
«Письма к Луцилию», 100, 4 (141, с.252)
Не будем ничего откладывать, чтобы всякий день быть в расчете с жизнью.
«Письма к Луцилию», 101, 7 (141, с.254)






