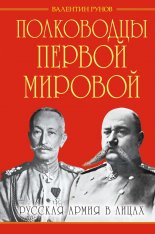Псы войны Стоун Роберт

Хикс вздохнул и уселся на верхнюю ступеньку.
— Прошу тебя, — сказал Дитер.
Собственные прожекторы слепили его. Он заслонил ладонью глаза.
Хикс засмеялся:
— Нет, Дитер. Нет. Просто принеси мне пакет, приятель.
Дитер, смешно перебирая толстыми ногами, пустился бежать во тьму.
Хикс расставил ноги пошире и припал к прицелу. Повел стволом.
Ладно…
Дитер убегал в темноту, на мгновение он пропал из виду. Секунду спустя его бегущая фигура появилась снова, четкая на фоне деревьев и залитого лунным светом неба.
Вот же дурной…
Маленькая бегущая фигурка на фоне деревьев, подумал Хикс, однажды я уже стрелял по такой цели. А Дитер не такой уж маленький, он пузатый и медлительный.
Сукин сын.
Только посмотрите на его идиотскую задницу на фоне этого дивного неба.
Ладно, дурной ты сукин сын.
Прогремела очередь — стальной дождь брызнул на Дитера и разнес ограду, через которую тот пытался перелезть. Хикс сквозь дым сошел с крыльца по катящимся гильзам. Пересек площадку, направляясь к обрыву. Во Вьетнаме он расстрелял бы на ходу еще две обоймы во тьму.
Дитер лежал на животе у остатков ограды. Кисть руки дергалась. Хикс подошел и ногой перевернул его. Рюкзака под его телом не было.
Вскоре Хикс нашел рюкзак — на самом краю обрыва.
Так он все-таки швырнул его, подумал Хикс. Бежал к обрыву и швырнул.
— Господи! — вслух произнес Хикс.
Дитер лапши не вешал. Конечно нет. Только не Дитер.
Это был жест. Жест — он хотел бросить пакет в ущелье, потому что не было под рукой костра и нельзя было бросить его в огонь.
Выбросить его — так он сказал. Жест.
— Какого черта, Дитер? Я думал, ты просто лапшу вешаешь.
Этот матч он, значит, собирался выиграть. Он пытался начать все снова. Он все-таки был сильнее.
Проклятье! Если ты хотел сделать жест, надо было сыграть изящно, стильно, убедительно. По-дзенски. А если выставляешься пьяным вором перед людьми, которые тебя давно не видели, тебя и примут за пьяного вора.
Со своим жестом он облажался по-крупному.
— Semper fi[102], — сказал Хикс.
Боль опять вернулась, он сел на уцелевшие жерди ограды. Дождь не стихал.
Полный идиотизм. Как Бой за Боба Хоупа. Как все остальное.
Он так долго и с такими муками пристраивал рюкзак на спину, что было не до переживаний, и он выкинул из головы случившееся.
Теперь вперед.
Первая часть пути лежала через веселый лес; в свете луны поблескивали Дитеровы побрякушки, земля под ногами была мягкая и мшистая. Он несколько раз падал и всякий раз благодарил землю за ее нежность и нежелание причинить ему боль. Диснейленд. И всякий раз, когда надо было подниматься на ноги, он чувствовал, как пульсирует боль в ране, и хотя она кусала тупо, потому что героин лишил ее клыков, он жалел, что споткнулся.
Незаметно подкрадывался иной свет; сначала казалось, что он исходит от деревьев. Утро. Даже зная, что оно сулит, он наивно радовался ему.
Радость от наступления рассвета заставила его почувствовать себя обыкновенным человеком, в котором еще жив ребенок и который вышел утречком на прогулку чисто ради удовольствия. Гнев и жалость к себе — враги-искусители.
Но в том, что рассвело, было мало хорошего, а сантименты грозят смертью, они — враг воина.
Стрекотали голодные сойки. Он коснулся бока и почувствовал кровь. Трудно непоседам, лепетал его детский голос, в тесте усидеть, птицы за обедом громко стали петь[103]. Он спрашивал себя, возможно ли, чтобы стрекочущих соек, голодных и жестоких, не искушала кровь и истерзанная плоть. Что-то такое ведь живет в ранах.
На опушке леса он увидел ворота загона, закрытые на проволочную петлю. Он разогнул проволоку, осторожно переступил через ржавую решетку и оказался на лугу; в высокой росистой траве штаны сразу же намокли. Позади, над пурпурными горами, поднималось солнце; впереди тропинка бежала в ущелье, из которого торчали искривленные верхушки скал, словно башни пагод на берегах камбоджийского Меконга.
Он начал спускаться, упираясь в землю пятками и откидываясь назад, чтобы уравновесить вес рюкзака, и придерживая за ствол болтающуюся винтовку, которая норовила ударить в бедро.
Спуск диктовал свой особый ритм, не подходящий для контроля над болью, поскольку каждый шаг по наклонной тропе заставлял тело крениться и сбивал с темпа, не давая сосредоточиться. Возникал соблазн отдаться инерции, позволить ногам работать в собственном быстром ритме, рискуя подвернуть лодыжку, так что приходилось осаживать их, спускаться осторожно, что было нелегким делом. Он старался отрешиться от мыслей о спуске — думал о воде, которая наверняка есть на дне ущелья, поглядывал, нет ли гремучих змей, представлял себе кабанов, которые рыли клыками тропу в поисках желудей. Когда встающее солнце коснулось своими лучами верхушек утесов-пагод, он уже достиг тени. На дне ущелья было прохладно, но безветренно, пахло гнилью. Это возбудило его подозрительность, и он пошел дальше осторожно, готовый в любой миг припасть к земле и сдернуть с плеча винтовку.
Выход из ущелья представлял собой дыру в скале, столь узкую, что пришлось протискиваться боком. Преодолев ее, он увидел перед собой равнину. Ближняя ее часть еще была в тени гор; по желтой каменистой земле ветер, которого он, будучи под прикрытием скалы, еще не чувствовал, нес шары перекати-поля. Вдали виднелись округлые коричневые горы; расстояние до них было невероятно огромно, но ему не нужно было идти так далеко, чтобы добраться до дороги. В нескольких милях впереди серовато-коричневая земля становилась какой-то нереальной, превращаясь в раскаленную мерцающую субстанцию, не имеющую цвета, которая разгоралась все ярче по мере того, как солнце поднималось выше и слало волны зноя, от которого дрожали далекие горы. Прямой линией равнину пересекали ржавые рельсы, опираясь на ссохшиеся шпалы.
В тени между ним и пустыней росла трава и пробивался среди красных валунов ручеек, поивший три тополя и одинокий чахлый дуб. Он пошел вдоль ручья, сел отдохнуть среди деревьев, ополоснул лицо холодной водой и наполнил флягу. Желая напиться из ручья, он сделал глупость. Когда он наклонился к воде, рюкзак скользнул вперед и лямка перетянула раненую подмышку; от пронзившей его боли он выпрямился, и лямка свисавшего с шеи рюкзака еще больше сдавила руку. Тогда он соскользнул в воду и перевесил рюкзак, теперь тот свисал на одной лямке со здорового плеча. В первое мгновение попавшая в рану вода ожгла его болью, но вскоре он, наоборот, почувствовал большое облегчение. Выбираясь на берег, он в первый раз обратил внимание на то, как распухла левая рука и что он не может двинуть ею, совершенно не может. Только этого не хватало.
Он выбросил пистолеты, которые когда-то отобрал у Смитти и Данскина, и большую часть магазинов к М-16. Несмотря на тяжесть винтовки, с ней он расстаться не мог. Психологическая установка или еще что, но он просто не представлял себе, как одолеет столько миль без винтовки. Оставил только два магазина — один в винтовке, другой сунул в рюкзак.
Тень от горы уже довольно укоротилась, когда он тронулся в путь. Чем дальше он отходил от горы, тем сильнее ощущался ветер — встречный. Но все это было просто прогулкой по сравнению с тем, что началось, когда тенистый участок кончился. Как только он шагнул на солнце, рана дала о себе знать.
Треугольник и песня. В первую очередь — изгнать слепящее солнце из основания черепа, потом — вызвать вновь черное поле, голубой треугольник, красный круг. Боль в круге, казалось, могла на такой жаре и полыхнуть костром. С песней тоже все непросто, надо же учесть столько разных вещей.
Гате гате парагате парасамгате бодхи сваха[104]. Это, конечно, клёво, это очень мило, но есть опасность в этой мантре исчезнуть, отрубиться и спечься.
Форма — это пустота. Пустота — это форма. Они — одно.
Вкуси немного пустоты.
Пустота — это тоже клёво, но она не ложилась на ритм. Она помогала сосредоточиться на треугольнике, но, конечно, ты не чувствовал, что идешь.
Что ж, подумал он, как говорится, лучшие песни — это старые песни.
Он пел, шагая вдоль рельсов. Он попробовал было идти по шпалам, и, конечно, это был кошмар. Единственный вариант — шагать рядом.
- — Сам я не пробовал, но слыхал,
- Что в щелке эскимоски
- Отмерзнет и матросский.
- Левой! —
пел он.
Тихоокеанский театр без песчаных блошек и еще раскаленнее. Это напомнило ему о соли. Он достал из кармана солонку и лизнул. Левой! Он загнал боль в круг, он шагал.
Может ли щелка быть холодной? Да. Нет.
Философские споры в «Бочонке», в Иокосуке, на флотском почтамте в Сан-Франциско.
Конверс, может ли щелка быть холодной? Откуда ему знать?
В зимних меховых штанах щелка у эскимоски, наверно, вонючая, но уж никак не холодная — при любой погоде. Старушка-эскимоска — выгони ее на лед да помори голодом, и мало-помалу ее щелка остынет.
Но песня не о том. Песня о том, как ты шагаешь, как переставляешь ноги, — вот о чем песня.
Эцуко была девочка опрятная. И умница. Постоянно удивляла, постоянно с ней что-то случалось. Открытая, смешливая.
Посмотри на меня, Эцуко, я здесь, со своей винтовкой, в этом ужасном месте, такие вот пирожки с котятами.
Я не беспокоюсь, потому что теперь мне все равно.
Только не надо, пожалуйста, песенок Хэнка Уильямса[105], треугольник с ними не в ладах.
Ему казалось, что он все еще слышит птиц в Дитеровом лесу. Он подавил в себе желание побежать и проверить, насколько далеко он отошел. Это было невозможно. Он отошел уже слишком далеко, и там, где он сейчас, нет никаких птиц, нет деревьев, на которые бы они сели, вообще ничего для них нет. Хотелось бы надеяться.
Кровь все течет, и мы не так чтобы знаем, насколько там все плохо. Но ничего другого не остается, как продолжать идти.
Вот только мучила неотвязная и по-настоящему гнетущая мысль: «Второй раз тебе так не выкрутиться». Однажды ему удалось уцелеть — в Бою за Боба Хоупа, а сейчас был тот самый второй раз.
Гнетуще.
Он сделал глубокий вдох и начал собирать боль в одну точку. Это было трудно. Метать, как стог сена? Втягивать сифоном? Втискивать во что-то?
Где треугольник-то?
Но может, это ошибка — вот так отделять ее от себя. Может, это неграмотно — запирать ее в красном круге, где она лишь накапливает ярость и силу, поджидая момент, чтобы выползти и ужалить, парализовав тебя. Если запрешь ее вот так, может, тем самым только продлишь ее.
Эксперимент. Прими ее, и, как знать, вдруг она исчезнет сама. Она — часть тебя, ты всегда что-нибудь терпел: обожженные губы, заусеницы, волдыри, зубную боль. Это ты сам, всегда что-нибудь да болит.
Слейся с ней, она — это ты, ты — это она. Треугольник распался, и он принял боль в объятия.
Нет, решил он в то же мгновение! Никогда!
Эксперимент оказался столь неудачным, что он вынужден был остановиться. Это было ему не по силам.
Он стоял, глядя на рельсы. Горячая сталь слепила даже сквозь пыль и ржавчину.
Убирайся назад, гадина, ты мне враг, а не друг.
Идею, что все едино, было очень трудно осуществить на практике.
Попытаюсь снова, решил он, когда мне будет сто десять лет и птицы принесут мне цветы.
Все разделилось на то, что причиняло боль и что не причиняло, и способность проводить различие казалась очень важной. Так и должно быть. Если не чувствуешь разницы между тем, что причиняет боль и что не причиняет, тогда не стоит и жить. Тогда тебя уже не ждет ничего хорошего. Если не чувствуешь разницы между болью от сломанного пальца и удовольствием от кружки пива, тогда на каком ты свете? В этом вся беда Конверса.
Перечень того, что не причиняет боль: Птицы. Горы. Вода.
Это все действительно едино, подумал он. Даже если здравый смысл протестует.
Он приник к фляге и стал пить, чтобы уравновесить боль, и тут же стало ясно: то, что причиняет боль, и то, что не причиняет, могут мгновенно объединиться, подступившая тошнота была тому прекрасным доказательством. Он наклонился, вцепившись в приклад, и его вырвало на рельсы.
Замечательная смесь ощущений, но теперь ты обезвожен.
Вперед! Треугольнику собраться левее и сзади правого уха по команде дежурного сержанта…
Поправь повязку. Напряги спину в точно определенной позе, затяни аккуратно.
Он открыл рот от удивления — так это было неожиданно. Боль внутри боли.
Не так сильно. Не так резко. Продолжай дальше, решительно, ты военный человек.
Оказывается, тут все-таки были птицы, но слышать их он не мог. Тройка ястребов в вышине скользила с ветром. Над ними — след реактивного самолета.
— Вы, птицы, думаете, что я тут так, ничтожная букашка, — обратился к ним Хикс. — Позвольте сообщить вам, что вы не правы. Всякая птица, которая делает такую ошибку, будет иметь дело с самым подлым, злобным сукиным сыном, какого только может себе представить. Если только поймаю такую птицу, она отдаст Богу душу, потому что ее жизнь принадлежит мне.
Ладно, так и быть! Оставим жизнь Богу, я заберу душу.
Я обменяю эти бесконечные рельсы на ее душу и улечу отсюда.
Той железной дороги, которая мне нужна, здесь нет.
Что ты делаешь на рельсах, малец?
Играю в паровоз, сэр.
Вода. Не извергни ее, потому что она прекрасна. Это настоящая вещь.
Без оружия, без пакета было бы много легче. Он вспомнил, что пакет — это то, с чем он не может расстаться, значит придется тащить его. Серьезные люди для того и живут, чтобы чего-то хотеть — и тащить это на себе.
Ну а оружие, думал он, я и тогда, в Бою за Боба Хоупа, не бросил старого друга, не доставлю им такого удовольствия и сейчас.
Бой за Боба Хоупа проходил под дождем. Как при Аустерлице.
Скользкая размякшая глина, теплый нескончаемый дождь. Треск «Калашниковых», грохот разрывов.
Ошибки нет, это опять они, зараза!
Они и там и там, везде, и теперь я влип. Да, это они, они повсюду. Не беги в ту же сторону, там всех положат.
Северовьетнамцы, точно, это их пробковые шлемы.
Он выстрелил из подствольника туда, где они должны были появиться, — раз, другой. Опа, как тебе такой футбол? Держи гранату, умник, а я рвану как черт по вонючим зарослям, и ах, парень — они за мной, но им меня не достать, а потом, о господи, все-таки достали.
Ничего не видя — сквозь заросли дикой спаржи, к своим. Эй, ребята, не стреляйте! Я — американский морпех! Л. Б. Дж.[106] собственной персоной!
Так тяжело, как тогда, мне еще не было, тяжелее, чем сейчас.
Он обернулся на ущелье, оставшееся позади; он отошел уже далеко, и это вселяло надежду. Но о земле, простиравшейся вокруг и впереди, такого не сказать: грязно-белая, безжизненная.
Он опустился на корточки, провел пальцем по земле и лизнул его. Соль. Вот это да!
Он собрался вставать, и тут его взгляд упал на левую руку: она висела плетью, касаясь соленой земли согнутой кистью, и он ее совершенно не чувствовал.
Плохо дело, подумал он.
Он смотрел вдаль на соль, и тут она вдруг засверкала. На какое-то мгновение его охватил ужас.
О мама! Что это за земля такая?
Глубоко вздохнул.
Не поминай маму, не задавай вопросов. Здесь мы живем, здесь мы ходим. Это место предназначено для быстроты, а не для удобства.
Если тебе здесь не нравится, уходи отсюда. За тебя этого никто не сделает.
Он остановился у путей, сотрясаемый рвотными спазмами, но выходить было нечему. Выпрямившись, он никак не мог набрать в грудь воздуху.
Ну что это такое, дождь, ради бога? Дождь плох тем, что, как бы ни было жарко, в конце концов ты всегда начинал мерзнуть. Все становилось скользким, ноги начинали преть.
У меня нет сухих носков. Пистолет взял, М&М[107] взял, а чистые носки забыл. Или кто украл. Кому-то из вас, ублюдков, кто прихватил мои носки, я задницу надеру.
Абсолютно никакого дождя. Он достал термос и плеснул немного воды на лицо.
Такая сушь, подумал он, и это как дождь.
Когда треугольник вновь обнаружился, его внутренность свернулась и гнила. Можно образовать новый. Или же закрепить прежний, промыв его.
Плесни на этот треугольник. В жару его надо обливать.
Бесполезно, док советует не обращать внимания, если не слишком больно.
Нет, не слишком, больше кажется.
Впору засмеяться.
Он почесал костяшки пальцев на правой руке, и на какое-то время боль сосредоточилась там. Отпустил винтовку, потряс рукой.
Чуть раньше ему досталось по костяшкам колодой карт. Адъютант отобрал у него карты и хлопнул ими его по руке. В приюте Армии спасения в карты не играют, а он учил других ребят в приюте Бута играть в «ловись, рыбка». Это было в Женском приюте Бута в Чикаго, северная часть, Висконсин-авеню.
Сатанинская игра.
Его мать была там судомойкой. Она рассказывала, что еду там солят селитрой.
Соль жгла глаза, а небо было еще ослепительнее. Некуда смотреть.
Где-то там был ребенок, с которым он едва не столкнулся этим утром в лесу, — ребенок, которого хлестнули по пальцам колодой карт. Он сразу понял, что этот ребенок представляет для него самую большую опасность, что такого он не выдержит.
Ребенок, ставший другим, выдумывавший всякие истории, — ушлый мальчишка, картежник. Все они там, в приюте Бута, выдумывали истории, все рассказывали небылицы о себе. И мальчишки, и девчонки.
Малец шел рядом с ним, и от этого ему было плохо, он сам чувствовал себя маленьким.
— Что ты делаешь?
— Да вот, просто иду себе.
— У моего отца тоже есть такая винтовка.
— У тебя нет отца, а если бы и был, у него бы не было такой винтовки.
— Он купил мне ружье двадцать второго калибра и показал, как стрелять. В первый раз я от отдачи чуть не упал.
— Двадцать второй калибр стреляет без отдачи. Что, нравятся ружья?
— Нравятся. Они красивые. Я с запада. Из Техаса. Я наполовину команчи.
— Ты из Блумингтона, штат Индиана, — потом Милуоки, дальше Омаха и, наконец, Чикаго. Ты никогда не видел индейцев, кроме как на пятицентовике. Меня не проведешь. Как ты можешь так врать?
— Никто не называет меня вруном.
— Нет, называют. Все время называют. Подожди, пока не повзрослеешь, тогда все оружие будет твое, вся дурь и все женщины.
— Я не прочь. Хочу пойти на флот, в морскую пехоту.
— Так и получится, поверь мне. В исправительных школах так заведено, и ты пойдешь в долбаные морпехи, хочешь ты того или нет. Воспитатель будет стыдить тебя и заставит это сделать. Когда окажешься на Пэррис-Айленде[108], узнаешь других ребят из исправительных заведений, потому что они все воры.
— Я хороший вор.
— Ну-ну, — сказал Хикс, — не надо, только салаги хвастаются. От салажьих привычек избавишься, когда попадешь на корабль. Больше помалкивай и учись у других. Учись у японцев, они самые невозмутимые люди в мире.
Как он и боялся, его начало знобить. Бок болел так, словно его ранило только что.
— Я знаю тебя, — сказал Хикс. — Хотелось бы не знать, но знаю. И хватит унижаться и скулить. Смотреть противно. Вот почему я не хочу, чтобы ты был здесь сейчас.
Он шел опустив голову и глядя на полотно дороги, на шпалу за шпалой, — это помогало двигаться.
— Во-первых, это делает тебя слабым. Во-вторых, всем плевать на тебя. Ну кому ты станешь жаловаться? Людям? Им все равно. Посмотри, малыш, где мы, — мы идем по соли, никто не вытащит нас отсюда, кроме меня. Люди находятся на другой стороне этой сволочной пустыни, этих идиотских гор, и нам не нужен никто из этих сукиных сынов.
Он остановился и смотрел, как дрожат горы впереди.
— Знаешь, что там? Дерьмовые людишки всех цветов кожи наперегонки дрочат друг дружке. Мамаша, Папаша и Братец с Сестричкой — две сотни миллионов подонков в огромных машинах. Трусов и чистюль. Злобные, тупые и алчные, они отымеют тебя смеху ради, они желают, чтоб ты сдох. Если ты не лучше их, можешь с тем же успехом и заправиться. Если не умеешь постоять за себя, отойди в сторону, не торчи там, чтобы, проезжая мимо, они не плевали на тебя, не доставляй им такого удовольствия.
Не обращая внимания на боль, он снял с плеча винтовку и упер прикладом в бедро.
— Только ударь меня, ты, грязная свинья, и я убью тебя. Иди на мост и задай им жару, прикончи ублюдков.
— Я убью тебя! — завопил Хикс.
— Рэй, — сказала мать, — не сходи с ума. Лучше попробуй еще раз, может, тебя стошнит.
— Это не я, ма. Это сделал другой мальчишка, я видал.
О черт, да не скули ты так. Унижаться — последнее дело.
В исправительном заведении он и в тринадцать лет еще мочился в штаны. Приходилось тайком носить с собой мокрые трусы — кинуть их в стирку он боялся, потому что на них была его метка. Прятать под матрасом, а потом то же самое со второй парой. О боже, обе пары мокрые, меня просто убьют.
Кошмар.
Как тот ниггер, который чистил обувь в подвальном туалете огромного ресторана у джексонвиллской гоночной трассы. Совсем старик. Всякий раз, как пьяный посетитель спускался вниз, на лице старого негра появлялась широченная улыбка. На какую он только был способен. Чем пьянее был тип, спускавшийся отлить, тем шире раздвигались толстые губы, показывая лошадиные зубы.
Улыбался всегда. Черт, а может, он прикалывался.
— Что смешного, парень?
Нет — этого не прощают, никому, когда нагоняют такого страху. Ни один человек не простит, когда его так испугают.
Там, на Висконсин-авеню, в немецком католическом храме был священник с круглой головой, и однажды они с матерью зашли в храм попросить подаяния. Болван кинул им на стол полдоллара, так что они пошли на Северное авеню, съели мороженое и посмотрели «Крестоносцев»[109]. Осаждавших Иерусалим.
Спасибо за кино, фриц, твоей-то жирной жопы тут сейчас и не хватает.
Господи, подумал Хикс, от этого только еще больнее.
Дитер. Достал его там, на горе. Огонь по своим. Ничего не было слышно, только смотрел, как он себя ведет. Он сам напрашивался. Скулил и унижался.
И те люди. Мардж.
Помни, ради чего все это. Помни, чего ты хочешь, иначе никакого проку. Иногда помнить — это работа.
Равнодушие к результатам действия — это дзен. Это для стариков.
Боль все сильнее. Ускользает из-под контроля.
Треугольник.
Распадается в этой жаре, не может держать форму.
Не исчезай, дьявол тебя побери!
Гате гате парагате парасамгате бодхи сваха.
Еще раз.
Гате гате парагате парасамгате бодхи сваха.
Нет, это не годится. С этим отрубишься.
Здесь нет абсолютно ничего, продолжала пульсировать мысль, кроме меня, и гор, и соли. Не за что уцепиться, не на что опереться — только рельсы. Какое расточительство трезвого сознания и координации.
Он восстанавливал треугольник, выравнивал углы, очищал от соли, стирая в мозгу образ рельсов. Это было трудно, но на некоторое время он загнал в него боль. Когда она снова заставила его остановиться, он отпил воды и посмотрел на руку. Рука была чудовищна, она так распухла в рукаве, что ткань было не уцепить пальцами. Он подумал, что нужно попытаться увеличить треугольник.
Это помогло. Совершенно ничтожным, как ему показалась, усилием он увеличил размер треугольника, красный круг внутри него вздымался и опадал в такт с ударами сердца. Он мог увеличивать его по своему желанию, беспредельно.
Он неожиданно осознал, что умение подчинить себе боль — это самое удивительное и тонкое в боевых искусствах, высший предел духовной дисциплины. По мере того как его собственная боль стихала, он все яснее понимал, что теперь в состоянии вместить в разуме и в душе огромное ее количество. Мастер, достигший вершин духовной дисциплины, каким он теперь становился, может нести бесконечно огромную боль. Намного превышающую его собственную.
Человек мелкий, подумал он, мог бы использовать такую способность, чтобы заработать деньжат. Эта мысль настолько взволновала его, что он едва не упал и не потерял контроль над бесконечным треугольником.
Он мог бы делать это для других людей, для тех, кто незнаком с боевыми искусствами. Если была бы такая возможность, чтобы все те люди по ту сторону идиотских гор передали ему свою боль, он мог бы взять ее и унести за эту соленую пустыню.
Счастливый, он все же заплакал, потому что Дитер не дожил, чтобы услышать об этом.
Весь этот скулеж и унижение, все те плачущие женщины и дети — не хочу больше видеть этого, это мне не нравится. Дайте мне свою боль.
Не хочу видеть столько испуга, а то двинусь крышей. Я просто возьму вашу боль.
Тот мальчишка на спине буйвола посреди рисового поля — какой-то шутник сбил его выстрелом, — я позабочусь об этом ради тебя, малыш.
Напалмовые ожоги? Поможем — просто клади сюда.
Распрямись, папаша. Все отлично, братишка. Ничего не могу объяснить, но мне это раз плюнуть.
— Люди, — закричал Хикс, — все, хватит! Не думайте больше о боли! Я взял ее на себя.
Они должны знать, что я здесь, думал он, должны это чувствовать.
— Люди! Люди земли! Закройте глаза и забудьте о боли. Вы не можете терпеть ее — вам больше не нужно терпеть ее. Я возьму ее на себя… Видите, как я иду? Видите, как шагаю? Нет — она меня ни капли не мучит.
Нет, мне не требуется никакой помощи, красавица, все прекрасно, я справлюсь сам. Для того-то я и здесь.
Я взял ее на себя. Всю.
Значит, в том, что произошло, был свой смысл, думал он. Все, что происходит, имеет свой смысл. Этого не понимаешь, пока не придет момент, и тогда смысл открывается.
Он продолжал шагать; треугольник распался. Теперь в нем не было нужды.
В должное время появится Мардж; он был доволен, что не забыл ее. Конверс пусть тоже будет, Конверс всегда подводил его, всегда немного принижал. Но он и это поймет.
Он любил их обоих — они это поймут, и хотя подобное делают в одиночку, иногда хочется, чтобы кто-нибудь был рядом, кто-нибудь понимающий.
Не знаю, как это получается, сказал он им, я это делаю потому, что могу делать, — все очень просто.
Кто-то спрашивает: что ты несешь?