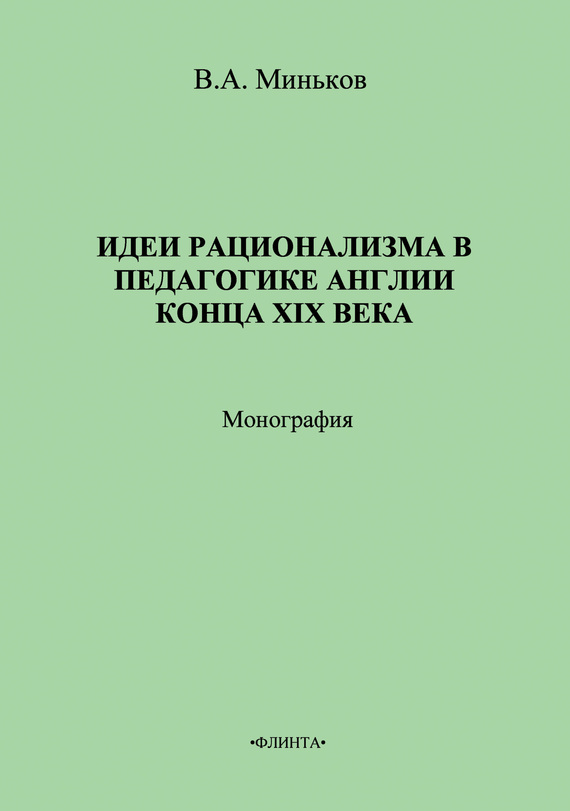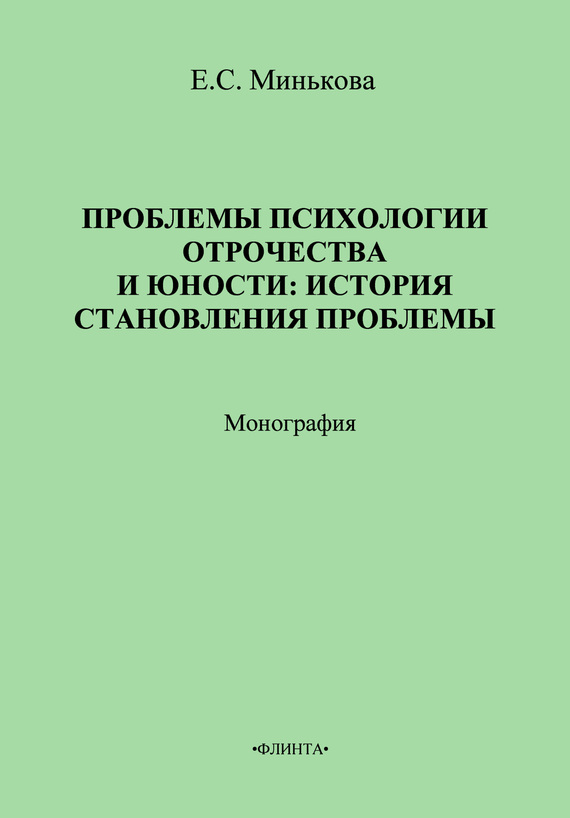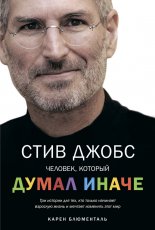У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

На заляпанной кляксами витрине огромные каракули: оказывается, РЕМОНТ. Но почему-то всегда с другой стороны. Как писатель с читателем. И буквы, мало того, что совсем не туда, вдобавок еще и наоборот.
Я иду по притихшему Невскому, словно по коридору разомлевшей квартиры. А в конце коридора – Лавра. Как ВЫХОД.
Можно, конечно, и доехать, но я решил пройтись пешком. Всего две остановки. И потом надо собраться с мыслями. А то что-то все стушевалось. Мне нужно припомнить детали. Освежить.
А все-таки, правда, странно: я ничего не умею придумывать. Ведь для того чтобы придумать, надо сначала увидеть. Чтобы потом сравнить. А я вижу только себя. В окружении предметов, с которыми соприкасаюсь. Я не люблю фантазировать.
Зато у меня слух. Зрение останавливает и фиксирует. А слух опять приводит в движение. Но уже свое.
Слух – все равно что зерно. Прорастая, оно само в себе сделает отбор.
В каждом человеке скрыт художник. Но большинство ничего не слышит.
Я пытаюсь припомнить ноябрь. Затянутые льдом лужи. Поземка. Промозглый ветер. Серокаменное здание морга. Два сосредоточенных мужика. Гроб. Мужики, глядя на гроб, что-то друг другу объясняют. Пар изо рта. Угрюмый ряд сараев (это уже из автобуса). Пьяная Клавдия Ивановна. По щекам Клавдии Ивановны текут слезы.
В Лавру заехали откуда-то сбоку и остановились. Молчаливое вылезание. Гроб выдвигается сзади.
Я подставляю под угол плечо. Екатерина Степановна держит венок. Тут же седой старичок-профессор. Знакомая старушка. Шатаясь на своих стоптанных каблуках, Клавдия Ивановна ко всем подходит и трогает за рукав: хочет, чтобы ей дали справку. Что она здесь присутствовала. По случаю смерти Натальи Михайловны Клавдия Ивановна уже третий день не выходит на работу.
А потом Наталья Михайловна осталась на ночь одна. До отпевания. Когда мы только приехали, то на столе стоял еще всего один гроб. А когда уходили, то из гробов уже образовалась очередь.
За несколько последних лет Наталья Михайловна накопила около четырехсот рублей (она бы накопила и больше, но появился дядя Вася); наверно, каждый месяц откладывала, рублей по шесть или семь; и потом завещала старушке, что к ней иногда наведывалась; три сотни на отпевание и на похороны, а остальное – на поминки.
Но у старушки ничего брать не стали, а все привезли свое, прямо из ресторана «Метрополь»: и осетрину, и коньячок. Ждали Клавдию Ивановну, но та с вечера так нагрузилась, что утром вместо троллейбуса села на электричку. А пили прямо в автобусе, и каждый бывший ученик вспоминал из жизни своей учительницы какой-нибудь забавный случай.
Все это мне потом рассказала Екатерина Степановна (утром стучится, а я еще не вернулся с маршрута; Наталью Михайловну должны были отпевать в час дня, но почему-то передвинули, и я опоздал.)
Я перехожу через площадь и приближаюсь к воротам. За воротами – слева и справа – стены Некрополя. За одной из этих стен – Федор Михайлович Достоевский.
Вместе со мной поодиночке и группами двигается народ. Повязанные платочками рассыпанные там и сям старухи; как-то неожиданно возникающие и не совсем правдоподобные в таком количестве, – в почти одинаковых одеяниях, они напоминают толпу, спешащую с трамвайной остановки к проходной «Красного треугольника». Пытаясь не выпасть из общего ритма, кандыбают хромоногие. Парочки любопытных. Два юных милиционера никуда не спешат – шагают вразвалочку и все по-хозяйски осматривают.
Выйдя на мост, я пересекаю канал; канал ответвляется от Невы. Сразу же за мостом киоск; в киоске – касса. Билет стоит тридцать копеек. Ведь я же атеист, значит, должен расплачиваться. Но никто, кроме меня, почему-то билета не покупает.
На подступах к монастырю на самом видном месте вывеска: ОТДЕЛ КАДРОВ. А ниже – доска объявлений. Я подхожу и читаю. Требуются: кровельщики, фрезеровщики, гальваники, водопроводчики, такелажники. И даже лаборанты. Как будто на заводе. Или в научно-исследовательском институте.
С вертлявым синим глазом, похожий на желтого цыпленка черный воронок. Прощупывает окружение. Возле двух сиротливых берез, возвышаясь над нищенками, два давешних милиционера. Наводят порядок. Тот, что порешительнее, уже наклонился и схватил нищенку за локоть. Что-то ей строго выговаривает. Его товарищ чуть в стороне. Нищенка вырывается, а ее подруга, не дожидаясь той же участи, медленно уползает. Милиционеры шагают дальше.
За строем колонн решетчатая живопись массивных дверей. В вестибюле оживление. Наверно, что-то дают. Черным по белому предупреждение: ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ ОСМОТР СОБОРА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН.
Сейчас все осмотрю: подумаешь – категорически; жалко, что нет бинокля.
Я делаю шаг, и меня ослепляет такое обилие предметов, что я сразу же попадаю в цейтнот: у меня не хватает слов.
Но может, и неважно. Ведь птице, что щебечет в лесу на ветке, тоже невдомек, что и как называется. И все-таки поет.
…С видом администратора стоит какой-то малый, почти мой ровесник, немного навеселе; а может, просто возбужден.
Я его спрашиваю:
– Скажите, а что здесь сейчас происходит? Неужели всегда столько народу или сегодня что-то особенное?
Оказывается, приехал митрополит.
Я опять спрашиваю:
– А что такое митрополит?
Малый, похожий на администратора, смеется:
– Ну, все равно что Романов… – и улыбается.
Я говорю:
– Вы знаете, я тут первый раз… хочу поставить свечку… соседке… ее здесь отпевали… а я не смог…
Он опять улыбается.
– Вон, видите стол… свечку уже купили?.. – и, сделав со мной несколько шагов, возвращается на прежнее место.
Я подхожу к столу и смотрю на свечи. И над каждой светится пламя. Дотронувшись фитилем до огня, я вставляю свою свечу в ячейку. Но она тут же падает, и я ее успеваю подхватить. Я стою со свечой, и передо мной точно море, а я не умею плавать. Но потом догадываюсь.
Теперь я дотрагиваюсь до пламени основанием. Воск сразу же плавится и, заполняя лунку, образует фундамент. И как будто вросла. Пламя колеблется и, кажется, вот-вот и погаснет…
Все-таки дышит. Свеча для Натальи Михайловны. Пускай горит. Вместе с остальными. Я слежу за своей свечой глазами. Запомнил. Четвертая с краю.
Как и у нас на кухне, обычный деревянный столик; на клеенке листы, в клеточку или в линейку, а на листах – каракули с именами. Анна, Антон, Евдокия… И наверху заглавие – О УПОКОЕ. Возле столика на табуретке корзина, или что-то вроде хлебницы. Несколько пачек печенья, груда конфет, пачка чаю. Подошла старушка и положила еще один листок, и тоже весь в каракулях. Потом достала два бублика и опустила рядом с печеньем.
На куриных ногах похожий на урну для голосования ящик. Над щелью – дощечка и надпись – НА РЕМОНТ МОНАСТЫРЯ. И каждый, кто подходит, что-нибудь туда кидает.
Я лезу в карман и нащупываю гривенник. И еще у меня трешница, на четыре дня. Трешницу жалко, а гривенник – как-то неловко.
Теперь уже не море, а озеро с мерцающими кувшинками, только вместо лепестков – свечки, и над каждым бутоном склонившейся бабочкой свисает огонек – зеленоватый, оранжевый, красный… сплошные огоньки; а между ними – лики, то прямо тут же, за лампадкой, а то из глубины на стене, а иногда и целые таблицы – как будто фотографии на память после окончания школы. И рядом со словом ВЫХОД – во весь рост Иисус Христос. А ноги с гвоздями – точно живые. И некоторые подходят и целуют.
Переливающийся радужными тонами откуда-то сверху – проступивший накат перезвона… Оказывается, часы. Я поднимаю глаза – и, вместо стрелок, правда, совсем в другой плоскости, как бы идут чередой люстры. Но тоже по кругу. И совсем не такие, как на вокзале, а словно светящаяся музыка – в металле и в стекле. И каждая лампочка – в виде свечи. А над головой – голубым сводом – купол.
И тут как-то вдруг неожиданно запели. Я оборачиваюсь и вижу балкон, а на балконе – мужчины и женщины, многие в очках; перед поющими – на подставках раскрытыми книгами – ноты. И кажется, что поют без всяких слов, один лишь звук, пока еще только наметки… Но вот все шире и шире – разносится по сторонам и, перекатываясь между стенами эхом, уносится к своду…
Я вообще-то подозрителен к хору, но такое пение мне по душе.
А здесь, внизу, уже начинается шествие, где-то я что-то подобное видел, и тоже по кругу, а внутри – пятачок; по-моему, у Ван Гога, и называется «Прогулка»; только вместо полосатых костюмов – темные рясы, а там, где перед охранником ствол, – у каждого в кулаке по факелу (конечно, не очень-то красиво так очернять спустившихся на землю привратников, но что-то я этим небесным отмычкам не доверяю); а тот, что посередине – недаром же говорят «золотая» – в таком позолоченном шлеме, – наверно, митрополит.
И вдруг тоже запевают. Но не как на балконе. А точно отчитываются на собрании. Господи, помилуй… Господи помилуй… Господи помилуй… – и факелы – то сходятся, а то расходятся. Как смена караула.
А те, что сплотились в молитве – в каком-то неистовом упоении, – крестятся. И некоторые даже падают на колени, и под коленями что-нибудь подстелено. А одна, вроде нищенки, вся как-то вбок распласталась и застыла.
А вот вообще непонятно кто. Выскочил откуда-то из-за угла с мешком. Уже немолодой. Как будто с грязным бельем. Но никто не обращает внимания. Молятся.
Я поворачиваюсь к столу и хочу отыскать свою свечу. Долго ли ей еще гореть? Но все загородила женщина в черном. Наверно, служительница. Лицо такое жесткое, волевое. Взяла и все перетасовала: натыкала в квадрат. И теперь я не знаю, где моя.
А с факелами все знай себе маршируют и вдруг, превращая пятачок в коридор, выходят прямо в народ.
Тот, что посередине, хотя уже и старый, но еще совсем не дряхлый, какой-то неумолимо сухой; блистая позолотой, размахивает на ходу цепочкой, на которой, полуоткрываясь, как в игрушечном самоваре, горят и тлеют угли; наверно, кадило. От углей разносится дым. А те, что сопровождают, – гораздо моложе. Сытые. С толстыми подушками пальцев.
Так все-таки как же быть: верить или не верить?
Я верю свече. И еще музыке люстр, и лампадам, и голубому своду; и даже коллективному пению, но только не здесь, а там, наверху; но лучше не голосам, а Голосу. И еще я верю ликам. Но не лицам. Тем более должностным.
…На выходе я опять натыкаюсь на администратора. Малый меня узнал.
– Ну, как, – улыбается мой старый знакомый, – все в порядке?
Ничего ему не ответив, я возвращаюсь в действительность и, проделав обратный путь, приближаюсь к Некрополю. Возле входа в Некрополь стоит дежурная.
– Простите, – спрашиваю я ее, – где здесь можно купить цветы?
– Цветы? – удивляется дежурная. – А что вы хотели? Билеты продаются только до восемнадцати часов.
Может, попробовать уговорить? И вдруг я вспоминаю, что уже покупал. Неужели выкинул? Я роюсь в кармане и достаю помятый квиток.
– Вот, – показываю я, – остался…
– Ну, проходите… – дежурная его надрывает и пропускает меня в калитку.
– Скажите, – я смотрю на часы, – а через полчаса вы меня не пропустите?
Уже четверть седьмого, а на вывеске написано до девятнадцати.
– Без четверти семь звонок… – предупреждает дежурная и садится на стул.
…На площади перед Лаврой ни одного цветочного киоска. Или хотя бы прилавка. Придется ехать на вокзал. Начинается дождь, и где-то погромыхивает. Публика валом прет из метро и, перейдя площадь, толпится возле автобусных остановок. Возвращаются на Охту. Из-за города. Многие с цветами. У некоторых сирень. Может, попросить? А вдруг продадут? Но как-то не поворачивается язык.
Интересно, а какие у Федора Михайловича были любимые? Что-то я у него про цветы даже и не помню.
У меня любимые флоксы. Но флоксы будут только в августе. А сейчас середина июня.
Я кидаю в автомат гривенник, и вылетают два пятака. Вбегаю на эскалатор и сломя голову несусь по ступенькам.
– Не бегите! – не совсем понятно откуда произносит механический голос, и я перехожу на шаг…
Проводив хвост электрички взглядом, я смотрю на табло. Электросекундомер отсчитывает секунды. Двадцать пять, тридцать, тридцать пять… И не остановить. А поезда все нет. Уже почти половина.
…Я выскакиваю из метро и бросаюсь к цветочному базару. Ко мне подлетает цыганка.
– Купи, дорогой… четыре рубля… – цыганка сует перевязанный ниткой целлофановый пакет. Кажется, розы. За ее спиной на прилавках сирень. Пионы. Гвоздика. Надо бы выбрать. Но уже некогда.
– Бери за три… – цыганка оставляет пакет у меня в руке, и я лезу в карман. Нащупываю трешку и протягиваю ее цыганке.
Возле автоматов очереди, а перед эскалатором давка… Я продираюсь по переходу.
…Уже в вагоне раскрываю целлофан и нюхаю. Что-то не пахнут. Одна – желто-восковая, другая – белая, а третья – пунцовая. Нюхаю опять, и снова не пахнут. Может, от волнения?
Говорят, когда цветы для покойника, нужно, чтобы делилось на два. А у меня все равно три.
…Эскалатор еле ползет. И все никак не кончается. Уже без двадцати трех, даже без двадцати двух. До закрытия семь минут. На светофоре вспыхивает красный свет – не успел. Машины заворачивают с моста и плотной вереницей несутся на Невский. Наконец зажигается зеленый. Я вбегаю в ворота и смотрю на часы. Без семнадцати. Все-таки успел.
Посетителей уже нет. Дежурная смотрит на мой букет и вдруг приветливо улыбается. Узнала. Наверно, думала, пошутил. А я внизу, и правда с цветами.
– Знаете, мне нужно к Достоевскому… скажите… это недалеко?..
– Да нет… сразу направо… сейчас увидите… какие чудесные розы… подождите… я вам дам баночку…
Дежурная уходит в помещение, и в это время раздается звонок. Без четверти.
– Что-то не найду… – дежурная уже вернулась. Она еще не старая. Лет пятидесяти пяти. Охраняет девятнадцатый век. А напротив, из восемнадцатого, уже закрыла. Эта постарше. Совсем старуха.
– Подожди, – говорит ей та, что из девятнадцатого, – постой вместо меня, я сейчас… человек вот цветы принес… пойдемте…
В Некрополе пустынно. Только я и дежурная. Дождь уже прошел, но где-то вдалеке все еще раскаты. На скулах и возле глаз Федора Михайловича черточки влаги.
Дежурная заходит за памятник и достает стеклянную банку. Я развязываю нитку, и розы, как бы освободившись из плена, расходятся по сторонам. Теперь вдруг запахли. Наверно, все забивал целлофан.
– Поставьте сами, – предлагает мне дежурная. – Вон туда… – и кивает на грядку перед памятником. – Да не бойтесь… – и улыбается. – Знаете, в прошлом году приезжали англичане… со своим священником… Так прямо здесь и отслужили…
– Спасибо… большое вам спасибо… – я наклоняюсь и аккуратно, чтобы не повредить рассаду, опускаю цветы к постаменту. Банка скрывается в ростках, а розы остаются снаружи. Как будто из земли.
Дежурная довольна. Она стоит в нескольких шагах от меня и продолжает улыбаться. А я уже разогнулся и смотрю на памятник.
– Ну, хорошо, – ласково говорит мне дежурная. – Десять минут вам хватит?
– Конечно, хватит… – я обвожу ее благодарным взглядом и, забыв, что у меня уже не осталось ни копейки, привычно лезу в карман.
Дежурная это замечает и, как-то сразу увянув, чуть ли не машет руками.
– Да что вы, что вы… Боже упаси… – наверно, я ее обидел.
Я смотрю на памятник и пытаюсь разобрать надпись. Потом поворачиваюсь к дежурной и хочу у нее спросить, а что это за цветы. Здесь, на грядке. Но дежурная уже ушла.
Опять поворачиваюсь к памятнику и читаю:Аще зерно пшенично падъ на земли не умретъ,
то едино пребываетъ,
аще же умретъ, много плодъ сотворитъ.
Иоаннъ, гл. 12, ст. 24
И вдруг я замечаю милиционера. Он приближается ко мне вместо дежурной и поторапливает. Милиционер делает прощальный обход.
Он распахивает передо мной калитку, и я у него спрашиваю:
– Вы не знаете, что это за сорт цветов, там, на могиле…
Милиционер внимательно на меня смотрит и, ничего не ответив, запирает калитку на огромный амбарный замок.У нас в саду жулики
Утро
1
В коридоре скрипнула дверь, и из комнаты вышел папа. Папа в трусах и в майке – он занимается гимнастикой.
Вот папа поднимает руки и делает вдох. Папа ходит. Потом делает выдох, и руки у него расслаблены.
Папа схватил газету и рвет ее на листочки. Листочки аккуратные. Папа любит во всем порядок.
Теперь каждый листочек комкается и растирается. Для размягчения. Потом листочки разглаживаются.
Из газет папа предпочитает «Юманите»; ему оставляют в киоске. Папа любит «Юманите». Бумага «Юманите» мягкая и нежная.
Я переворачиваюсь на живот и, зарывшись в подушку, жду. Папа затих.
…Вот он спускает воду и снова выходит в коридор. Сейчас откроет рот и сложит из пальцев рупор.
– Подъем! Подъем! – деловито орет папа и хлопает в ладоши. – Подъем!
Я нехотя открываю глаза и, свесив с кровати ноги, нащупываю шлепанцы.
– Не шаркай! – доносится до меня из ванной недовольный папин голос. – Опять шаркаешь?
…Я тоже спускаю воду и, прислонившись к стенке, разглядываю папу в зеркале.
– Свет! – строго напоминает мне папа. – Опять забыл?
Я протягиваю руку и, щелкнув выключателем, снова поворачиваюсь к зеркалу. Мне видна намыленная папина щека.
– Все, что успеваешь сделать сегодня, – поднимает папа подбородок, – делай сегодня. Бери пример, – папа называет фамилию ученика из нашего класса, отличника, – бери пример с Рубина.
Я говорю:
– Чего с Рубина?
Папа говорит:
– Рубин все успевает. Будь таким, как Рубин.
Я говорю:
– Чего Рубин?
Папа говорит:
– Что чего? Ты что, смеешься надо мной, болван?! Ты что чевокаешь?
Папа чертыхается – он порезался. Чем-то намазывается. Я чищу зубы.
…Уже сели завтракать, и папа наворачивает котлету. Я тоже.
Папа говорит:
– Вера, сегодня я Толю наказываю. Чтобы вечером был дома.
Я разжевал котлету и, разинув рот, высовываю то, что получилось.
– Это же черт знает, что такое! – не выдерживает папа и стукает кулаком по столу. – Я отказываюсь сидеть за одним столом с этим кретином! Ты слышишь меня, Вера? Или я, или он!
Я снова открываю рот. Папа вскакивает, хватает портфель, нахлобучивает шляпу и яростно хлопает дверью.
2
Папа завел мне табель. В табель, который завел мне папа, вошли:
1. Чистоплотность
2. Аккуратность
3. Внимательность
4. Собранность
5. Почтительность
6. Еда
7. МузыкаПосле ужина – проверка и опрос домработницы. А перед сном – наказание. 3
Вчера, когда папа меня порол, я его укусил.
4За столиком кафе под парусиновым зонтиком я и Соболь. У Соболя на лбу прыщи. У него половое созревание.
Набив полный рот шоколадным пломбиром, я испуганно давлюсь. А Соболь уже все проглотил и, снисходительно улыбаясь, двигает ушами. Это условленный знак.
Мы срываемся с плетеных кресел и, перемахнув через газон, летим к проходному…
5Я лежу с закрытыми глазами и мечтаю. Я люблю помечтать.
Мне представляется Таня Кокорева. Тане одиннадцать лет, но уже грудь.
Вот она выходит в переулок, а я несусь без рук на «велике». Или стою с Белахой. Белаха уже два раза сидел. Или в садике Милютина сейчас положу в кольцо «крюка». И вдруг – Таня…
С газона уже сошел снег. Весна. На заднем дворе, наверно, играют в «казеночку».
В угольном квадрате на асфальте вперемешку с алтушками «серебро». Анисим берет пятак и, зажав между пальцами, дотрагивается до стенки. Тюкает.
И еще раз тюкает. Что-то Анисиму не понравилось. Звук какой-то пустой. Все-таки накнокал. Стук теперь позвончее. Анисим разжимает пальцы, и пятак опускается в угол квадрата. И все сразу же наклоняются. Анисим становится на колени и проводит другим пятаком по черте. У Анисима не задевает. И Валерик тоже на коленях. Монета Валерика сдвигает пятак Анисима в сторону. У Анисима «чира». Анисим Валерика отшвыривает, и Валерик горлопанит. Сейчас начнется драка.
…А я здесь лежу. На кухне хлопочет домработница. Домработница одолжила мне рубль. И теперь все рвется в ванную потереть мне спину. Еще чего не хватало!
Я лежу на кровати и слушаю заоконную перепалку. У меня ангина.
6С недогрызенным яблоком в кулаке я выхожу из подъезда. На лавочках вокруг столика меня замечают, и несколько человек срываются мне навстречу.
– Сундучок, – кричат они мне на ходу, – а, Сундучок, оставь! – и стараются друг друга обогнать.
Я сую в чьи-то руки огрызок, и между ребятами начинается грызня, кому из них кусать первому.Шадап
1
Я держу в руках травинку и, двигая вдоль стебля метелочки, собираю их на макушке все вместе. И получается «петушок». А если без короны, тогда получится «курочка». И можно было что-нибудь загадать. И если отгадаешь, тогда твое желание сбудется. Так объяснила мне вчера одна девочка, когда играли на бревнах в «испорченный телефон».
А в волейбол играют одни взрослые и почти все приехали на велосипедах. Велосипеды лежат прямо на тропинке, и если подойти, то можно покрутить колесо. Или хотя бы педаль. Оказывается, она тоже крутится. И обязательно кто-нибудь скажет: «Не трогай!»
Сетка привязана к дереву, и от подножия ствола к вытоптанной траве ответвляются корни. Один из играющих падает, и мячик, отскочив от его плеча, укатывается в кусты. Мне разрешается за ним побежать и бросить его обратно на площадку.
Сейчас раздастся свисток, и откинутая для подачи ладонь пошлет подброшенный мячик через сетку. А на другой стороне все уже растопырили пальцы…
2
Из приоткрытой двери сарая с оттопыренными ушами высовывается голова. Это голова Гарика. Гарик наш сосед по даче.
Гарик мне предлагает:
– Будешь играть в дочки-матери?
Я подхожу и смотрю.
На полосатом матрасе лежит Марина. Марина и Гарик – брат и сестра. Марина в одних трусах, и на трусах изображен Аленький цветочек. Со свисающей ноги вот-вот и свалится тапочек. Другой тапочек валяется возле ведерка.
Прямо в ботинках Гарик садится Марине на живот и начинает скакать. На его розовой спине белые островки облупившихся волдырей. Теперь будут чесаться.
– Ну, что, – замедлив свое гарцевание, поворачивается ко мне Гарик, – перебздел?
Я стою и молчу.
Подумаешь, удивил. На переменке у нас так умеет каждый. Повалит своего товарища на лопатки и давай потом прыгать. Как на лошадке.
– Какой дурак, – смеется Марина, – он что, проглотил язык? – и тоже ко мне поворачивается: – Тебя как, мальчик, зовут?
– Никак… – я опускаю голову и смотрю на ползущую по соломинке букашку. Однажды я такую уже раздавил. Еще в Москве. Та, правда, была не в крапинку, а красная. И на простынке – размазанное пятно. И мама утром даже всплеснула руками: Гриша, клопы! Но та, что ползет по соломинке, окажется потом божьей коровкой.
– Никак, – повторяет за мной Гарик, – его зовут Никак.
– Никак Никакович, – соглашается со своим братишкой Марина и, спихнув его с живота, приглашает меня составить ей компанию, – ну, что стоишь? Иди, дурачок, сюда…
И в это время неожиданно врывается мама и, резко схватив меня за руку, уводит.
3
Я лежу на раскладушке, и сквозь листву, то выскакивая, а то пропадая, просвечивает луна. Раскладушка стоит на веранде.
И вдруг я слышу мамин шепот:
– Ты знаешь, Гриша, чем сегодня занимались дети?!
И папин шепот ей в ответ:
– Шадап.
Папа всегда произносит это слово, когда подозревает, что я не сплю. Как я потом узнал, это слово означает «заткнись».
4
И через шестнадцать лет мама меня удивит.
Мы отдыхаем в Евпатории, и мама обеспокоена моим предстоящим отъездом на Колыму.
И я уже сам тоже папа, а через месяц в Москве останется мне «светить» та, что «у меня одна».
И вдруг, и тоже ночью, только теперь под крымской луной, я услышу все тот же самый папин шепот.
– Шадап…
И папе в ответ мама расшифрует мне свои опасения.
– Еще подхватит сифилис!
Первая любовь
1
Я думал, завалинка – это такое бревно и верхом на метле сидит Баба-Яга. А это, оказывается, крыльцо и верхом на табуретке читает газету дядя Павлик. У дяди Павлика румяные щеки и покрытые волосами мясистые пальцы. И если их потрогать, то так и хочется сложить из них фигу.
Дядя Павлик – папа Наташи Мартыновой. Считается, что я в Наташу влюблен, и, когда играли в «бояре», Наташа меня выбрала себе в женихи.
Я перешел во второй класс, а Наташа пойдет уже в четвертый. У Наташи золотистые локоны и голубые с отогнутыми ресницами глаза. Точно у куклы Мальвины из спектакля про деревянного мальчика. Я еще спектакль не смотрел, но уже знаю, что деревянного мальчика зовут Буратино.
Так за приличный «паяльник» прозвали в нашем классе Анешина.
– Ну как, Егорыч, дела? – останавливает меня дядя Павлик и, отложив газету, шутливо толкает кулаком в живот. Мы теперь с дядей Павликом друзья.
2