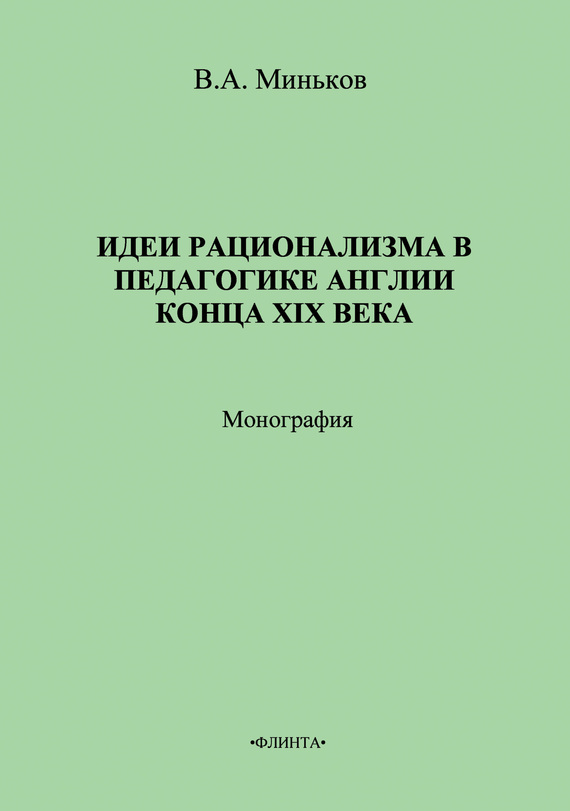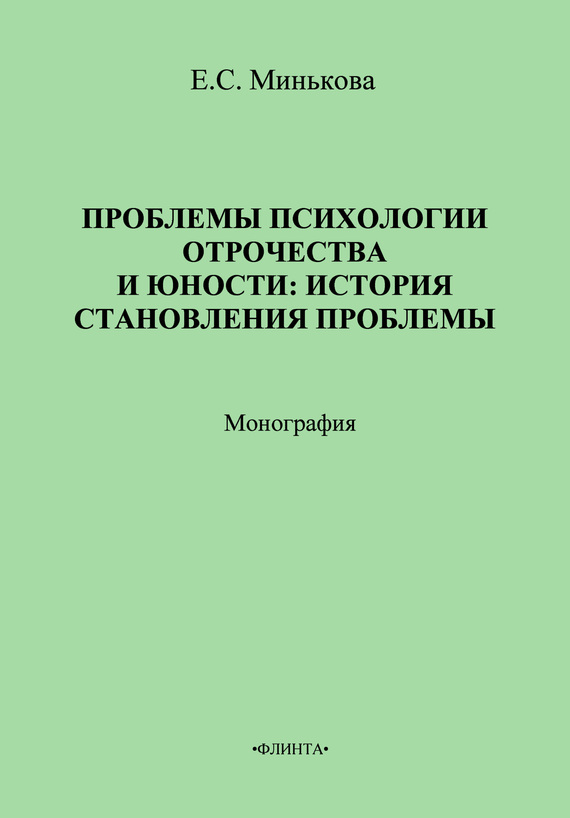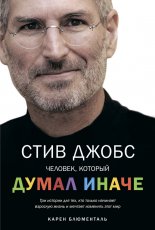У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

– Ну, и что?
– Как, ну и что? – и теперь не понял меня уже Володя. – Ну, например… жизнь наша… блядская… а что там у него?
– А у него, – я даже засмеялся, – а у него «Литые сосны».
Володя поморщился:
– Литые сосны… ну, и что? А мне неинтересно.
Я удивился:
– Но почему?
Володя отрезал:
– Неинтересно – и все.
Лариса закричала:
– Ну, давайте дальше…
Я закричал:
– Быль сиреневую латает солнце…
Володя поморщился:
– А почему сиреневую?
Я замахал руками:
– А как же у Пастернака… помнишь… там у него… как это… про грозу… « и в полдень лиловы глаза и газоны, и пахнет сырой резедой горизонт » ?..
Володя опять возмутился и тоже перешел на крик:
– Пастернак!.. – его возмущению, казалось, уже не было предела. – Да это… да это же… тайна…
Лариса снова заторопила:
– Ну, давайте, давайте дальше!Я заорал:
– « Глушь наваливается, лучась, проговариваясь, шепча».
Володя засомневался:
– Это в Серебряном Бору глушь?
Я насупился:
– А что, не похоже?
Лариса насупилась:
– А я вообще не люблю описания природы… Что это такое? Пейзажики… Правда, Володя?..
Володя не согласился:
– Нет, почему же… но должна… – он все никак не хотел слезать со своего конька, – но должна же быть тайна…
Лариса повторила:
– Да. Не люблю.
Я огрызнулся:
– А как же Пастернак?
Лена ласково на меня посмотрела и прошептала:
– Успокойся.
Лариса поглядела на свои ногти и снисходительно улыбнулась:
– Ну, Пастернак, Толя, это совсем другое дело. У Пастернака, Толя, за пейзажем… ну, как бы это вам объяснить…
И вдруг как будто перетасовала все карты:
– К чертовой матери пейзажики! – и с этими словами как-то вмиг напружинилась. И голос при этом сделался у нее какой-то чеканный, почти металлический; наверно, ей даже и самой понравилось, такой пируэт: сначала все так нежно, гладко… и вдруг потом раз – и к чертовой матери!!!
Уже было решила: ну, все, посылаю в нокаут! Но в последний момент все-таки передумала и вместо «хука» протянула мне руку помощи.
– Стихи этого поэта, Толя, может, и неплохие, но в них за пейзажем… не чувствуется мысли. Верно, Володя?
И, точно преодолевая не совсем приятную болтанку, Володя тоже пошел на снижение.
– Ты, Толя, на меня не обижайся. Мне твои песни очень нравятся. Да и поэт этот, конечно, незаурядный… И книжку свою он еще издаст. Вот посмотришь. И не одну. А две… три… пять… С такой поэзией всегда можно прибиться к какому-нибудь берегу… Но как поэт я все-таки не могу его включить в десятку… – и тут он стал перечислять, – Пастернак… Мандельштам… Ходасевич… Нет, не могу… – и закончил свое перечисление Слуцким.
Я его перебил:
– Понимаешь, Володя… ты не подумай… ты для меня все равно… – я все никак не мог подобрать нужного слова, – ты для меня остался… – и я встал.
И Лена тоже встала. Она мне прошептала:
– Успокойся…
Я предложил:
– У тебя, Володя, есть ножницы?.. Давай, мы эти песни на слова моего друга просто отрежем. И тогда они не будут тебя раздражать.
Володя уже успокоился совсем. Он засмеялся:
– Зачем же отрезать? А может, кому-нибудь из наших друзей понравятся…Лариса склонилась на Володино плечо и с какой-то лукавинкой сделала мне реверанс:
– А может быть, Толя, мы еще и сами послушаем повнимательнее… Вы не огорчайтесь…
Лена меня уже чуть ли не поглаживала:
– Ну, успокойся, успокойся…
И так они до сих пор и стоят у меня перед глазами. Володя и Лариса.
Лариса такая нежная и томная. Жена поэта. А Володя хотя и бородатый и мужественный, но все равно он беспомощный и добрый. Поэт.
Он мне наговорил целую бочку арестантов. А я все равно верю не словам, а Слову.
Потому что я ему верю в его «Заполночи». И еще потому, что так все-таки хочется дождаться рассвета.Русская крепость
1
Горбовский открыл мне в трусах. Когда я к нему позвонил, он в это время, оказывается, одевался. Глеб стоял в одном носке и деловито просовывал ногу в штанину.
Я промямлил:
– Глеб… – и запнулся. Потом поправился, – Глеб Яковлевич… – и замолчал.
Нога, на которой стоял Глеб, теперь была вторая. А над коленом первой синела татуировка.
Я хотел разобраться в ее содержании, но, покамест вникал, Глеб уже успел штанину надеть.
Он меня пригласил:
– Заходи! – и мы с ним прошли на кухню.
Я удивился: тахта. На столе из пишущей машинки торчал чистый лист бумаги. В углу под раковиной выстроилась целая батарея пустых бутылок из-под кефира.
Глеб перехватил мой взгляд и, похоже, передо мной оправдался.
– Надо бы сдать… Все никак не соберусь…
Я сказал:
– У меня песни. На ваши слова. Две пленки.
Он огорчился:
– Пора бежать. А завтра не можешь?
Я обрадовался:
– Могу. А во сколько?
Он спросил:
– Ты работаешь?
Я признался:
– Да нет. Я только переехал. Поменял. Москву на Ленинград.
Он удивился:
– Да? Странно. Ну, давай часов в двенадцать. А то вечером дела.
Тут он вдруг вспомнил, что стоял, когда я вошел, в трусах, и снова как будто оправдался.
– Да. Потолстел. Старый уже стал. Сорок лет.
Я поддакнул:
– Да. Я тоже думал, моложе.
Он усмехнулся:
– Старше Евтушенко.
Мы с ним вернулись в коридор. Я надел ушанку и уже собрался уходить. Он улыбнулся и вдруг протянул мне руку:
– Глеб.
Я совсем смешался и прошептал:
– Толя… – потом поправился, – Анатолий… – и снова поправился, – Толя…
Как я ни волновался, но все-таки успел заметить, что у Глеба на левой руке не хватает указательного пальца.
2
Когда я набирал его номер, то больше всего боялся нарваться на женский голос. А то как-то раз позвонил, и подошла, я думал, домработница, а это, оказывается, его половина, а когда я спросил «Глеба Яковлевича», мне каким-то раздраженным тоном ответили, что «его нет дома», и не успел я открыть для следующей фразы рот, как тут же послышались гудки. Сначала это меня озадачило и даже расстроило, но потом я себя успокоил, все-таки у человека семья, к тому же Глеб совсем недавно переехал в новую квартиру, и тоже все на нервах, и теперь у него уже трехкомнатная, а когда я его разыскал через справочное бюро, была еще только однокомнатная, и потом с каждой новой встречей прибавлялось по комнате, а в прошлом году, когда я ему привозил прослушать кассетник, хотя пространства и прибавилось, он меня почему-то в комнату даже не пригласил, или хотя бы на кухню, и мы с ним стояли и разговаривали в передней, наверно, Глеб тогда просто устал, его в тот день вызывали в Смольный на совещание работников культуры. Но, несмотря ни на что, Светочка так для меня и осталась все той же восторженной девочкой, она еще училась на филфаке и защищала диплом на тему «Глеб Горбовский и советская поэзия», а может, «Глеб Горбовский в советской поэзии», я уже точно не помню, наверно, одно и то же, но все-таки не совсем, если, конечно, вдуматься, и я еще удивился: везет же людям (а мне в том же самом году в Магадане любимая женщина засветила по темени бутылкой и даже ходили зашивать). И когда я Светочку только увидел, то подумал: ну, надо же, какая взрослая дочь (сейчас, наверно, его первой дочери уже за двадцать), а это, оказывается, жена; Глеб все, помню, шутливо ее похлопывал по мягкому месту и все повторял «Ну, ладно, ладно… дай с человеком поговорить…»; а когда перед этим слушали магнитофон, то Светочкины глаза так и лучились радостью и одновременно гордостью, и в самом начале каждой песни она чуть ли не хлопала в ладоши и все восторженно приговаривала: «Ой, и это… и это тоже!.. Глеб, это же наше… любимое…», а когда речь зашла о выпивке, то со словами: «А мы уже больше не пьем!» ласково обняла Глеба за плечи. И Глеб все смущенно улыбался, и вокруг из книжного шкафа и со стен глядел на нас со своих фотографий, совсем еще ранних и редкостных, где Глеб все еще тот, давнишний, «пропахший земляникой», и уже недавних, последних, где он чуть ли не во фраке, и сразу же припоминается его «Зеленый галстук». А Светочка сейчас, наверно, уже солидная дама (и теперь у них с Глебом тоже дочь) и, скорее всего, больше уже не носит таких кокетливых с кружавчиками платьиц.
Но к телефону подошел сам Глеб, я его сразу же узнал, и мне показалось, что он на меня как-то даже обиделся. За мой не совсем уместный вопрос: помнит ли он меня или нет? Ну, конечно, помнит.
– Ну, как ты там, чем занимаешься?
– Чем занимаюсь… Да все тем же… Слушай, Глеб… все, что я тебе записал…
Но он меня перебил:
– Знаешь, сегодня не могу. Занят. Пишу прозу.
И я ему даже позавидовал. Что до стихов я покамест еще не дорос. Еще не дорос до своего «Евгения Онегина».
Может, попросить почитать? Но я все-таки постеснялся.
Я уточнил:
– Вообще-то не обязательно сегодня. Просто я все твои песни перепел. С другим аккомпанементом.
Он поинтересовался:
– Ты мою последнюю книжку не читал?
Я спросил:
– Какую, рыжую?
Я думал, он спрашивает про свой «Монолог». Туда вошли стихи из всех его книг.
Но вот что обидно: все, что мне по душе, написано уже очень давно. Еще в шестидесятых. И даже в пятидесятых. А из его последних сборников у меня так и не вышло ни одной песни.
Правда, одна все-таки получилась. Но потом пригляделся, и оказалось, тоже из ранних. Просто раньше, наверно, было никак не пристроить.
А стихотворение что надо. В особенности начало:Страшней всего – остаться одному.
Таскать по свету душу, как суму,
стучать в дома, завешенные тьмой,
и всякий раз – не попадать домой.
Когда еще Глеб напишет такие строчки?
Но оказалось, не рыжую, а серую, с таким розовым заревом. «Видения на холмах».
Он посоветовал:
– Купи последний номер «Смены». Там у меня поэма. «Русская крепость». Потраться. Всего двадцать пять копеек.
Я пообещал:
– Конечно, куплю… обязательно… только, ты знаешь… мне твой последний сборник… вообще-то не очень… ты знаешь… не понравился…
И не успел я еще все это произнести, там, откуда уже все крепчало молчание, что-то успело заклинить и, сдвинувшись, поехало прямо на меня…
– Думаешь, там только про войну?.. – голос Глеба мало того что изменился, он у него как-то вмиг скособочился. Как будто мое признание своротило ему скулу, и теперь уже не восстановить. – Да ты читай, читай дальше…
И тут мне показалось, что Глеб как-то вдруг даже захмелел. Жалко, что по телефону нельзя было почувствовать запах. А то бы, наверно, понесло перегаром.
– Да где ты еще найдешь… такого второго Глеба Горбовского!!! – эти слова Глеб уже не произносил, а цедил и не просто, а с какой-то подворотной ухмылкой. Вроде бы мы с ним на толковище и, чтобы друг друга распалить, прежде чем приступать к серьезному разговору, «ботаем по фене». – Ну, а что тебе нравится?..
Я пролепетал:
– Понимаешь… Мне от тебя… – и запнулся. Я хотел ему сказать, как мне было когда-то дорого каждое его слово, но язык меня почему-то не слушался, – я люблю твое старое…
– Жидовня-я воню-ю-чая!.. – точно сделав для себя уже давно напрашивающийся вывод, проворчал на прощание Глеб. – Иди-и на-а х..!.. (Ну, надо же: так спокойно, с расстановкой – как будто пожелал мне счастливого пути) – и бросил трубку.
3– И все-таки ты не прав… – Лена отодвинула от меня стакан и, протянув бутерброд, откинулась на спинку тахты, – ведь ты же его тоже обидел. Мне кажется, ты должен ему позвонить еще раз.
– Нет, ты только послушай:Кровь текла на булыжник.
А крепость алела рассветно…
Царь берег государство.
Он делу служил беззаветно.
Пусть монах невиновен!
Невинная кровь, если надо,
охраняет владыку
надежней любого солдата.
Я отложил «Смену» в сторону и встал.
– Ну что, решился?
Я сделал шаг и остановился. Ноги меня не совсем слушались. Ноги были со мной заодно.
– Понимаешь, не могу. Мне уже и так все ясно.
– Ну, иди, иди. Да не бойся… – Лена все еще пыталась меня подбодрить.
Я сделал шаг и снова остановился.
– Не могу, понимаешь? Ну, просто не могу… – я еще все стоял на пороге.
Лена снова повторила:
– Да не бойся. Иди…
– Ну, ладно. Попробую… – я еще раз посмотрел на Лену и вышел в коридор.
А может, все-таки Лена права? Может, у него и правда запой. Все не пил, не пил, а потом вдруг раз – и запил! Но ведь у него уже была белая горячка. Даже, говорят, не одна. А вдруг он сейчас царапает руками стенку или, скрипя зубами, разрывает на груди рубаху… Что же делать?
Я схватил трубку и все никак не мог попасть в циферблат. Палец у меня дрожал. Наконец номер закончился, и в трубке послышались короткие гудки.
Занято. Ну, слава Богу. Значит, не горячка. Ведь не может он одновременно царапать руками стенку и разговаривать по телефону.
А вдруг я не туда попал? Я снова набрал его номер. И опять было занято.
Я вернулся в комнату.
Лена на меня ласково посмотрела и спросила:
– Ну, как?
Я ответил:
– Занято. – И сел на тахту.
Пока я ходил звонить, Лена уже успела налить нам по новой. Она снова сделала мне бутерброд.
– Ну, давай, за удачу!
Я схватил стакан и запрокинул голову…
Лена прикоснулась ко мне ладонью и погладила:
– Ну, успокойся, успокойся. Сейчас все уладится. Вот увидишь…
А что может уладиться? Ведь если Глеб в запое, значит, у него просто срыв. Но тогда ему все равно каюк, от запоя. А если не в запое, тогда это уже не Глеб. Что же лучше?
Я снова встал и опять вышел в коридор. Трубка была вроде гири. Ну, что я ему буду говорить?
На этот раз гудки оказались длинными, и я услышал голос Глеба. Обычный трезвый голос. Можно вешать трубку. Я это уже почувствовал. Но решил все довести до конца.
Я выдавил:
– Глеб… Это снова я… Я вообще-то не должен тебе звонить… Но понимаешь… Ты меня только выслушай и, пожалуйста, не бросай трубку… (Глеб молчал.) Понимаешь, я сейчас… Помнишь Лену… Она говорит… позвони… Может, ты вчера был просто не в себе…
– Не обращай внимания! – Глеб точно вдруг снизошел и с высоты своего трона бросил мне царственный жест. Решил меня помиловать.
– И еще… – тут меня словно качнуло, и, восстанавливая равновесие, я нащупал подошвой канат, – и еще ты вчера говорил про евреев…
– А ты что, еврей?! (Вот тебе раз!) – И вдруг снова, как и вчера, от него понесло перегаром. Каким-то луком. Вперемешку с квашеной капустой.
– Да как тебе сказать… Понимаешь… Ты… ты для меня… Но я все равно (Глеб молчал, запах лука вперемешку с капустой все усиливался)… все равно я от своих слов не отказываюсь…
– Упря-я-мый бара-а-н!.. – с какой-то настойчивой досадой прохрипел в сердцах Глеб. – Да насра-а-л я на тебя и на твою Лену…
Я послушал гудки и, постояв в одиночестве, снова вернулся в комнату.
– Ну, как, – улыбнулась мне с тахты Лена, – поговорил? (Глупышка, она еще на что-то надеялась.)
– Да. Поговорил. Я оказался прав. Он на нас насрал.Бетховен и рахманинов
Давая оценку творчества Глеба, академик Панченко сравнил Горбовского с Бетховеном, правда, с оговоркой, что если Бетховен со своей «Лунной сонатой» хотя и пессимист, но, по сути, ОГЛОУШИВАЕТ, то Глеб (будучи ночным лесовичком ), по сути – оптимист и наоборот – УТЕШАЕТ, и Ваня Сабило, вскочив, разгневанно возмутился, что Глеб совсем не Бетховен, а скорее Рахманинов, потому что от немца, хоть переводи его на ямало-ненецкий, все равно никакого толку, а Глеб – свой, русский – и его сразу же поймет даже зимующий в яранге коряк-оленевод, и академик с Ваней тут же согласился, после чего поведал, что ему однажды рассказывал сам Глеб.
Попали они как-то с Соловьевым-Седым где-то на Псковщине в церковный приход, и после поста все, как собаки, голодные, а там икра и с малосольными огурчиками севрюга, а потом батюшка и предлагает, ну, а теперь, кто хочет, может расписаться в книге почетных гостей, и все, кроме Глеба с Соловьевым-Седым, сразу же в кусты, в особенности секретари обкома, и Соловьев-Седой написал, что Бог – это хорошо, в особенности если Бог тебе нужен, и Глеб Василия Павловича тут же поддержал и письменно подтвердил, что он с ним по всем параметрам солидарен, и академик Панченко еще раз подчеркнул, что как УТЕШИТЕЛЮ Глебу вообще нет равных.
И взволнованная литературная дама тут же всем рассказала, как в свое время Коля Рубцов так обожал Глеба, что однажды выдал стихотворение Глеба про осину за свое, и все одобрительно захлопали, после чего растроганный Глеб подтвердил, что они с Колей неоднократно выпивали, и Коля хоть и небольшого роста, но был очень сильный, и когда они с Колей боролись, то Коля его постоянно укладывал на лопатки.
Прими за любовь
1
Позвонил Алексеев.
Обычно он звонит сначала Глебу и, обозначив место встречи, делится с ним своей последней новостью.
– Тебя хочет видеть Михайлов.
Потом звонит мне и, продублировав пункт назначения, даже не моргнув глазом, сообщает:
– Тебя хочет видеть Глеб.
Но на этот раз, в нарушение традиции, он сразу же берет быка за рога.
– К тебе идет Глеб. Через десять минут выходи в Пушкинский садик.
И дает мне задание: купить Глебу бутылку и доставить его в целости и сохранности на Кузнецовскую.
(Володя Алексеев – мой сосед: я живу на Пушкинской, а он (Алексеев) живет в коммуналке на Невском. И если у Коли Шадрунова на первом этаже в его рассказе «Приключение с негром в Рамбове» в «скворечнике» за форточкой всегда дежурит стакан, то у Алексеева на пятом этаже, помимо стакана, имеется еще и чайник с рассолом. И в прошлом году Алексеев нас там с Глебом и познакомил. Меня – ровно через двадцать лет после нашей с ним «Русской крепости». А Глеб – как потом выяснилось, – меня вообще не запомнил, такое я на него произвел неизгладимое впечатление. Зато сейчас я все с лихвою наверстал: Глеб что-нибудь вякнет – и я его сразу же цитирую. Например, про его вторую жену, покончившую с собой в «расчужой Америке». Сначала процитировал его стих, начинающийся словами « Папка музыкальная по земле волочится …», и этот стих был в свое время посвящен Анюте. А когда уже после второй бутылки Глеб нам с горечью признался, что «любил только одну Анюту», то я это ему сразу же подтвердил:
Конкретно я любил Любашу,
абстрактно я любил Анюту.
Я иногда любимых спрашивал:
а с кем я спать сегодня буду?
Любаша скидывала кофточку,
ложилась плотно, как в могилу.
Анюта сбрасывала крылышки…
Анюты не существовало.
И Алексеев, испытывая за меня гордость, все повторял: «Вот видишь, какой человек, такого больше нет!» И сначала все над Глебом подтрунивал, что из-за таких, как он, родившихся в 31-м году, России «придет п…ц», и оказалось, что из-за Ельцина с Горбачевым, а потом, уже по привычке, стал Глеба подначивать, что вообще-то «евреи даже еще лучше русских». И Глеб сначала все смеялся, что некоторые «полуэктовы», действительно, не хуже русских и что среди «чистокровных французов» у него имеется немало друзей, но потом вдруг не на шутку засомневался: ну, это уж «х… на ны!» и все-таки подтвердил, что Соснору, и правда, вытащили с того света «Рабиновичи» да и Рида Грачева – тоже, и неожиданно вспомнил, как-то лежит он возле Финляндского в психиатрической клинике – и по коридору ведут Рида, и Рид со словами «полетели, полетели!» все машет в пижаме руками, потом вдруг видит, Глеб, – и «ты, – кричит, – пьяница, тоже здесь!» И потом, уже совсем косые, в два голоса мы драли с Глебом глотки:… учителя читают матом историю страны труда… и Алексеев, как-то смущенно нами любуясь, добродушно улыбался, а Глеб на своей новороссийской подборке, чуть было не прослезившись, мне надписал: « Толя, дорогой, прими – за любовь к тебе . – И подписался: – ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ».)
2
Я спускаюсь по лестнице и выхожу на Пушкинскую. Напротив памятника Александру Сергеевичу, откинувшись на спинку скамейки, полулежит Глеб. Вместо кудлатой шевелюры – всклокоченные патлы, а на обрубленной фаланге пальца – уже не совсем свежий бинт.