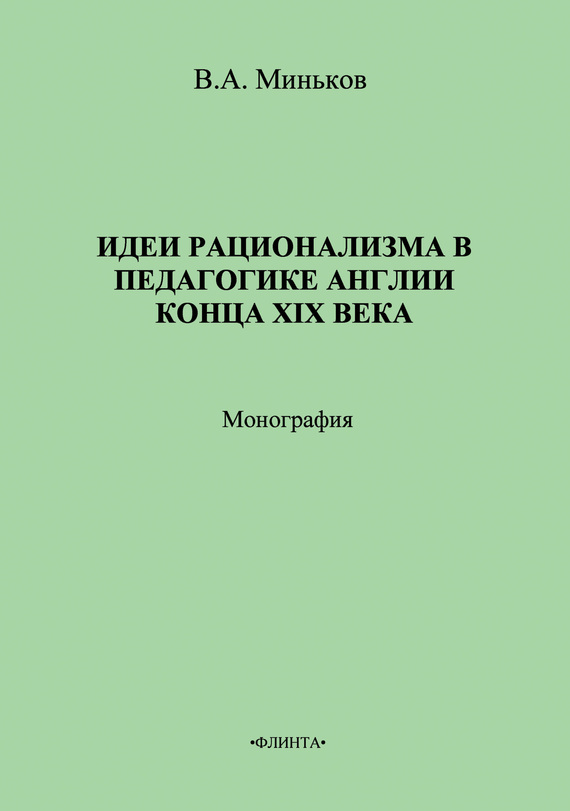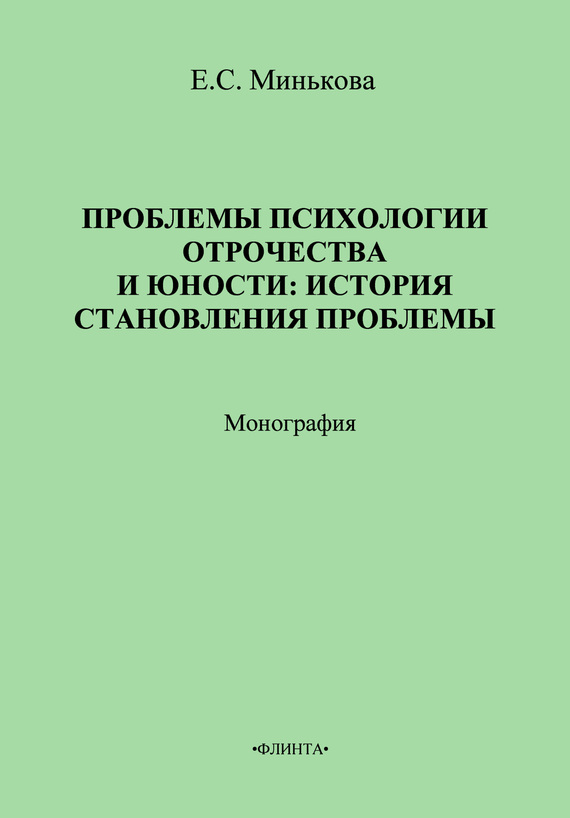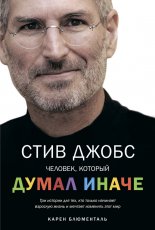У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

– Вы, – улыбается, – знали Варлама Шаламова?!
– Был, – говорю, – у него дома.
Не может поверить.
Совсем пацан – и значит, еще не все потеряно.
– Пожалуйста, – говорит, – надпишите. – И называет имя своей мамы.
…И после слов «от автора» просит еще дописать «который видел Варлама Шаламова».
– Мама сама, – улыбаюсь, – прочтет. И будет и так ясно.
– А теперь, – говорит, – надпишите и мне.
Одна книжка – его. А другую он привезет маме.
В подарок.
Новое о лермонтове
Скользнул по альбому с рисунками Лермонтова и вдруг выдает:
– Да этот пидор вообще был трус.
Искал смерть, искал смерть. А на самом деле отлынивал от армии.
Ему пришлют из военкомата повестку, а он ее разорвет – и на Кавказ. Мильтоны его ищут, а его и след простыл.
Верить или не верить?
Такой же, как и я, оборванец. И на груди – точно такая же, как и у меня, картонка: СВОЮ КНИГУ ПРЕДЛАГАЕТ АВТОР.
Но только стоит возле часовни и держит в руке кружку: НА РЕМОНТ МОНАСТЫРЯ.
Дыхание народа
1
Подходит пьяный и вдруг сообщает:
– А этот пидармон… слыхал… князь…
Оказывается, про Ельцина. На прошлой неделе на службе в Исаакиевском соборе так постановил Собчак.
2
И снова пьяный. И на этот раз, похоже, надолго. Разглядывает мою фотографию.
Потом вдруг спрашивает:
– Зачем?
– Что, – говорю, – зачем?
А он и не знает, что. Зачем и все. Стоит и не отходит.
Как будто отошел. Но вот опять вернулся. И опять за свое.
– Ну, зачем?
Но я в этих делах тоже не лыком шит. Меня голыми руками не возьмешь. Стою и не уступаю врагу ни пяди.
– Ну, чего, – повторяю, – зачем?
Наконец, его все-таки сдвинуло дальше.
– Зачем, – говорит, – ты, русский человек, здесь стоишь?
А сам все смотрит на парапет, где расположились два лица «кавказской национальности». И чуть ли не скрипит на них зубами.
– У-у… ненавижу… Был бы, – говорит, – у меня пулемет…
Да, думаю, товарищ серьезный. И просто так не уйдет.
И вдруг так мечтательно склабится.
– Уже с ноября… не плотят… слышь… дай пятисотку… до завтра… бля буду… – отдам…
3
Ну, все: уже нагнулся за кошельком, и я приготовил фломастер. А он открывает баул и вытаскивает пустые бутылки.
– Вот, – предлагает, – возьмешь?
И тогда он за меня проголосует.
4
По-моему трезвый. И даже, похоже, читает.
«… целомудренно стыдясь распахнуться перед читателем всеми своими болями, автор только легким пунктиром обозначает линии нелегких судеб своих героев…»
Сейчас начнет хвалить.
И вдруг он мне говорит:
– Вот он про тебя написал, а ты, наверно, и сам не знаешь. Ну, вот, скажи мне, только честно, кто он, твой Искандер: еврей или черножопый?
5
А этому моя книга вообще не нужна. Он уже для себя все решил. По моей фотографии.
И сразу видно, что у человека горит душа.
– Я бы, – говорит, – хотел подышать ядом для правительства.
Так и сказал. Слово в слово.
Новые русские
Если нищему запретить воровать – он становится убийцей.
Все ясно
Все смотрит, смотрит и как будто ничего не может понять.
– А это, – спрашивает, – что?
– Как, – улыбаюсь, – что? Вы что, не видите? Книга.
Опять все смотрит и теперь как будто никак не может прочитать.
– А что в ней, – снова спрашивает, – в этой вашей книге?
– В ней, – и опять улыбаюсь, – содержание.
– Все ясно, – говорит, – с вами все ясно.
– И мне, – говорю, – с вами тоже все ясно.
Жидовские тряпки
С двумя внучатами и двумя игрушечными грузовиками гуляющий дедушка. Увидел на моем столе российский флаг и рассердился.
Когда шли туда, то обозвал его фашистским. А когда возвращались обратно, то власовским. И вот появились опять.
– Развесили тут, – ворчит, – свои жидовские тряпки!
(Петропавловская крепость)
Девочка и папа
Я возвращался с Петропавловской крепости и вместе с толпой переходил через канал. Сегодня канал замерз, а еще вчера стояла темно-коричневая вода.
Все шли по мосту, и вдруг один из гуляющих с маленькой девочкой решил перейти по льду. Зачем это ему понадобилось, так и осталось для меня загадкой. Он ничего не выигрывал и даже наоборот: теперь надо было еще по склону спуститься и на другом берегу подняться.
Девочка остановилась, а папа, спустившись на лед, уже шагал и, обернувшись, позвал девочку за собой:
– Ну, что же ты не идешь? Да не бойся!
Но девочка все равно не шла.
Я дошел до середины моста, и вдруг раздался детский крик:
– Помоги-и-те! Помоги-и-те!
Все подбежали к перилам и, перегнувшись, в напряжении замерли. В основном иностранцы.
Папа провалился в прорубь и, сползая все ниже и ниже, был уже по пояс в воде.
А девочка все продолжала кричать: «Помоги-и-те! Помоги-и-те!» И все стояли и завороженно смотрели. Как на пожар.
И тут случилось чудо: отчаянно перебирая локтями, папа неожиданно застыл. Потом подтянулся и, ни за что не цепляясь, стал медленно вылезать…
Девочка все кричала: «Помоги-и-те! Помоги-и-те!» Иностранцы все продолжали смотреть. А все остальные, за исключением меня, пошли дальше…
Наконец, папа вылез и пополз обратно. Идти он уже не мог. Девочка кричать перестала. Но иностранцы все еще продолжали стоять у перил.
На следующий день прорубь так и не замерзла и все продолжала чернеть. А над извилистой колеей, оставленной ползущим по «дороге жизни» папой, кружились белые хлопья.
Пускай живут
– Вот вы, Толик, закончили институт, – поднимает на меня Петя свои ясные голубые глаза, – а как вы думаете, почему у Гитлера было одно яйцо?
– То есть как это так одно, – я Петю не совсем понимаю, – а где же тогда другое?
И оказалось, что другое ему оттяпали жиды. За то, что он их не уважал.
– Приходит евоный срать, а там уже с бритвой яврей.
– Ну, и что дальше? – смеюсь я.
– А дальше… – Петя на меня даже как-то обижается, – а дальше… бытта вы, Толик, маленький…
Я смотрю на Петины скулы и пытаюсь представить, каким Петя выглядит в пиджаке. Обычно я его вижу в телогрейке. Или в майке. На фоне белесых костей выделяются кирпичного цвета шея и ниже локтей в жилистых буграх узловатые руки.
Я достаю из тумбочки кипятильник и, опустив его в кастрюлю с водой, втыкаю вилку в розетку.
– Ну, а ты… ты-то к ним сам как относишься?
– Что вы сказали?
– Я говорю, ты-то сам евреев уважаешь?
Мой вопрос застигает Петю врасплох, и его мысли встречают преграду.
– Да за что же евоных уважать? – в его ясных глазах вспыхивают огоньки удивления, даже возмущения. – Да оны, курвы, работать ны хочут!
Петя думает дальше, и теперь его мысли натыкаются на что-то знакомое, привычное, и вспыхнувшие было огоньки растворяются мягкостью и добротой.
– Оны, курвы, хи-и-трые…
Я говорю:
– Это, значит, Гитлер правильно делал, что их убивал?
Опять преграда.
– Что вы, Толик, сказали?
– Немцы, говорю, правильно делали, что жидов уничтожали?
Петя задумывается снова, и мысли его опять блуждают. Теперь вместо огоньков удивления в его зрачках появляются искорки жалости, справедливости.
– А чаво их унычтожать? Пускай живут.
Потом подумал и добавил:
– Только пускай, курвы, работают.
– А разве они не работают? – допытываюсь я у Пети, и, озадаченный услышанным, Петя снисходительно улыбается.
Работают ли евреи? Он принимает этот мой вопрос за очередную шутку и, убежденный в ее неуместности, опять на меня обижается.
– Бытта вы, Толик, не знаете? Что-то я евоных у нас на пилораме не видал.
– Петьк, а скажи, а поверил бы ты, что я жид? – хитро улыбаюсь я Пете.
Петя задумывается и на этот раз. Теперь в его глазах мелькают и удивление, и недоверчивость, и недоумение, и любопытство… Наконец его мысли проясняются окончательно – как будто ему только что показали фокус, а потом объяснили, и сразу же все стало просто и понятно.
– Не-е, – хитро улыбается мне Петя, – какой же вы, Толик, жид? Разве ж такие жиды бывают? Да разве будут евоные чай с хлебом хлябать?
Я вытаскиваю из кастрюли кипятильник и лезу за хлебом.У стены плача
Склонился над моим столом и очертанием своей черепной коробки напомнил мне «Исаака Левитана». Сейчас поднимет голову и, тоскуя «Над вечным покоем», озвучит цитату из Торы.
А это и правда он.
– Привет, – улыбается, – русским передвижникам… Зимой-то чего не приезжал?
– Привет, – и тоже ему в ответ улыбаюсь, – а чего я там в твоей Америке потерял?
Такой деловитый и, как всегда, точно кого-то в уме вычисляет. В своей маскировочной спецовке.
– Все нас не забываешь, – и в предвкушении надвигающейся дискуссии подбрасываю ему леща. – Без тебя, – говорю, – даже и не с кем потолковать об искусстве…
Оказывается, соскучился по Родине. А если серьезно, то ему необходим совет.
– Хочу, – говорит, – издавать свой журнал.
Журнал – это уже что-то новое.
– А как же, – говорю, – твоя живопись? Наверно, все-таки жалко… бросать…
– Да как тебе, – улыбается, – сказать…
Живопись – это ведь удел одиночек. А ему бы сейчас хотелось приблизиться к народу.
– Вообще-то, – говорю, – наверно, ты прав.
Но можно и совместить.
Нарисовать такую здоровенную метлу. А возле метлы ползают усатые насекомые. И рядом – пограничный столб.
А потом сочинить такой текст:
ГРЯЗНОЙ МЕТЛОЙ ЗА ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ – ЛИЦ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Или такую коляску. А в коляске – маленький мальчик. И у маленького мальчика – такой большой нос. Как будто у слоника. И вместе с коляской рвут подметки слониха и слон. А впереди – такая стрелка-указатель – ОВИР. И снова придумать надпись:
КТО В АМЕРИКУ БЕЖИТ – ДЯДЯ ЖИД И ТЕТЯ ЖИД – С НИМИ БЕЙТАРЕНОК – МАЛЕНЬКИЙ ЖИДЕНОК
Виталик говорит, что 4 октября у Белого дома снайперы-бейтарята расстреливали русских людей из американских пулеметов. И Виталик туда даже ездил на тризну, и ночью сидели у костра. А потом улетел к себе обратно на Брайтон.
– Ну, а какие, – спрашиваю, – у тебя прогнозы сейчас?
– Идем, – улыбается, – к третьей мировой.
Он ведь меня предупреждал. В октябре это были еще цветочки. А сейчас уже пойдут ягодки.
– Поделили, – говорит, – между собой Югославию.
И скоро поделят и Россию. Шеварднадзе получит Украину и Белоруссию. А Дудаев – Казахстан и Урал.
– А как же, – улыбаюсь, – Назарбаев?
– А х. ли, – говорит, – Назарбаев…
Немного подумал и вроде бы про Назарбаева позабыл. Но потом все-таки вспомнил.
– Назарбаев – это, – говорит, – чурка…
А место Руцкого займет Лебедь. И за каждого убитого еврея будут истреблять по десять молдаван.
– А я, – говорю, – где-то читал, что Лебедя уважает Стерлигов. Значит, и Стерлигов – тоже за Ельцина?
И вдруг, как всегда, надулся, вроде бы я его оскорбил.
– Ты, – говорит, – все такой же.
Ну, где я мог вычитать такую глупость, что Стерлигов за Ельцина. Да если я захочу, то Виталик может меня к Стерлигову даже сводить. Прямо в «Славянский собор».
– Напишешь, – говорит, – заявление.
И – в «Красную стрелу».
Просто недавно Виталик написал Стерлигову записку. И Стерлигов ему прямо с трибуны ответил. Что Руцкой был хороший летчик, а как политик он говно.
– А как же, – спрашиваю, – его мама? Помнишь, ты еще тогда мне все объяснил.
Во время нашего диспута. Виталик мне тогда еще поставил на вид.
– А ты, – говорит, – знаешь, – что у Руцкого мать еврейка?
Оказывается, сейчас уточняется.
– А у Невзорова, – говорю, – бабушка.
На Брайтоне один энтузиаст даже обещал мне принести газету с его родословной. Но покамест раскачивался, я уже успел уехать. А так бы я теперь Виталику показал.
А другой подошел и добавил.
– А ты, – спрашивает, – знаешь, кто такой матрос Железняк?
Я даже испугался.
– Что, – говорю, – и матрос Железняк тоже?
И оказалось, что не только матрос Железняк. Но еще и Монтень.
Правда, Монтень – тот оказался похитрожопей. Тоже, понятно, еврей. Но только уже не русский, а французский.
– Ну, а как, – это я уже спрашиваю сейчас, – ну, а как там поживает Баркашов?
– А Баркашов… – и тут он даже не выдержал и сплюнул, – а Баркашов – это, – говорит, – предатель. Вот, послушай. Ну, были, там, в Германии фашисты. Приходишь к Геббельсу, тебя у входа встречают два боевика. Поднимаешься по ступенькам – еще два. Поворачиваешь в коридор – и еще два. А к Баркашову – какие-то гондоны вошли – и тут же всех положили на пол.
Виталику еще в октябре уже было все ясно. Когда в Баркашова стреляли. И всего за пятьдесят тысяч долларов!
– Ну, разве, – возмущается, – это киллеры?! Выстрелили Баркашову в жопу и навылет. А потом подъезжает машина. Думаешь, просто так? Да настоящий киллер разве бы так стрелял?
Настоящий киллер, по мнению Виталика, стрелял бы уж, по крайней мере, не в жопу, а хотя бы в бедро. Да и не за такую сраную сумму.
– Ну, уж хотя бы тысяч за двести, верно?
– А я бы, – говорю, – не согласился даже и за триста.
– Так что, – говорит, – Баркашов у Ельцина свой человек.
Сейчас, правда, песенка Ельцина уже спета. Но он свое дело сделал. И передает эстафету Явлинскому. Зря, что ли, он еще в девяносто первом застрелил Пуго.
Я не совсем Виталика понял.
– Явлинский застрелил Пуго?
– А ты что, не знал? Ты, – говорит, – одно из двух: или дурачок, или недоразвитый.
И опять надулся. Как-то я его снова огорчил.
– Вообще-то я, – говорю, – догадывался. Но все-таки интересно, откуда у Явлинского пистолет?
– При чем здесь, – говорит, – пистолет. Ты лучше, вон, почитай, что пишут газеты… Почитай, почитай.
И кивает на румяную бабульку. А у нее в одной руке «Штурмовик Черномырдин», а в другой – «И снится Явлинскому Пуго». И еще за пазухой «Лимонка». А на ящике из-под пива – развернутый «Русский порядок».
Ну, прямо разбегаются глаза.
И бабулька меня даже перекрестила.
– Храни тебя, – говорит, – сынок, Господь!
Так что пришлось поднапрячься.
И чувствую, что нет. Все равно не осилить.
– Ну, что, – смеется, – никак? Тяжело, – говорит, – в учении. Зато легко в бою.
– Какие-то, – улыбаюсь, – пятьсот кудрей…
И снова давай мне все объяснять.
– Вот, – говорит, – послушай. Явлинский брал Пуго и убил. А Стерлигов брал Крючкова и не убил. А теперь, – говорит, – подумай.
И мы с ним опять стоим и думаем. Совсем как и тогда. Когда он мне показывал на Брайтоне доллар.
– А знаешь, – говорит, – почему у Невзорова передача называлась шестьсот секунд, а не десять минут?
– Ну, давай, – улыбаюсь, – помножим…
Но Виталик меня перебил.
– Эх, ты, – говорит, – а еще, называется, писатель!
И оказалось, шестьсот шестьдесят шесть. Такое дьявольское число. Все равно что тринадцать.
– Вот, – говорит, – смотри. Жириновского выбрали двенадцатого. А утром тринадцатого объявили, что он прошел в депутаты тринадцатым номером.
– Ну, а теперь-то, – спрашивает, – понял?
– Теперь-то, – улыбаюсь, – конечно. Чего ж тут, – говорю, – не понять.