Первая роза Тюдоров, или Белая принцесса Грегори Филиппа
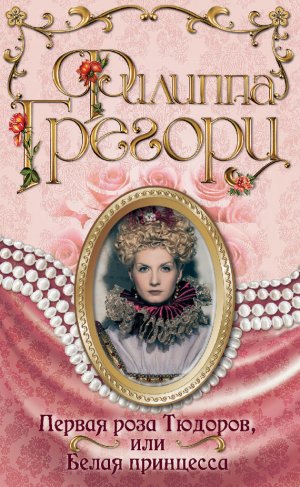
Замок Шериф-Хаттон, Йоркшир
Осень, 1485 год
Как бы я хотела перестать видеть сны! Боже, как бы мне этого хотелось!
Я так устала; единственное, чего мне хочется, это хорошенько выспаться. Я бы, наверное, проспала целый день, с рассвета до наступления сумерек, которые с каждым днем все раньше окутывают землю, сменяясь ночным мраком. Весь день я только и думаю, как бы мне уснуть покрепче. Но приходит ночь, и я изо всех сил гоню от себя сон и стараюсь бодрствовать до утра.
Я иду в его тихие покои, окна которых закрыты ставнями, и смотрю на медленно догорающую свечу, которая постепенно начинает оплывать и гаснет в точно означенное время, хотя он-то никогда больше света не увидит. Каждый день в полдень слуги поджигают с помощью тонкой свечки очередную большую свечу; и на ней время медленно, час за часом, догорает дотла; впрочем, время теперь для него ничего не значит. Чувство времени совершенно утрачено им, погруженным в вечную тьму, в вечное безвременье, а вот на меня время давит так тяжко. Весь день я жду, когда медленно накатит серый вечер и колокол похоронным звоном известит, что пора идти к повечерию, и я пойду в часовню и помолюсь за спасение его души, хотя он никогда уж больше не услышит ни моего шепота, ни тихого монотонного голоса священника.
А потом мне можно лечь в постель. И я ложусь, но уснуть не решаюсь — слишком мучительны, невыносимы те сны, что тут же приходят ко мне. Мне снова снится он. Снова и снова он является мне во сне.
Весь день я стараюсь улыбаться; от этой улыбки лицо у меня застыло, как маска, — я улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь, показывая зубки, сияя глазами, и при этом чувствую, что кожа на лице натянута и вот-вот порвется, как истончившийся старый пергамент. Я стараюсь говорить звонким приятным голоском, я произношу какие-то ничего не значащие слова, а порой, когда требуется, даже пою. Но по ночам, упав головой на подушку, я словно тону в глубоких водах, словно проваливаюсь в бездонную пропасть, и подхватившие меня воды обретают полную власть надо мною, они увлекают меня за собой, я плыву по ним, точно русалка. И на мгновение меня охватывает глубочайшее облегчение: мне кажется, что мое горе способно раствориться в этих водах, и они унесут его прочь, как уносит любое горе река Лета, течение которой способно дать забвение, способно увлечь в пещеру снов. Увы, вот тут-то и возникают эти кошмарные видения.
Мне снится не его смерть; это был бы худший из кошмаров — видеть, как он сражается и погибает. Нет, мне никогда не снится та последняя битва;[1] я не вижу, как он в последний раз ринулся в атаку, целясь в самое сердце гвардии Генриха Тюдора. Не вижу, как он мечом прорубал себе путь среди врагов. Не вижу, как в сражение вступила кавалерия Томаса Стэнли, как Ричарда вышибли из седла, как он исчез под копытами вражеских коней, как ему отказала правая рука, как он, упав на землю под безжалостным натиском кавалерии, кричал: «Предательство! Предательство! Предательство!» И я не вижу, как Уильям Стэнли поднял с земли его корону и надел ее на голову другого человека.
Ничто из этого мне не снится, и я благодарю Господа хотя бы за эту милость. Я и без того в течение дня думаю только об этом, и от этих мыслей мне никуда не уйти. Страшные кровавые воспоминания преследуют меня весь день, заполняя мой ум и мою душу, однако же поступь моя по-прежнему легка, я веселым голосом веду беседы о том, какая неестественная для этого времени года стоит жара, и земля пересохла, и хорошего урожая в этом году не видать. А вот ночью мне становится совсем плохо, ибо мои ночные мысли и видения куда более яркие и болезненные; порой мне снится, что Ричард жив, что он обнимает меня, будит меня поцелуем, и мы гуляем в саду, и говорим о нашем будущем… Мне снится, что я беременна от него, и на моем округлившемся животе лежит его теплая рука, и он улыбается, счастливый, а я обещаю ему, что у нас непременно родится сын, наследник Йорков, который так ему нужен, который так необходим и всей Англии, и нам обоим. «Мы назовем его Артуром, — говорит он. — Мы назовем его Артуром во имя Артура из Камелота,[2] во имя Англии».
И боль, которую я испытываю, проснувшись и поняв, что все это мне снова лишь приснилось, становится день ото дня все мучительней. И я молю Господа, чтобы Он избавил меня от этих снов, дал мне силы перестать мечтать о несбыточном.
Моя дорогая и любимая доченька Элизабет!
Всей душою своей я с тобой, я молюсь за тебя, дорогое мое дитя, но именно теперь, впервые в твоей жизни, тебе придется сыграть ту важнейшую роль, ради которой ты и появилась на свет: роль королевы.
Наш новый король, Генрих Тюдор, повелевает тебе прибыть ко мне в Лондон, в Вестминстерский дворец, и привезти с собой твоих сестер и твоих кузенов.[3] Учти: он так и не отказался от помолвки с тобой! И я жду, что у этой помолвки будет продолжение.
Я понимаю, дорогая, что отнюдь не на это ты возлагала главные свои надежды, но Ричард, увы, мертв, и этот этап твоей жизни закончен. Генрих стал победителем, и теперь наша главная задача — сделать тебя его женой и королевой Англии.
И еще в одном тебе придется меня послушаться: ты должна непременно улыбаться и выглядеть веселой, как это и подобает невесте, приехавшей к своему жениху. Принцессе не пристало делиться своими переживаниями со всем светом. А ты рождена принцессой. И к тому же ты — наследница целой череды отважных и смелых женщин. Так что выше нос, моя дорогая, и улыбайся! Я очень жду тебя. И, конечно же, я тоже буду улыбаться.
Твоя любящая мать, Елизавета R.,[4] вдовствующая королева Англии.
Письмо это я прочла очень внимательно, ибо моя мать никогда ничего не говорит прямо, и буквально каждое ее слово отягощено несколькими слоями смысловых различий. Я легко могла себе представить, как страстно ей хочется, воспользовавшись очередной и столь удачной возможностью, добраться до английского трона. Это была поистине неукротимая женщина; мне доводилось видеть, как ее заставляли пасть очень низко, но никогда — даже в годы вдовства, когда страшное горе почти сводило ее с ума, — я не видела ее униженной и смиренной.
Я сразу же поняла, почему она требует, чтобы я непременно выглядела счастливой и постаралась забыть, что мой возлюбленный погиб и погребен невесть где,[5] а я теперь должна ковать будущее благополучие своей семьи и против воли вступить в брак с врагом, с тем, кто погубил моего любимого. Генрих Тюдор явился в Англию, всю жизнь проведя в ожидании и стремясь к этой цели, и выиграл решающее сражение при Босуорте, победил законного правителя Англии и моего любовника Ричарда, и теперь и я, и вся Англия стали как бы частью его военных трофеев. Если бы при Босуорте победил Ричард — а ведь никому и в голову прийти не могло, что победителем окажется не он! — я бы стала его любящей женой и королевой Англии. Но он пал под ударами предательских мечей; и предали его те, кто, собравшись под его знамена, присягали ему на верность, клялись биться за него до последнего; а мне теперь предстояло выйти замуж за Генриха и забыть те чудесные шестнадцать месяцев, в течение которых я была любовницей Ричарда и фактически королевой. Ричард был зеницей моего ока, я всем сердцем любила его, но он погиб, и мне действительно лучше постараться забыть о том, что в моей жизни были эти полтора года счастья.
Я читала письмо от матери, стоя в арке ворот огромного замка Шериф-Хаттон; дочитав, я повернулась и пошла внутрь; в большом зале было тепло и чуть пахло древесным дымом — там был затоплен центральный камин. Я скатала материно письмо в шарик и бросила в камин, прямо на пылающие поленья, проследив, чтобы оно сгорело дотла. Итак, все упоминания о моей любви к Ричарду и о его обещаниях, данных мне, должны быть уничтожены, как и это письмо. Мне следует тщательно хранить эту и другие тайны, особенно одну. Я с детства была весьма открытой и разговорчивой — ведь я, принцесса, выросла при дворе своего отца, где всегда царила свобода, куда стекались ученые, художники и артисты, где можно было думать о чем угодно, что угодно говорить и писать; но, разумеется, впоследствии, особенно после смерти отца, мне пришлось обрести все умения настоящих шпионов, и в первую очередь — умение хранить тайну.
Глаза мои невольно наполнились слезами, да и камин сильно дымил, но я понимала, что не имеет смысла плакать, а потому вытерла слезы и пошла искать детей. Просторное помещение в верхнем этаже западной башни служило им одновременно и классной, и игровой комнатой. Этим утром моя шестнадцатилетняя сестра Сесили занималась с младшими пением, и я, поднимаясь по каменной лестнице, слышала их голоса и звуки маленького барабана, на котором отбивали ритм. Когда я распахнула дверь, они на мгновение умолкли, а потом стали требовать, чтобы я непременно послушала то рондо, которое они только что сочинили. Анна, которой было десять, с раннего детства занималась пением с самыми лучшими учителями, а наша двенадцатилетняя кузина Маргарет, обладая чудесным слухом, легко подхватывала любую мелодию; у ее десятилетнего брата Эдварда был чистейший дискант, нежный, как флейта. Я с удовольствием послушала, как они поют, и даже похлопала в ладоши.
— А теперь я должна сообщить вам некие новости, — сказала я.
Мой кузен Эдвард Уорик, унаследовавший свой титул от деда, графа Уорика, «делателя королей», поднял над грифельной доской свою тяжелую голову[6] и с безнадежным видом спросил:
— Это не меня касается? Не Тедди?
— Нет, как раз и тебя, и твоей сестры Маргарет, и Сесили, и Анны. Эти новости касаются всех вас. Как вам известно, Генрих Тюдор выиграл сражение при Босуорте и теперь станет новым королем Англии.
Таковы королевские дети: все они сразу помрачнели, но были слишком хорошо воспитаны, так что не проронили ни словечка сожалений по поводу гибели их дяди Ричарда. Они лишь молча и терпеливо ждали, что я скажу дальше.
— Наш новый король Генрих обещал быть добрым правителем для своих верных подданных, — сказала я, презирая себя за то, что, как попугай, повторяю те слова, которые произнес сэр Роберт Уиллоубай, передавая мне материно письмо. — Он зовет всех нас, детей Дома Йорков, приехать к нему в Лондон.
— Ведь это же он станет королем, не так ли? — спокойно заметила Сесили.
— Конечно, он! Кто же еще? — Услышав ее вопрос, я, правда, слегка запнулась, но потом решила не морочить себе голову и попросту отложить пока более подробный ответ на него. — Разумеется, именно он и станет королем. В конце концов, ведь это же он завоевал английскую корону! А нам он собирается вернуть наше славное имя и признать нас принцессами Йоркскими.
Сесили обиженно надулась. За несколько месяцев до того, как король Ричард сел на коня и отправился на поле битвы близ Босуорта, он приказал ей выйти замуж за Ральфа Скроупа, человека совершенно не знатного, почти ничтожество. Он сделал это из опасений, что Генрих Тюдор вполне может выбрать Сесили в качестве своей второй невесты, если ему вдруг придет в голову от меня отказаться. Сесили — принцесса Йоркская, как и я, а потому брак с любой из нас давал определенные права на трон. Я лишилась расположения света, когда сплетники стали утверждать, что я любовница Ричарда, но затем свет до некоторой степени отвернулся и от Сесили, когда Ричард сознательно ее унизил, приговорив к браку с человеком, заведомо находившимся на куда более низкой ступени. Теперь моя сестра заявила, что по-настоящему Ральф Скроуп мужем ей так и не стал, а потому она и не воспринимает этот брак как состоявшийся, и наша мать непременно постарается этот брак аннулировать. Однако пока что все считали ее леди Скроуп, женой одного из потерпевших поражение йоркистов, и даже если мы получим обратно свои королевские титулы и снова станем принцессами, ей придется вспомнить и это новое имя, и то унижение, которое принес ей брак со Скроупом, хотя теперь никто и понятия не имел, где ее бывший супруг находится.
— А знаешь, Элизабет, это ведь мне следовало бы теперь стать королем, — сказал вдруг десятилетний Эдвард, дернув меня за рукав. — Ведь дядя Ричард назвал своим наследником именно меня, не так ли?
Я повернулась к нему.
— Нет, Тедди, — ласково пояснила я. — Королем ты стать никак не можешь. Это верно, ты сын Дома Йорков и дядя Ричард действительно однажды назвал тебя своим наследником; но теперь, когда он погиб, следующим королем станет Генрих Тюдор. — Я заметила, как дрогнул мой голос, когда я сказала «он погиб», и, переведя дыхание, начала снова: — Дядя Ричард умер, Эдвард. И ты это прекрасно знаешь, не так ли? Ты понимаешь, что нашего короля Ричарда больше нет? И теперь тебе никогда уже не быть его наследником?
Он посмотрел на меня так беспомощно, что мне показалось, будто он совсем ничего не понял; потом его большие ореховые глаза наполнились слезами, он отвернулся и, склонившись над грифельной доской, стал вновь старательно выписывать буквы греческого алфавита. Я некоторое время смотрела на его русую голову, думая о том, что это его немое, точно у животного, проявление горя в точности схоже с моим. Вот только мне приказано все время быть веселой, разговорчивой и каждому улыбаться, что я и делаю.
— Он никак не может это уразуметь, — еле слышно сказала Сесили, стараясь, чтобы ее не услышала Мэгги, сестра Эдварда. — Мы ему все это уже сто раз говорили, сто раз объясняли. Но он слишком упрям и ничему не желает верить.
Я быстро глянула на Мэгги, которая спокойно сидела рядом с братом, помогая ему правильно писать буквы, и подумала: а ведь и я, должно быть, столь же глупа и упряма, как Эдвард, поскольку тоже никак не могу поверить в реальность случившегося. Казалось, только что Ричард повел в наступление свое непобедимое войско, и уже в следующее мгновение нам принесли весть о том, что он потерпел поражение. А трое из самых близких его друзей, те, кому он больше всего доверял, его предали; они выжидали, сидя в седле, когда он бросился в безнадежную атаку, полетел навстречу собственной смерти; они спокойно наблюдали за этой смертельной схваткой, словно это обыкновенный турнир, на небе светит солнце, они — просто зрители, а он — рыцарь, надеющийся на победу; словно это всего лишь игра, которая может закончиться так и этак, а главный приз, несомненно, стоит подобных усилий.
Я покачала головой. Если я буду думать о том, как Ричард скакал один навстречу своим врагам, спрятав мою перчатку за нагрудной пластиной доспехов, ближе к сердцу, я непременно опять расплачусь, а моя мать велела мне улыбаться.
— Итак, мы едем в Лондон! — весело сказала я, словно была этому очень рада. — В королевский дворец! Мы снова будем жить все вместе в Вестминстере — вместе с нашей матушкой и нашими маленькими сестренками Кэтрин и Бриджет.
Дети герцога Кларенса, теперь оставшиеся сиротами, при этих словах снова посмотрели на меня; в глазах у них плескалась тревога.
— Но где будем жить мы с Тедди? — спросила Мэгги.
— Скорее всего, тоже вместе с нами, — бодро заявила я. — Я, во всяком случае, очень на это надеюсь.
— Ура! — обрадовалась Анна, а Мэгги принялась тихонько втолковывать Эдварду, что мы поедем в Лондон и он сможет проделать весь путь верхом на своем пони, как настоящий маленький рыцарь. Сесили, взяв меня за локоть, оттащила в сторонку и, не отпуская моей руки, принялась выспрашивать:
— А как же ты? Новый король все-таки собирается на тебе жениться? Неужели он сквозь пальцы посмотрит на то, что ты тут вытворяла с Ричардом? Неужели он готов забыть всю эту историю?
— Не знаю! — сердито сказала я и отняла у нее руку. — И потом, насколько известно, никто ничего с королем Ричардом «не вытворял». И уж ты-то, моя дорогая сестрица, в первую очередь не должна была бы заметить ничего предосудительного и уж тем более о чем-то таком болтать! Что же касается Генриха, то я не знаю, собирается он на мне жениться или нет, но именно это нам всем в первую очередь и нужно выяснить. Ответить на этот вопрос может только один человек: он сам. Или, возможно, двое: он и эта отвратительная старая карга, его мать, которая уверена, что может решить за него все на свете.
На Большой Северной Дороге[7]
Осень, 1485 год
Когда стоит мягкая приятная погода, столь часто свойственная сентябрю, путешествие на юг всегда доставляет особое удовольствие, так что я сказала нашему эскорту, что нам нет нужды никуда торопиться. Дни стояли солнечные, было почти жарко, так что мы делали совсем небольшие переходы, тем более что младшие дети ехали верхом на пони и просто не могли более трех часов подряд проводить в седле. Я тоже отправилась в путь верхом, причем в мужском седле; этого гнедого гунтера подарил мне Ричард, надеясь, что я всегда смогу ехать с ним рядом, и сейчас я была рада находиться в пути, в движении, рада, что мы наконец уехали из замка Шериф-Хаттон, принадлежавшего Ричарду, который мы с ним вместе когда-то мечтали превратить во дворец, способный соперничать с Гринвичем. Я была рада, что рассталась с чудесными садами, где мы с Ричардом когда-то гуляли; и с тем просторным залом, где мы с ним танцевали под аккомпанемент самых лучших музыкантов; и с той часовней, где он, взяв меня за руку, клятвенно пообещал, что мы поженимся, как только он вернется с поля брани. С каждым днем я все больше удалялась от этих памятных мест, но, увы, надежды на то, что я сумею расстаться и с воспоминаниями об этих местах, у меня не было. Я думала, что дорожная усталость одержит победу над моими мучительными сновидениями, однако они и наяву преследовали меня, и порой мне казалось, что я почти слышу, как они, точно призраки, легким галопом неустанно следуют за мной.
Мой кузен Эдвард был в восторге от этой поездки; он наслаждался свободой, которую дарила ему Большая Северная Дорога, с удовольствием общался с людьми, которые то и дело попадались нам на пути; ведь многим хотелось посмотреть, что осталось от королевского семейства Йорков. Каждый раз, как наш маленький отряд останавливался, чтобы передохнуть, сразу же, откуда ни возьмись, возникала толпа людей, которые благословляли нас, снимая шапки и кланяясь Эдварду, единственному оставшемуся в живых наследнику Дома Йорков, хотя Дом этот ныне и потерпел сокрушительное поражение. Многие уже слышали, что вскоре английский трон займет новый король — никому не известный уроженец Уэльса, чужак, незваным прибывший то ли из Бретани, то ли из Франции, то ли еще откуда-то из-за narrow seas.[8] Маленькому Тедди страшно нравилось делать вид, что он и есть будущий законный король, который направляется в Лондон для коронации. Он кланялся и махал рукой, снимал с головы шапочку и улыбался, когда люди, толкаясь, устремлялись из своих домов и лавок на центральную улицу какого-нибудь очередного маленького селения, через которое мы проезжали. Хоть я каждый день и твердила Эдварду, что мы едем на коронацию нового короля Генриха, он тут же забывал об этом, стоило кому-нибудь крикнуть: «За Уорика!»
Мэгги, его сестра, пришла ко мне вечером накануне нашего въезда в Лондон и спросила:
— Принцесса Елизавета, могу я поговорить с вами?
Я улыбнулась ей. Бедная маленькая Мэгги! Ее мать умерла в родах,[9] и девочке пришлось стать для новорожденного Тедди и матерью, и отцом, и хозяйкой в доме, хотя она сама еще не перестала носить короткие платьица. Ее отца, герцога Джорджа Кларенса, казнили в Тауэре по приказу моего отца и с одобрения моей матери, но Мэгги никогда не проявляла никаких признаков затаенной ненависти к нам. Хотя всегда носила на шее медальон с прядью волос своей матери, а на запястье браслет с серебряным амулетом в виде бочонка — в память об отце.[10] Всегда очень опасно находиться в непосредственной близости от трона; и Мэгги даже в свои двенадцать лет прекрасно это понимала. Дом Йорков вечно пожирал собственных детенышей, точно чересчур нервная кошка.
— В чем дело, Мэгги?
Ее лоб прорезали морщины — свидетельство тревоги.
— Мне страшно за Тедди.
Я молча ждала, зная, как она предана брату.
— Я не уверена, будет ли он в безопасности, — прибавила она.
— Почему? Что тебя так тревожит?
— Ведь Тедди — единственный мальчик в роду Йорков, точнее, единственный их наследник, — сказала Мэгги. — Разумеется, есть и другие Йорки, например, дети нашей тети Элизабет, герцогини Саффолк;[11] но Тедди — единственный оставшийся в живых наследник Йорков по мужской линии, ведь и ваш отец, король Эдуард, и мой отец, герцог Кларенс, и наш дядя, король Ричард, — все они теперь мертвы.
Я почувствовала, как при этих словах в душе моей затаенной болью отозвалась некая знакомая нота, словно я стала лютней, струны которой были натянуты болезненно туго.
— Да, — эхом повторила я, — да, все они теперь мертвы.
— И у троих сыновей Йорка не осталось в живых ни одного сына, кроме Эдварда. Он — единственный мальчик среди наследников нашего Дома.
Она неуверенно глянула на меня. Никто так и не знал толком, что именно случилось с моими братьями Эдуардом и Ричардом, которых в последний раз видели играющими на зеленой лужайке перед лондонским Тауэром или машущими рукой из окошка в Садовой башне. Наверняка никто ничего сказать не мог, но все считали, что мальчики убиты. А то, что было известно мне, я хранила в строжайшей тайне, хотя знала я, к сожалению, не так уж много.
— Прости меня, — неловко извинилась Мэгги, — я не хотела тебя огорчить…
— Ничего страшного, — бодро сказала я, хотя любой разговор о моих бесследно исчезнувших братьях причинял мне острую боль. — Неужели ты боишься, что Генрих Тюдор и твоего брата упрячет в Тауэр, как это сделал с моими братьями король Ричард? Неужели тебе кажется, что и наш Эдвард может никогда не выйти оттуда?
Мэгги нервно комкала подол своего платья и молчала.
— Я не уверена, что его вообще следовало везти в Лондон! — вдруг вырвалось у нее. — Возможно, мне следовало нанять корабль и уплыть на нем с Тедди к нашей тете Маргарет во Фландрию? Но я даже не знаю, как это делается. Да и денег, чтобы нанять судно, у меня нет. И я не представляю, кого я могла бы попросить мне помочь. Как ты думаешь, Элизабет, может быть, нам действительно следовало поступить именно так? Ведь если бы я увезла Тедди отсюда, тетя Маргарет наверняка стала бы о нем заботиться хотя бы во имя любви к Дому Йорков. Скажи, как нам лучше поступить? И не могла бы ты узнать, как можно нанять судно?
— Думаю, король Генрих не причинит Тедди вреда, — сказала я. — Во всяком случае, прямо сейчас он явно ничего против Тедди предпринимать не станет. Возможно, позже, когда почувствует, что уже утвердился в роли короля и трон под ним не шатается, а люди перестали следить за каждым его шагом и предсказывать, как он поступит дальше. В ближайшие несколько месяцев Генрих повсюду будет искать себе друзей. Сражение он выиграл, и теперь ему нужно завоевать королевство. Ведь недостаточно убить предыдущего правителя, нужно еще заручиться поддержкой народа и быть коронованным. Так что сейчас Генрих вряд ли рискнет оскорблять Дом Йорков и его приверженцев. Ему, бедняге, придется, возможно, даже жениться на мне, чтобы всем потрафить!
Мэгги улыбнулась и воскликнула:
— Ах, ты была бы такой очаровательной королевой, Элизабет! Ты такая красивая — настоящая королева! И я тогда была бы уверена, что Эдварду ничего не грозит. Ведь ты взяла бы его под свою опеку, верно? Ты стала бы о нем заботиться? Уж тебе-то отлично известно, что мой брат ни для кого не представляет опасности. И мы оба, разумеется, принесли бы присягу верности семейству Тюдоров. И всегда были бы верны тебе.
— Если я действительно когда-нибудь стану королевой, то непременно обеспечу безопасность Тедди, — пообещала ей я, думая о том, сколько жизней зависит от того, сумею ли я заставить Генриха уважать меня, свою будущую супругу. — А пока вы оба, по-моему, можете спокойно ехать вместе с нами в Лондон; уж в доме-то моей матери никому из нас никакая опасность не страшна. К тому же она подскажет, как нам быть дальше. У нее наверняка уже имеется свой план действий.
Мэгги колебалась. Ее мать и моя всегда относились друг к другу с некоторой враждебностью; а после смерти матери Мэгги девочку воспитывала Анна, жена короля Ричарда, которая ненавидела мою мать как смертельного врага.
— А твоя мать действительно станет о нас заботиться? — тихо спросила Мэгги. — Она действительно будет добра к Тедди? Нам всегда твердили, что она — враг нашей семьи.
— Ну, ни с тобой, ни с Эдвардом моя мать совершенно точно не ссорилась, — ободряющим тоном сказала я. — Вы ее племянница и племянник. И все мы из Дома Йорков. Конечно же, моя мать станет оберегать и защищать вас так же, как и нас, своих родных детей.
Мне удалось обнадежить Мэгги; я чувствовала, что она мне поверила, и я не стала напоминать ей, что моя мать больше жизни любила своих сыновей, Эдуарда и Ричарда, но сберечь их так и не сумела. И сегодня никто из нас не знал, куда исчезли мои младшие братья.
Вестминстерский дворец, Лондон
Осень, 1485 год
Наш приезд в Лондон не был отмечен радостной процессией; а если кто из ремесленников или рыночных торговок и замечал нас, детей короля Эдуарда Йорка, на узких улочках столицы и приветствовал радостными криками, стража тут же смыкалась вокруг нас, стараясь никого к нам не подпустить, пока мы не оказались во дворе Вестминстера и за нами не затворили тяжелые деревянные ворота. Было совершенно очевидно: новый король Генрих не потерпит никаких соперников, тем более тех, что пользуются особой любовью жителей огромного Лондона, который он называл своим. Моя мать уже ждала нас, стоя на ступенях крыльца; у нее за спиной виднелись огромные распахнутые двери; рядом с ней стояли мои маленькие сестренки, шестилетняя Кэтрин и четырехлетняя Бриджет, которых мать крепко держала за руки. Я поспешно и не слишком ловко соскочила с лошади и тут же оказалась в материнских объятиях; я с наслаждением вдыхала знакомый аромат розовой воды, исходивший от ее чудесных волос, а она ласково похлопывала меня по спине, как маленькую, и я вдруг, неожиданно для самой себя, разрыдалась, горько оплакивая гибель своего возлюбленного и крушение надежд на то будущее, которое собиралась строить с ним вместе.
— Тихо, тихо, успокойся, — мягко, но решительно потребовала моя мать. Затем она велела мне пройти внутрь и подождать ее, а сама стала здороваться с моими сестрами, с Мэгги и с Эдвардом. Вскоре они тоже шумной гурьбой ввалились в вестибюль; Бриджет пристроилась у матери на бедре, Кэтрин вцепилась в ее руку, а Сесили и Анна приплясывали вокруг. Мать смеялась и выглядела в эти минуты удивительно молодой и счастливой; во всяком случае, никак не на свои сорок восемь лет. Она была в изящном темно-синем платье с голубым кожаным поясом, красиво подчеркивавшим ее тонкую талию, а светлые волосы подобрала под синюю бархатную шапочку. Сопровождаемая возбужденными криками детей, она отвела нас в свои личные покои, уселась, усадила Бриджет к себе на колени и потребовала:
— Ну, теперь рассказывайте мне все! Неужели ты, Анна, действительно весь путь проделала верхом? Значит, ты делаешь большие успехи в верховой езде? Это прекрасно! А как ты, Эдвард, мой дорогой мальчик? Ты не устал? У тебя был хороший пони?
И тут все заговорили разом; Бриджет и Кэтрин, подпрыгивая, тоже пытались вставить словечко. Помалкивали только мы с Сесили, выжидая, когда несколько затихнет этот шум. Наконец мать, благодарно улыбнувшись нам обеим, предложила младшим детям засахаренные сливы и легкий эль, и они, удобно устроившись перед камином, принялись наслаждаться угощением, а она, поворачиваясь к нам, спросила:
— Ну, а вы-то как, мои старшенькие? Ты, Сесили, по-моему, еще подросла. Ей-богу, ты будешь такой же высокой, как я! А ты, Элизабет, дорогая моя, что-то чересчур бледная и худая. Хорошо ли ты спишь? Ты ведь сейчас не постишься, нет?
— Элизабет говорит, что совсем не уверена, захочет ли теперь Генрих на ней жениться! — моментально выпалила Сесили. — Но если он на ней не женится, что тогда будет со всеми нами? Что будет со мной?
— Конечно же, он на ней женится, — спокойно сказала моя мать. — То есть почти наверняка. Его мать уже говорила со мной. Они оба прекрасно понимают, что у нас слишком много друзей в парламенте и во всей стране, и вряд ли ему стоит оскорблять Дом Йорков расторжением помолвки. Да нет, он просто вынужден будет жениться на Элизабет. Обещание было дано почти год назад, и сейчас он в выборе отнюдь не свободен. Собственно, заключение этого брака с самого начала входило в его планы; это было частью его соглашения с теми, кто его поддерживал во время вторжения в Англию.
— Но разве он не сердит на Элизабет из-за короля Ричарда? — гнула свое упрямая Сесили. — Из-за тех отношений, что между ними существовали? Из-за того, как она себя вела?
Мать повернула к ней свое безмятежно-спокойное лицо и внимательно посмотрела в глаза моей сестре, буквально исходившей недоброжелательностью.
— Мне ничего не известно ни о каких особых отношениях между Элизабет и покойным узурпатором Ричардом, — сказала она, и я заранее знала, что именно так она и скажет. — Да и тебе об этом известно не больше, не так ли? А уж король Генрих и вовсе знать о таких вещах не обязан.
Сесили уже открыла рот, явно собираясь спорить, но сразу же снова его закрыла: одного холодного взгляда матери было достаточно, чтобы она умолкла.
— Королю Генриху пока что вообще крайне мало известно о том королевстве, которым он теперь владеет, — как ни в чем не бывало продолжала моя мать, — ведь он почти всю жизнь провел за морем. Но мы, конечно же, постараемся ему помочь и расскажем все, что ему знать необходимо.
— Но Элизабет и Ричард…
— А это как раз одна из тех вещей, которые ему знать совершенно не нужно.
— Ах так! Ну ладно! — сердито заявила Сесили. — Только это касается всех нас, а не одной Элизабет. Хоть она и ведет себя так, словно все остальные попросту не считаются. И наши кузены Уорики вечно спрашивают, не будет ли им грозить опасность — особенно Мэгги, которая страшно боится за своего драгоценного Эдварда. И кстати, как все-таки будет со мной? Кем мне считать себя? Замужней дамой или девицей на выданье?
Мать нахмурилась, услышав этот поток требований. Сесили так быстро вышла замуж — как раз перед тем роковым сражением, — что ее жених, не успев с ней даже в постель лечь, сразу отправился воевать. И вот теперь он где-то пропал, а Ричард, который, собственно, и устроил этот брак, мертв, так что все планы Сесили пошли прахом. Теперь и впрямь никто толком не знал, кем ее считать: то ли снова девушкой, то ли вдовой, то ли брошенной женой.
— Леди Маргарет возьмет Мэгги и Эдварда под свою опеку, — сказала моя мать. — И относительно тебя, Сесили, у нее также имеются кое-какие планы. Она в высшей степени доброжелательно отзывалась и о тебе, и о твоих сестрах.
— А что, теперь у нас королевским двором командует леди Маргарет? — тихо спросила я.
— Какие у нее насчет меня планы? — перебила меня Сесили, тут же потребовав разъяснений.
— Я расскажу тебе об этом позже, когда сама все окончательно выясню, — ответила ей мать и повернулась ко мне. — Во всяком случае, отныне леди Маргарет полагается прислуживать, преклонив колено, а ее следует называть «ваша милость», и кланяться ей нужно столь же почтительно, как самому королю.
Я презрительно поморщилась.
— Что ж, мы с ней расстались отнюдь не лучшими друзьями.
— Ничего, когда ты выйдешь замуж и станешь королевой, ей самой придется склоняться перед тобой в реверансе, — просто ответила мать. — И совершенно неважно, как она сейчас требует ее называть. И не имеет никакого значения, нравишься ты ей или нет. Ты в любом случае выходишь замуж за ее сына. — С этими словами мать повернулась к младшим детям и предложила: — Ну, идемте, я покажу вам ваши комнаты, хорошо?
— Разве мы будем жить не в наших обычных покоях? — не подумав, спросила я.
Мать улыбнулась, хотя эта улыбка и вышла несколько натянутой.
— Разумеется, нет. Мы больше не имеем права на королевские покои. Там теперь расположилась леди Маргарет Стэнли. И родня ее мужа, все эти многочисленные Стэнли, также разместилась в самых лучших покоях. Нам тоже выделены неплохие комнаты, но, так сказать, второго разряда. Тебя, например, поместили в прежнюю спальню леди Маргарет. Похоже, мы с ней теперь попросту поменялись местами.
— Леди Маргарет Стэнли заняла покои королевы? — переспросила я. — А ей не пришло в голову, что их в скором времени должна занять я?
— Пока что ты их занять все равно не можешь, — сказала мать. — Во всяком случае, до тех пор, пока не станешь женой Генриха и не будешь коронована. В настоящее время именно она является первой дамой королевского двора и очень заботится, чтобы всем это было ясно. Очевидно, она сама и приказала всем называть ее «миледи королева-мать».
— «Миледи королева-мать»? — повторила я. — Что за дурацкий титул?
— Да уж, — с усмешкой подтвердила моя мать. — Неплохо для моей бывшей фрейлины, которая к тому же весь прошлый год была отлучена от мужа и провела под домашним арестом по обвинению в предательстве! Нет, и впрямь неплохо, ты не находишь?
Итак, мы перебрались в «неплохие комнаты второго разряда» и стали ждать распоряжений короля Генриха относительно нашего пребывания в Вестминстере. Но он нас к себе не приглашал. Он держал свой двор в Сити, во дворце епископа Лондонского близ собора Святого Павла, и туда теперь устремлялись все, кто был способен притвориться сторонником Ланкастеров или же давним тайным приверженцем Тюдоров, и каждый из этих «приверженцев», испросив у короля аудиенции, требовал вознаграждения за свою верность. Мы же продолжали смиренно ждать приглашения и возможности быть представленными королю и его придворным, но король нам такого приглашения упорно не присылал.
Мать заказала для меня новые платья и высоченные головные уборы, делавшие меня еще выше ростом, а также новые туфельки, которые, выглядывая из-под подола платья, также должны были меня украшать. Я светловолосая, в мать, с такими же, как у нее, серыми глазами. А моя мать всегда славилась своей красотой; мало того, она была дочерью самой красивой пары в нашем королевстве; и теперь она со спокойным удовлетворением утверждала, что я тоже унаследовала эту фамильную красоту.
Все это время мать выглядела абсолютно безмятежной, однако мы хорошо знали, сколько сплетен ходит вокруг, и Сесили, наслушавшись всяких разговоров, твердила, что, может, мы и живем опять в королевском дворце, но здесь так же тихо и одиноко, как в убежище под аббатством. Я с ней не спорила, хотя, по-моему, она ошибалась. И довольно сильно. Она-то почти не помнила того убежища в аббатстве, а вот я помнила его очень хорошо; и для меня не было на свете ничего, ничего хуже той темноты и тишины, какая окружала нас там; ничего хуже того мучительного понимания, что выйти наружу нам нельзя, зато войти в твое убежище может кто угодно. Наше последнее пребывание в святом убежище растянулось на девять месяцев, и эти месяцы показались мне девятью годами; я думала, что так и зачахну там, лишенная солнечного света, а потом и умру. Но Сесили ничего этого толком не помнила и все продолжала повторять, что она, женщина замужняя, вообще не должна находиться с нами во дворце, а должна отправиться к своему супругу и воссоединиться с ним.
— А ты знаешь, где он? — спросила я. — Может, он давно уже во Францию сбежал.
— Ну и что? Зато я вышла замуж, как полагается, — с вызовом заявила она, — а не спала с чужим мужем! Я не какая-то блудница в пурпуре. И среди погибших мой муж, по крайней мере, не числится.
— Как же, все знают мистера Ральфа Скроупа из Апсола! — ядовитым тоном заметила я. — Твой муж — мистер Никто из Ниоткуда! Если ты сумеешь его отыскать — если он, конечно, остался в живых, — можешь преспокойно продолжать жить с ним, мне это совершенно безразлично. Разумеется, если ему разрешат взять тебя к себе. Вряд ли он сможет быть твоим мужем без королевского приказа.
Сесили презрительно вздернула плечи и отвернулась от меня.
— Ничего, обо мне сама миледи королева-мать позаботится! — заявила она, пытаясь защититься. — Все-таки я ее крестница, а она здесь самая главная, она сейчас всем при дворе распоряжается. И уж меня-то она, надеюсь, вспомнит.
Погода для этого времени года стояла какая-то совершенно необычная — слишком солнечная, слишком яркая; днем было по-настоящему жарко, а ночью чересчур влажно и душно, так что никто толком не мог спать. Никто, кроме меня, хотя меня по-прежнему преследовали мои проклятые видения. Весь день я была сонливой и каждый вечер, едва коснувшись подушки, буквально проваливалась в сон. И во сне ко мне являлся веселый Ричард и со смехом рассказывал, что сражение завершилось именно так, как он и предвидел, а значит, скоро мы с ним поженимся. Он брал меня за руки и целовал, а я все возражала, все говорила, что вот сейчас кто-нибудь войдет и скажет, что победил Генрих, а он в ответ называл меня дурочкой и своей маленькой дорогой глупышкой. И я просыпалась, веря, что все это правда, но почти сразу приходило дурное осознание того, что это был всего лишь сон; я озиралась, видела вокруг стены «лучших комнат второго разряда» и Сесили, спавшую со мной в одной постели, и понимала: мой любимый, мертвый и холодный, лежит в безвестной могиле, а его бывшие подданные, буквально вся страна, истекают потом на невиданной жаре.
Моя горничная — она родом из купеческой семьи, проживающей в Сити, — рассказывала мне, что в центральных кварталах столицы, где в домах жуткая скученность и теснота, свирепствует странная и страшная болезнь, и двое учеников ее отца уже заболели этой болезнью и умерли.
— Это чума? — спросила я, сразу же невольно шарахнувшись от нее. От чумы нет исцеления, и я боялась, что она невольно принесла эту заразу с собой; мне уже казалось, что горячий ветер чумы вот-вот повеет на меня и моих родных.
— Это хуже, чем чума! — воскликнула горничная. — С таким недугом у нас раньше ни один врач не встречался. Уилл, один из тех учеников моего отца, вдруг как-то за завтраком признался, что его все время знобит, а тело у него так ноет, словно он целую ночь мечом орудовал. Мой отец велел ему пойти к себе и прилечь; он послушался, лег в постель да вдруг как начнет потеть! В одно мгновение рубашка на нем насквозь промокла. Пот с него прямо-таки ручьями лился. Когда моя мать принесла ему котелок с элем, чтобы он мог утолить жажду, он пожаловался, что у него все тело горит и внутри у него тоже такой страшный жар, который ничем не охладить. Он сказал, что лучше ему, наверно, немного поспать, и действительно заснул, да так и не проснулся. А ведь он совсем молодой был, всего восемнадцать! Умер, не проболев и одного дня!
— А как выглядела его кожа? — спросила я. — Были у него нарывы?
— Никаких нарывов, никакой сыпи, — заверила меня горничная. — Я же говорю — никакая это не чума! Это какая-то новая болезнь, люди ее «потогонкой» называют. Все считают, что эта напасть обрушилась на нас с прибытием в Англию короля Генриха. Все так и говорят: мол, его правление началось со смерти, а значит, долго ему не продлиться. Это он с собой смерть принес! И теперь мы все умрем из-за его ненасытной жажды власти. Говорят, он явился в Лондон весь в поту и теперь жизни не пожалеет, чтобы сохранить за собой английский трон. Говорят, это он болезнь Тюдоров с собой принес. А еще говорят, будто наш нынешний король проклят. Смотрите, сейчас ведь осень, а жара стоит, как в середине лета! На такой жаре все мы до смерти потом изойдем.
— Ладно, ты теперь можешь домой идти, — несколько нервно велела я ей. — И вот что, Дженни: оставайся дома, пока не будешь полностью уверена, что и сама ты здорова, и все твои домашние тоже. Моя мать вряд ли захочет, чтобы ты нам прислуживала, пока у тебя в доме кто-то серьезно болен. Ты меня поняла? Не возвращайся во дворец, пока все твое семейство полностью от этой болезни не избавится. Отправляйся домой прямо сейчас и ни в коем случае не останавливайся и ни с кем не разговаривай, особенно с моими сестрами и кузенами.
— Но я же совершенно здорова! — запротестовала девушка. — И это очень быстрая болезнь. Если бы я заразилась, так наверняка уже успела бы умереть, я бы даже вам об этом недуге рассказать не успела бы. А раз я спокойно дошла от своего дома до дворца, значит, я вполне здорова.
— Ладно, все равно домой ступай, — повторила я. — Я пошлю за тобой, когда будет можно. — И, расставшись с нею, я тут же отправилась искать свою мать.
Но во дворце ее не оказалось. Не было ее ни в затемненных и пустых покоях с закрытыми ставнями, ни на прохладных тенистых дорожках парка. Я нашла ее в дальнем конце луга, раскинувшегося на берегу реки, рядом с деревянным причалом; она сидела на переносном деревянном стульчике и наслаждалась речным ветерком, что-то шептавшим над водой. В ответ ему слышался шелест волн, лизавших деревянные сваи и настил пристани.
— Здравствуй, моя девочка, — сказала она, когда я подошла ближе и опустилась перед ней на колени, чтобы она меня благословила. Затем я уселась на дощатый настил и свесила ноги вниз, глядя на собственное отражение в воде. Мне казалось, что я — водная богиня и живу в этой реке, ожидая, когда кто-нибудь освободит меня от заклятия, заставляющего меня вечно оставаться там, в глубине; мне не хотелось думать, что я просто засидевшаяся в девках принцесса, которую никто не хочет брать замуж.
— Ты слышала о новой болезни, что охватила уже весь Сити? — спросила я у матери.
— Да, конечно, — сказала она. — И король решил, что сейчас никак нельзя проводить коронацию, ибо любое скопление народа — это слишком большой риск, ведь среди толпы всегда могут оказаться больные люди. Генриху придется еще несколько недель побыть всего лишь завоевателем этой страны, а не ее коронованным правителем. Надо надеяться, эта странная эпидемия скоро закончится. Мать Генриха, леди Маргарет, возносит Господу какие-то особые молитвы; она просто вне себя из-за необходимости отложить коронацию. Ведь она была совершенно уверена, что сам Господь вознес ее сына на такую высоту. Зачем же он теперь насылает на него новые испытания в виде этой чумы?
Я удивленно вскинула на нее глаза и невольно прикрыла глаза рукой и прищурилась — так ярко пылал закат, так ослепительно сверкало золотистыми красками небо, суля и на завтра такой же неестественно жаркий денек.
— Мама, признайся: это твоих рук дело?
Она рассмеялась.
— Ты никак обвиняешь меня в колдовстве? Неужели ты думаешь, что это я прокляла население Лондона, наслав на него чумной ветер? Нет, милая, подобное не в моих силах. К тому же если б я и обладала таким могуществом, то никогда бы им не воспользовалась. Эта болезнь явилась сюда вместе с войском Генриха, ведь свою армию он собрал из самых отвратительных отбросов общества, из самых мерзких подонков, каких только можно было отыскать в христианском мире. Когда он вместе с этой армией вторгся на территорию нашей несчастной страны, его наемники из самых мрачных и грязных тюрем Франции принесли с собой и этот страшный недуг. Так что никакая это не магия. Эта болезнь сперва дала о себе знать в Уэльсе, где они высадились, а затем перекинулась на лондонцев — она следует по пятам за этим войском наемников и отнюдь не благодаря магии, а благодаря той грязи, которую они за собой оставляют, и тем несчастным женщинам, которых они насилуют по дороге. Армия Генриха по большей части состоит из уголовников, много лет проведших в тюрьме, они-то и распространяют в нашей стране эту заразу, хотя многим этот неведомый недуг кажется неким знаком свыше, направленным против нового короля.
— А что, если это и то, и другое? — спросила я. — И болезнь, и знак свыше?
— Да, это, несомненно, так и есть, — кивнула мать. — Говорят, что король, чье правление началось с вызванного тяжкими усилиями пота, будет и впредь вынужден изо всех сил трудиться, чтобы удержать завоеванный трон. Болезнь, принесенная Генрихом, убивает его друзей и сторонников, как если бы она была неким тайным оружием, направленным против него и тех, кто его поддерживает. Сейчас, в дни своего триумфа, он уже потерял больше союзников, чем терял на поле брани. Это было бы смешно, когда бы не было так… горько.
— И что это означает для нас? — спросила я.
Она посмотрела куда-то вдаль, вверх по течению реки, словно вода могла принести ей оттуда некий ответ прямо к причалу, с которого свисали мои болтающиеся в воздухе ноги.
— Я пока еще не совсем это поняла, — задумчиво промолвила она, — так что дать тебе точный ответ не могу. Но если Генриху суждено и самому подхватить эту болезнь и умереть, то люди наверняка сочтут это судом Божьим над узурпатором, а потом станут искать наследника Йорков, дабы посадить его на трон.
— А есть ли у нас такой наследник? — спросила я, и тихий голос мой был едва слышен среди плеска воды. — Есть ли у нас настоящий наследник Йорков?
— Конечно: Эдвард Уорик.
Я помолчала, колеблясь, потом все же решилась осторожно спросить.
— Разве у нас нет другого наследника? Более близкого по родству?
Мать, по-прежнему не глядя на меня, незаметно кивнула.
— Неужели мой младший брат Ричард все-таки жив? — задохнулась я.
И снова она лишь молча кивнула, словно даже ветру не решалась доверить ни одного словечка.
— Значит, тебе все-таки удалось его спасти, мама? Он в безопасности? Ты в этом уверена? Он жив? Он в Англии?
Она покачала головой. Потом все же сказала:
— Я давно не имею о нем никаких вестей. Так что ничего не могу сказать наверняка. И уж, конечно, ничего не могу рассказать тебе. Но мы должны по-прежнему молиться за двух сыновей Йорка, за принца Эдуарда и за принца Ричарда, ибо они по-прежнему считаются бесследно пропавшими, и никто пока что не смог нам объяснить, что же с ними сталось в действительности. — Она улыбнулась мне. — И лучше мне не говорить тебе о том, какие надежды еще живы в моей душе, — мягко сказала она. — Кто знает, что принесет нам будущее? Если Генрих Тюдор вдруг умрет…
— А не можешь ли ты пожелать, чтобы он умер? — шепотом спросила я. — Не можешь ли ты сделать так, чтобы и он умер от той болезни, которую принес с собой?
Мать отвернулась, словно прислушиваясь к тому, что говорит ей река.
— Если это он убил моего сына, то он уже и так проклят мною, — ровным тоном промолвила она. — Ты же вместе со мной проклинала убийцу, помнишь? Помнишь, как мы попросили богиню Мелюзину,[12] нашу мать-прародительницу, отомстить за нас. Ты помнишь, что мы тогда сказали?
— Точных слов не помню. Помню только ту ночь.
В ту ночь нас с матерью терзали горе и страх; мы уже долгое время прятались в святом убежище, как в тюрьме, и той ночью мой дядя Ричард пришел и сказал матери, что оба ее сына, Эдуард и Ричард, мои любимые братья, исчезли из своих покоев в Тауэре. И той же ночью мы с матерью написали на листке бумаги страшное проклятие, свернули из этого листка кораблик, подожгли его и пустили плыть по реке, а потом смотрели, как он уплывал от нас, догорая на воде.
— Нет, я в точности не помню, что мы тогда говорили, — снова сказала я.
Но она-то помнила! Она помнила каждое слово этого проклятия, самого страшного из всех, какие ей доводилось применять в жизни. Она и сейчас помнила наизусть все то, что тогда написала на листке.
— Мы написали: «Узнай также, о Мелюзина, что ни один суд не сумеет вынести справедливый приговор тому, кто причинил нашей семье столько зла. И мы просим тебя, великая наша праматерь, помоги нам! Мы опускаем в темные глубины твоих вод это письмо с нашим проклятием: кто бы ни был тот, кто отнял у нас сына и наследника, пусть он будет наказан тем, что лишится своего сына и наследника, который у него есть или же еще только должен родиться».[13]
Мать отвернулась от реки и уставилась прямо на меня; темные зрачки ее серых глаз как-то неестественно расширились.
— Ну что, вспомнила? Ведь все происходило на берегу этой самой реки!
Я кивнула, и мать продолжила:
— А еще там было сказано так: «Нашего мальчика забрали у нас, прежде чем он успел вырасти и стать королем — хотя для этого он и был рожден. Отними же сына у того, кто убил нашего мальчика! Пусть и его сын не станет взрослым, пусть и он не успеет вступить в права наследства, а если он уже вырос, отними сына и у него, лиши убийцу его внука, и тогда мы поймем: наше проклятие действует, и возмездие настигло того, кто забрал у нас сына и брата».
Меня охватила дрожь; я словно погрузилась в некий магический транс, сотканный моей матерью и окутавший все вокруг; ее тихие слова падали на поверхность реки, точно капли дождя.
— Мы прокляли его сына и внука, — прошептала я.
— Убийца этого заслуживает, — резко заявила моя мать. — И когда его сын и внук умрут, когда у него не останется никого, кроме дочерей, тогда мы будем точно знать, что именно он и есть убийца нашего мальчика, сына богини Мелюзины, и месть наша будет исполнена.
— Боже мой, мама, какой ужасный поступок мы совершили! — сказала я несколько неуверенным тоном. — Какое страшное проклятие падет на чьих-то невинных наследников! Страшно — желать смерти двум невинным мальчикам.
— Да, — спокойно согласилась моя мать. — Это страшно. Но мы поступили так только потому, что кто-то другой сделал то же самое с нами. И этот «кто-то» познает всю мою боль, когда умрет его сын, а потом и его внук, когда из наследников у него останется лишь одна дочь.
Люди всегда шептались, что моя мать занимается колдовством, а ее мать даже как-то предстала перед судом и была сочтена виновной в использовании черной магии. Я понимала: только она сама знает, сколь сильна ее вера в магию, только ей одной известно, на что она способна. В детстве я собственными глазами видела, как она призывала бурю и проливные дожди, после которых вода в реке поднялась настолько, что буквально смыла с земли армию герцога Букингема и примкнувших к нему мятежников. Тогда мне казалось, что матери, чтобы вызвать дождь или бурю, достаточно всего лишь свистнуть. Кроме того, она сама мне рассказывала, как однажды холодной ночью сделала так, что выдохнутый ею воздух, слетевший с губ в виде маленького облачка, превратился в огромные валы густого тумана, скрывшие от врага армию моего отца и окутавшие его воинов, точно саваном; а затем они подобно молнии из грозовой тучи вынырнули из этого тумана и ринулись с вершины холма на противника, захватив его врасплох и наголову его разгромив. Мало того, моему отцу помогал еще и штормовой ветер, дувший навстречу вражескому войску.[14]
Многие верили, что моя мать обладает сверхъестественным могуществом, поскольку ее мать, Жакетта Риверс, принадлежала королевской семье Бургундии,[15] среди предков которой, по преданию, была сама водная богиня, волшебница Мелюзина. Я и сама не раз убеждалась, что женщины из нашей семьи совершенно определенно слышат пение Мелюзины, когда умирает кто-то из ее «детей». Мне тоже доводилось слышать ее пение, и я этих звуков никогда не забуду. Ее голос звучал как некий холодный и нежный зов несколько ночей подряд, и после этого мой брат никогда уж больше не выбегал поиграть на зеленой лужайке перед Тауэром, и из окна башни навсегда исчезло его бледное личико, и вскоре мы оплакали его, как оплакивают покойника.
На самом деле, по-моему, даже сама моя мать толком не знала пределов своего могущества и того, сколь часто ей может просто способствовать удача, даже если утверждала, что случившееся «волшебство» — наверняка дело ее рук. Она, безусловно, пользовалась своей невероятной удачливостью и называла это магией. Хотя в детстве я действительно считала ее волшебным существом, феей или колдуньей, которая способна в случае необходимости призвать на помощь хоть все реки Англии; но теперь, когда я думаю о том, какой крах в итоге потерпела наша семья — когда после смерти отца мы пали буквально на самое дно, а моя мать лишилась сына и наследника, — я прихожу к такому выводу: если моя мать и впрямь пытается порой колдовать, надеясь на помощь магических сил, то это у нее не слишком хорошо получается.
Так что меня совсем не удивляло, когда Генрих продолжал оставаться здоровым и явно не думал умирать, хотя от той болезни, которую он принес в Англию, в течение всего лишь одного месяца умерли сперва лорд-мэр Лондона, затем его наспех избранный преемник, а затем еще шесть олдерменов. Говорили, что в Сити покойник почти в каждом доме; телеги с трупами каждую ночь громыхали по улицам города, в точности как во времена бушевавшей в Европе «черной смерти»,[16] только на этот раз «чума», похоже, пришла еще более страшная.
Но с наступлением осенних холодов страшная болезнь, прозванная в народе «потогонкой», пошла на спад; однако Дженни, моя горничная, так и не вернулась ко мне; я, послав за нею, узнала, что она умерла, как и все ее родные, причем буквально в течение нескольких часов — в промежуток между хвалитнами и повечерием. Никому раньше не приходилось сталкиваться с недугом, способным так быстро привести человека к смерти, и люди шептались, что все это вина нового короля, чье правление началось с нескончаемой процессии похоронных дрог. Лишь в конце октября Генрих решил, что обстановка стала достаточно безопасной и теперь можно собрать в Вестминстерском аббатстве лордов и джентри для проведения коронации.
Два герольда, несущих знамя с гербом Бофоров, и дюжина гвардейцев, на плащах которых красовался герб Стэнли, постучались в главные ворота дворца, дабы сообщить, что леди Маргарет Стэнли намерена завтра почтить меня своим визитом. Моя мать, услышав эту новость, милостиво кивнула и сказала очень тихо — подчеркивая наше высокое происхождение, в связи с которым нам никогда не следовало повышать голос, — что мы будем очень рады видеть ее милость.
Как только за посланцами леди Маргарет закрылась дверь, мы тут же принялись лихорадочно обсуждать, какое платье мне надеть.
— Темно-зеленое, — сказала моя мать. — Лучше всего темно-зеленое.
Собственно, это был единственно безопасный цвет. Темно-синий — это цвет королевского траура, и мне ни в коем случае нельзя было показываться в синем, чтобы леди Маргарет не подумала, что я оплакиваю своего любовника, прежнего законного короля Англии. Темно-красный — это цвет мученичества; однако платья такого цвета — и это в высшей степени противоестественно — отчего-то очень любят носить шлюхи, ибо этот цвет идеально оттеняет белизну кожи. Разумеется, ни той, ни другой ассоциации ни в коем случае не должно было возникнуть у строгой леди Маргарет при виде будущей невестки. Она не должна была заподозрить, что брак с ее сыном — истинное мучение для меня; ей также следовало забыть все те сплетни о моей любовной связи с королем Ричардом, которые наверняка достигали ее ушей. Темно-желтый был бы вполне уместен — но кто, скажите на милость, способен достаточно хорошо выглядеть в желтом? Пурпурный я не люблю, и потом, это, по-моему, слишком царственный цвет для скромной девушки, которая еще только надеется выйти замуж за короля. В общем, темно-зеленый — и никаких гвоздей! А поскольку зеленый — это еще и цвет Тюдоров, он будет хорош во всех отношениях.
— Но у меня нет темно-зеленого платья! — воскликнула я. — И у нас не хватит времени, чтобы его раздобыть.
— Ну а мне что надеть? — тут же возмутилась Сесили. — Мне что, выйти в старом платье? Или вообще не выходить? Может, одна Элизабет ей навстречу выйдет, а мы все попрячемся? Или вы хотите, чтобы я на весь день в постель улеглась?
— В твоем присутствии, разумеется, никакой необходимости не будет, — довольно резко ответила ей мать. — Но леди Маргарет — твоя крестная, так что ты наденешь голубое платье, а Элизабет наденет твое зеленое, и ты очень постараешься — ты очень постараешься, Сесили! — во время визита миледи быть крайне любезной со своей сестрой. Никому не доставляют удовольствия девицы со склочным характером, да и я не потерплю ничего подобного.
Сесили слова матери явно привели в бешенство, однако она смолчала, покорно направилась к своему сундуку, достала оттуда новое зеленое платье, встряхнула его и подала мне.
— Надень и зайди ко мне, — велела мне мать. — Подол придется немного отпустить.
Одетая в зеленое платье, заново подшитое и отделанное по подолу тонкой золотистой каймой, я ждала в материной гостиной появления леди Маргарет. Она прибыла на королевском барке, который теперь находился в полном ее распоряжении; барабанщик лихо отбивал ритм гребцам; знамена Тюдоров ярко трепетали на ветру, водруженные на корме и на носу. Затем на дорожках послышался хруст гравия под ногами ее свиты, а через минуту они уже протопали под окном и загрохотали подкованными металлом сапогами по каменным плитам двора. Перед леди Маргарет распахнули высокие двойные двери, и она с достоинством проследовала через вестибюль в гостиную.
Моя мать и мы с сестрами встали и поклонились ей, как равные. Трудно было решить, какой глубины реверанс тут подошел бы лучше всего. Мы сделали реверанс, так сказать, средней глубины, и леди Маргарет тоже присела не слишком глубоко, кивнув нам головой в знак приветствия. Хотя моя мать теперь звалась всего лишь леди Грей,[17] она была коронована как королева Англии, и в те времена леди Маргарет была ее фрейлиной. И хотя теперь леди Маргарет пользовалась королевским барком, но сын ее пока что коронован не был. И хотя теперь она называла себя «миледи королева-мать», настоящая корона Англии пока что голову Генриха не украшала. Ему удалось присвоить себе лишь ту маленькую коронку, почти браслет, которую Ричард обычно надевал поверх своего боевого шлема, а процедура коронации ему еще только предстояла.
Я быстро зажмурилась, вспомнив о маленькой золотой короне, которую Ричард носил на шлеме, и передо мной возникли его улыбающиеся карие глаза, весело смотревшие на меня сквозь щель забрала…
— Я желала бы побеседовать с мистрис[18] Элизабет наедине, — сказала леди Маргарет, обращаясь к моей матери и не потрудившись прежде произнести хоть одно словечко приветствия.
— Ее милость принцесса Элизабет Йоркская проводит вас в мои личные покои, — как ни в чем не бывало сказала моя мать.
Я шла впереди миледи и прямо-таки чувствовала, как она сверлит взглядом мою спину. Я вдруг стала остро ощущать собственное тело, и мне уже казалось, что при ходьбе я слишком раскачиваю бедрами или потряхиваю головой. Открыв дверь, я вошла в личные апартаменты моей матери и повернулась лицом к леди Маргарет, которая без приглашения уже усаживалась в огромное кресло.
— Вы тоже можете сесть, — милостиво разрешила она, и я, устроившись на стуле напротив нее, стала ждать, что она скажет еще. Чувствуя, как пересохло горло, я нервно сглотнула, надеясь, что она этого не заметит.
Она продолжала молча разглядывать меня с ног до головы, словно я была просительницей, добивавшейся должности в ее доме, затем медленно улыбнулась и сказала:
— Вам повезло с внешностью. Ваша мать всегда была красавицей, а вы очень на нее похожи: светловолосая, гибкая, кожа как лепесток розы и эти чудесные волосы, отливающие одновременно и золотом, и бронзой. У вас, несомненно, будут красивые дети. Полагаю, вы все еще гордитесь своей внешностью? И по-прежнему тщеславны?
Я ничего ей не ответила, и она, откашлявшись, вдруг вспомнила о причине своего визита.
— Я прибыла, чтобы по-дружески побеседовать с вами наедине, — сказала она. — Мы ведь расстались, когда наши отношения оставляли желать много лучшего, не так ли?
Мы тогда разругались, точно две разъяренные торговки рыбой, но я-то была уверена, что мой возлюбленный, Ричард, убьет ее сына и сделает меня королевой Англии. Но оказалось, что это ее сын вышел из того сражения победителем и убил моего любовника, и теперь моя судьба была полностью в ее белых, щедро украшенных кольцами руках.
— Мне очень жаль, что мы так расстались, — сказала я с незамысловатой неискренностью.
— Мне тоже, — сказала она, и это меня удивило. — Ведь мне предстоит стать вашей свекровью, Элизабет. Мой сын женится на вас, несмотря ни на что.
Внезапно при словах «несмотря ни на что» меня охватил гнев, хоть я и сознавала, что это не имеет абсолютно никакого смысла. Надо было смириться, ведь мы потерпели поражение, и мои надежды на счастье, на возможность стать королевой Англии, любимой своим народом, были растоптаны мощными копытами кавалерии Томаса Стэнли, мужа леди Маргарет.
Я склонила голову и тихо промолвила:
— Благодарю вас.
— Я стану тебе хорошей матерью, дитя мое, — с почти искренней нежностью продолжала леди Маргарет. — И ты, узнав меня поближе, поймешь, что во мне немало любви, что я готова ею поделиться; кроме того, у меня есть еще один истинный талант: я умею хранить верность. Я твердо намерена исполнить волю Господа, ибо уверена, что сам Господь выбрал тебя на роль моей снохи, жены моего сына, и… — тут ее голос затих, превратившись в восторженный шепот при одной лишь мысли о том, какую роль я могу сыграть в предсказанном свыше возникновении королевской династии Тюдоров, — …матери моего внука.
Я снова склонила голову в знак признательности, а когда подняла глаза, то увидела, что ее лицо прямо-таки сияет вдохновением.
— Еще девочкой, в общем-то, совсем ребенком,[19] я была призвана Им, дабы произвести на свет моего Генри, — прошептала она, словно молясь. — Я думала, что умру в родах, я была уверена, что эти невыносимые мучения убьют меня. Но потом поняла: если я выживу, то моему мальчику и мне суждено великое будущее, величайшее из всех возможных. Мой сын станет королем Англии, и я возведу его на трон…
Было что-то очень трогательное в ее непосредственном восхищении собственной ролью, якобы предначертанной ей свыше; это святое восхищение показалось мне родственным тому пылу, с каким относятся к своему призванию монахини.
— Я знала, — продолжала она, — знала, что ему предстоит стать королем. И когда я встретилась с тобой, то сразу поняла: именно ты предназначена для того, чтобы родить ему сына. — Она вперила в меня напряженный взгляд. — Вот почему я была так строга с тобой, вот почему так рассердилась, увидев, что ты отклоняешься от предначертанного тебе пути. Мне было невыносимо больно, когда ты, упав столь низко, отреклась от своей высокой судьбы и своего истинного призвания.
— Вы полагаете, что у меня есть призвание? — прошептала я, потрясенная невероятной убедительностью ее речей.
— Ты призвана стать матерью следующего короля Англии, — провозгласила она. — Короля Алой и Белой розы, и эта роза будет наконец лишена шипов. У тебя родится сын, и мы назовем его Артур Английский. — Она взяла меня за руки. — Такова твоя судьба, дочь моя, и я помогу тебе ее исполнить.
— Артур? — с изумлением повторила я. Именно Артуром мы с Ричардом хотели назвать сына, которого я должна была ему родить.






