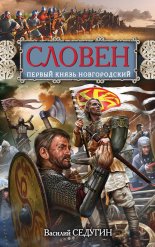Наследница. Графиня Гизела (сборник) Марлитт Евгения

Казалось, девушка из всех присутствовавших заметила только этого человека; при его вопросе по бледному лицу ее разлился нежный румянец, который исчез снова, едва португалец ушел.
Наконец оцепеневшее общество пришло в себя – кавалеры, а вместе с ними графиня Шлизерн поспешно окружили коня и амазонку. Молодые дамы в нелюбезном изумлении со слегка объяснимым неудовольствием держались поодаль, не спуская, однако, своих прекрасных глаз с лица юной отшельницы, которая так неожиданно расстроила веселое собрание… Как, это воздушное существо, так грациозно державшееся на коне, такой смелой и сильной рукой управляющее лошадью, то самое хилое, желтое созданьице, которое, по словам родственников его, умирало такой медленной смертью в своем уединении?.. Как, этих прекрасных девственных карих глаз когда-то боялась хорошенькая фрейлина? И в этой прекрасной, украшенной роскошными сияющими волосами головке таилась злоба?..
– Милая Ютта, ты с нами сыграла отличную шутку! – проговорила графиня Шлизерн своим едким тоном, обращаясь к баронессе. – К удовольствию твоему, признаюсь тебе, я удивлена так, как никогда не удивлялась за всю свою жизнь… Твои нападки на «мои любопытные глаза» также как нельзя более удачны.
Баронесса не возразила ни слова на эти колкие слова. Она была бледна как смерть, хотя уже и овладела собой; глаза ее с упреком устремлены были на падчерицу.
– Милое дитя, да простит тебя Бог за то, что ты мне сделала, – сказала она мягким тоном. – Я никогда не забуду этой минуты!.. Ты знаешь, какая невыразимая боязнь овладевает мной, когда я вижу тебя на лошади! Ты знаешь, что я дрожу за твою жизнь!.. Вспомни, что ты мне обещала?
Взор Гизелы на минуту застенчиво остановился на чужих лицах, но теперь карие глаза смотрели смело и решительно.
– Я обещала не показываться тебе на глаза на лошади, мама, – сказала она, – но должна ли я на самом деле оправдываться за то, что не могла сдержать своего обещания, когда приехала сюда за помощью для бедного селения?.. Все наши люди на ярмарке в А., только старик Браун, который не может ездить верхом, да хромой конюх Тиме дома… В селении нет ни единого мужчины – все на работе в Нейнфельде; женщины и дети бегают с воплями вокруг своих пылающих домов. – Она замолкла – в голове ее пронеслась та ужасная картина отчаяния, которая заставила ее мчаться по горам и лесам на неседланной лошади, и хотя пребывания ее здесь, на лугу, и продолжалось лишь несколько минут, но и эти минуты были потеряны. Она должна ехать далее, прочь от этих людей, из которых ни один не шевельнет пальцем, чтобы помочь несчастным, прочь от этих знатных особ, которые, казалось, или не слыхали, или сейчас же забыли, что там, за лесом, горят человеческие жилища… Презрительная усмешка, характеризовавшая когда-то прекрасное лицо графини Фельдерн, запечатлелась на устах девушки. Взор ее устремлен был на нейнфельдскую дорогу, и она, по-видимому, намерена была направить туда своего коня.
Если бы глаза присутствующих не были устремлены на молодую графиню, то придворные льстецы имели бы случай насладиться зрелищем, для них, может быть, более интересным, чем красота юной амазонки. Министр, этот идеал дипломата, его превосходительство с медным лбом, от которого отскакивали все стрелы противника, этот субъект с сонливыми веками, которые поднимались и опускались, подобно театральному занавесу, давая возможность видеть лишь то, что он хотел – могущественный, внушающий страх государственный человек, – вдруг изменил себе, как и его супруга: он тщетно старался овладеть собой и принять свой обычный равнодушно-спокойный вид, но не в его власти было стереть со смертельно побледневшего лица выражение отчаяния и злобы.
Едва девушка собралась двинуться с места, как он грубо схватил рукой лошадь за повод и устремил на падчерицу дикий, угрожающий взор.
– Папа, ты позволишь мне ехать в Нейнфельд, – сказала она решительно, энергичным движением руки притягивая к себе поводья и поднимая хлыстик.
Лошадь взвилась на дыбы – стоявшие поблизости в ужасе разбежались.
В эту минуту послышался глухой выстрел.
– А-а, в Нейнфельде ударили в набат! – вскричал князь. – Господин фон Оливейра, как кажется, не шел, а летел!.. Успокойтесь, прекрасная графиня Фельдерн! – обратился он к Гизеле.
– Вам не нужно ехать далее. Неужели вы думаете, что я оставался бы так спокоен, если бы не знал, что там, – он указал по направлению к Нейнфельду, – готовится самая скорая помощь?
Только теперь заметила Гизела пожилого господина, самого невзрачного и сухощавого из всего собрания. Он обратился к ней, называя ее именем бабушки. Это хотя и показалось ей странным, так как она не подозревала, что в ней он видел несравненные черты своей «протеже», но голос его был так добродушен, и это знакомое ей лицо с маленькими серыми глазками – у гувернантки были фотографии, и литографии, и масляные изображения этого лица – казалось таким приветливым рядом с враждебностью отчима, что сердце ее невольно смягчилось.
– Очень благодарна вам, ваша светлость, за это успокоение, – сказала она, улыбаясь и склоняя свой грациозный стан.
Она, очевидно, хотела прибавить еще несколько слов, но министр снова овладел поводом и на этот раз уже не выпускал его из рук. В эту минуту он уже вполне владел собой и способен был изобразить сострадательную и в то же время извиняющуюся улыбку, с которой он взглянул на князя, когда тот быстро отшатнулся в сторону при движении лошади. Он повелительным жестом указал на аллею.
– Ты сию же минуту вернешься в Грейнсфельд, дочь моя, – сказала он холодно и резко. – Надеюсь сегодня же найти случай объясниться с тобой по поводу сделанного шага, которому нет ничего подобного в летописях фамилии Штурм и Фельдерн.
Гордая кровь имперской графини Штурм и Фельдерн, к которой он только что апеллировал, ударила в лицо девушки. Гизела гордо выпрямилась, и хотя сжатые тонкие губы ее не проронили ни слова, но легкое, выразительное пожатие плеч отразило едкое замечание его превосходительства с большей силой и достоинством, чем могло бы вызванное раздражением слово.
– Но, мой милый Флери! – заговорил князь оживленно и с сожалением.
– Ваша светлость, – перебил его министр с покорным видом и почти набожно опущенными ресницами – выражением, которое очень хорошо было известно князю и которое означало непреклонную волю, – в эту минуту я поступаю как преемник моей тещи, графини Фельдерн. Она никогда бы не простила своей внучке такой фантастической цыганской выходки… Я знаю, к несчастью, очень хорошо страсть моей падчерицы к приключениям, и если не в состоянии был отвратить это тягостное для меня положение, то и не хочу, по крайней мере, продолжить скандала, который падает на меня. – Гизела продолжала гордо держать голову. С тем глубоко испытующим выражением, которое страстно ищет истинную причину действий в душе другого, она твердо и проницательно смотрела в лицо человеку, который, бывало, чуть ли не с обожанием носил жалкого, умирающего ребенка на руках и воспитывал с такой систематичностью и который вдруг, несколько дней тому назад, стал выказывать ей такую холодность и отчуждение.
Она далеко не похожа была на обвиняемую, скорее это была обвинительница в своем спокойном молчании, с полной достоинства осанкой. Гордо вскинув голову, откинула она назад волосы и, поклонившись обществу, слегка коснулась хлыстиком лошади. Конь стрелой помчался к аллее, и через несколько мгновений воздушное, белое видение с развевающимися золотистыми волосами исчезло в зеленой лесной чаще.
Минуту присутствующие молча глядели вслед девушке, затем снова поднялся всеобщий разговор.
Князь послал одного из кавалеров в Белый замок за экипажами; он желал, в сопровождении министра и кавалеров своей свиты, лично посетить пожарище. Почтенный господин вдруг ни с того ни с сего заюлил и засуетился.
– Но, мой милый барон Флери, не были ли вы слишком жестоки относительно вашей восхитительной питомицы? – обратился он с упреком к министру, приготовляясь оставить луг, чтобы отправиться по грейнсфельдской дороге, где должен был догнать его экипаж.
Холодная усмешка мелькнула на губах его превосходительства.
– Ваша светлость, в моем официальном положении я привык носить на себе панцирь – и был бы давно уже трупом, если бы дозволил уязвлять себя стрелой осуждения, – возразил он с оттенком шутливости. – Но совершенно иначе, напротив, организован я как обычный человек, – прибавил он несколько строже. – Упрек из уст вашей светлости, признаюсь, огорчает меня. В эту минуту я вполне сознаю, что любовь и ослепление заставляли меня беспечно относиться к моей обязанности как воспитателя моей дочери.
– И не одного себя обвиняй, мой друг, – прервала его супруга нежно-слабым голосом, – и я много виновата. Зная все сумасбродства, которые Гизела позволяет себе в стенах замка, мы были слишком слабы, продолжая держаться с прежней беспечностью, и именно еще недавно я имела крупный разговор с Гербек, которая высказала намерение обращаться с ней несколько строже.
– Но я не понимаю, какие нелепости видите вы в поведении Гизелы? – проговорила графиня Шлизерн. – Несколько отважная езда, и ничего более… К тому же прелестная малютка, видимо, и не подозревала нашего присутствия здесь, на лугу.
– Но я тебе говорю, милейшая Леонтина, что она в состоянии так, как мы ее теперь видели, явиться на площади в А. среди белого дня! – возразила баронесса. – Одна нелепость у нее следует за другой, и, к сожалению, я должна сознаться, очень часто с намерением досадить Гербек… Сегодня, например, она настаивает на том, что намерена вступить в свет, что при ее болезни по меньшей мере смешно, – час спустя…
– Объявляет свое непоколебимое намерение идти в монастырь, – перебил министр, продолжая описания характера падчерицы.
Все дамы засмеялись, только графиня Шлизерн оставалась серьезна. На лице ее появилось то строгое и суровое выражение, которого так боялись придворные, ибо оно всегда было предвестником великих событий для них. – Ты только что опять упоминала о болезненном состоянии твоей падчерицы, Ютта, – сказала она, не меняя предмета разговора. – Скажи мне по правде, ты в самом деле веришь словам доктора, что к этому прелестному созданию, с таким свежим цветом лица и с такими здоровыми и сильными движениями, могут снова вернуться прежние припадки?
Темные глаза прекрасной баронессы с уничтожающей ненавистью остановились на холодно улыбающемся лице приятельницы.
– Снова вернутся прежние припадки? – повторила она. – Э, милая Леонтина, если бы дело было только в этом, то я не так бы беспокоилась, но, к несчастью Гизела, никогда от них не освобождалась.
– В этом я уверена! – с жаром вскричала красавица фрейлина. – У графини правая рука подергивается так же судорожно, как и прежде, когда она внушала мне такую боязнь.
– Это неприятное движение и меня также напугало, – произнесла бледная воздушная блондинка.
Все дамы в один голос подтвердили печальную истину.
– Вы, может быть, и правы, – сказала графиня Шлизерн с иронией, обращаясь к ним. – Но, вероятно, вы согласитесь со мной, что юная графиня очень элегантно и свободно держится на лошади и своими белыми маленькими дрожащими руками в совершенстве умеет управлять пылким животным, а держать веер, право, не требует особого мышечного напряжения… Я уверена, восхитительные ножки, которые проглядывали из-под белого платья, могут отлично танцевать… Не правда ли, эта вновь открытая красота будет великолепным приобретением для наших придворных балов?
И, не ожидая ответа от покрасневших, как пионы, дам, она обратилась к князю, шедшему впереди:
– Могу я просить, чтобы отдана была должная справедливость моим искусным глазам, ваша светлость? – спросила она шутливо. – Час тому назад я удостоилась очень немилостивого взгляда за то, что в некрасивой детской головке маленькой Штурм находила знакомые линии знаменитого своей красотой лица… Не гордая ли графиня Фельдерн была сейчас пред нами? Те же черты, те же движения!
– Я признаю себя побежденным, – возразил князь. – Прекрасная амазонка затмевает мою протеже – она обладает двумя очарованиями, которых у нее не было: молодостью и невинностью.
Слабый возглас баронессы Флери прервал разговор.
Ее превосходительство, неосторожно зацепившись за дикий шиповник, уколола себе руку, кровь просачивалась через тонкий батистовый платок – это казалось таким ужасным событием для всех юных, чувствительных девичьих сердец, что они никак не понимали, как его светлость может находить важнее этот пожар там, за лесом, и покидать их в эту минуту, да еще уводя с собой всех кавалеров.
Глава 21
Между тем животное мчалось по лесу. Как бы чувствуя, что там, на лугу, остались недоброжелатели его молодой госпожи, оно своим быстрым бегом словно старалось увеличивать пространство между ними. Легкие копыта его едва касались мшистой почвы.
Гизела представила возможность бежать животному, как оно хотело. Лицо ее выражало гордость и презрение, как будто она все еще находилась под уничтожающим взглядом своего отчима.
В то время как общество уже потеряло ее из виду, ее зоркому глазу представилась далекая, залитая лучами солнца картина в конце аллеи, миниатюрное изображение на золотом фоне… Действительно, это была миниатюра! Нарядненькие фигурки, элегантные и гибкие, но уж никак не герои, не рыцари с непреклонным взором владыки и с неизгладимым отпечатком благородства на челе, как рисовала ей детская фантазия не только в ребяческие годы, но еще так недавно.
Так вот он, этот придворный круг, эта квинтэссенция высокопоставленных лиц в государстве, а между ними властелин, разум которого должен обладать мудростью, а сердце – возвышенностью чувств; он отмечен перстом провидения, он царствует милостью Божией и его приговор над жизнью и смертью подданных, над благосостоянием и нищетой страны вполне основателен… Но природа самой невзрачной оболочкой наградила все это могущество власти; портреты в комнате госпожи фон Гербек лгали, величие и блеск высоких умственных качеств озаряли на них худощавое лицо, тусклые глаза которого в действительности могли выражать лишь одно добродушие. И чтобы заполучить благосклонный взгляд этих глаз, чего бы ни сделала ее гувернантка; каждое слово, слетевшее с этих уст, когда-то, «в блаженное время ее пребывания при дворе», и обращенное к ней, свято сохранилось в ее сердце… И бабушка, дозволявшая тяжелым камням отягчать свое блистательное чело, делала это ради того, чтобы с достоинством появляться в этом избранном кругу, и она сама свою юную, одинокую душу питала блестящими картинами придворной жизни; она выросла с мыслью, что когда-нибудь должна стать наряду с этими избранниками, даже выше их… Какое разочарование!.. Этот круг был исключителен лишь строго соблюдаемыми законами этикета, но не каким-либо отпечатком внешнего превосходства – какое-нибудь общество обыкновенных смертных нисколько бы не отличалось от него.
Только один из них не походил на прочих – но и он играл с ними ребяческий пасторальный фарс, и на его строгой смуглой голове красовались лесные цветы, цветы, которые теперь ей стали так постылы. В минуту появления ее на лужайке он принимал шляпу свою из рук прекрасной мачехи, увенчавшей ее цветами.
А рядом с ним стояла красавица фрейлина – она знала эту девушку: это был тот самый ребенок, который ей был когда-то так противен, потому что в этих темных локонах вечно пестрели самые яркие ленты и эта хорошенькая головка ни о чем ином не могла думать, как о нарядных платьях, детских балах и кукольных свадьбах. При этом маленькие, старательно ухоженные нежные ручки самым изменническим образом, исподтишка, щипали бедного Пуса и очень ловко, за спиной госпожи фон Гербек, спроваживали в свой карман разные сладости… Теперь девушка эта была статс-дамой и прославленной остроумной красавицей при дворе, как часто уверяла гувернантка.
…Каким образом маленькая неутомимая пустомеля со своей пошлой болтовней вдруг оказалась наделенной небесным даром, который Гизела называла разумом?.. Прекрасной, ослепительно прекрасной стала она теперь и, за исключением красавицы-мачехи, была одна под стать высокой величавой фигуре чужестранца… Случайно ли она стояла рядом с ним? Или оба они нашли, что должны принадлежать один другому?
Девушка, всегда чуждавшаяся строптивости, вдруг сильно рванула поводья, так что лошадь высоко взвилась на дыбы.
И позлащенная солнцем миниатюра в лесу на лужайке, и само горящее селение, к которому спешила всадница, исчезли из ее мыслей при воспоминании об этих двух фигурах, стоявших рядом.
Она подъезжала уже к опушке леса, и далее дорога шла открытым полем.
Впереди лежали громадные каменоломни, мимо которых предстоял ей путь, если она хотела сократить дорогу. Узкая, довольно опасная для верховых прогулок тропинка вела вдоль пропасти. Мысль об опасности не приходила на ум Гизеле, она была неустрашима и могла положиться на верный шаг и сметливость мисс Сары.
За каменоломнями начинался снова лес, и над ним носились густые облака дыма.
В то время, когда Гизела выезжала в поле, на окраине леса показался другой всадник.
Португалец ехал из Лесного дома, и если его внезапное появление и напоминало шутливое замечание князя, что Оливейра может летать, то теперь эту волшебную быстроту можно было объяснить прекрасным быстроногим скакуном, на котором он ехал и который был предметом удивления и восхищения для всей окрестности.
Мисс Сара испуганно попятилась в сторону при неожиданном появлении его из лесной чащи – девушка же точно окаменела в немом испуге. Не мыслью ли о нем была наполнена вся душа ее… Даже в это самое мгновение со страстной боязнью она следила за каждой чертой его лица и за каждым его движением, чтобы по ним угадать отношение, которое он мог иметь к красавице, стоявшей рядом с ним.
…Чувство отвращения к очаровательной фрейлине при этом исследовании перешло в сильнейшее ожесточение, когда она с унынием увидела, что гнев должен касаться и его, или же она должна была изгнать мысль о нем из своего сердца… И все эти ощущения он мог прочесть на ее лице?..
Чувство уничтожающего стыда охватило все ее существо; щеки ее вспыхнули предательским румянцем – если она не убежит сию же минуту, тайна ее не скроется от этих темных проницательных глаз.
Никогда спина мисс Сары не подвергалась таким энергичным ударам хлыста, как в эту минуту, – она как стрела помчалась по полю.
Она не слышала за собой ни единого звука, и только удары копыт ее лошади раздавались в ушах. Но вот открытое поле было уже за ней, и, въезжая снова в лес, она приближалась к каменоломням. За спиной она услышала догоняющего ее всадника.
Конечно, мисс Сара не могла соперничать с конем Оливейры – минуту спустя португалец оказался рядом с девушкой и поспешно рукой схватил поводья ее лошади.
– Ваша боязнь ослепляет вас, графиня! – с сердцем проговорил он.
Она не в состоянии была произнести ни слова. Руки ее, без сопротивления отдавшие поводья, медленно опустились на колени. В своем белом платье, с испуганным, побледневшим лицом она похожа была на голубку, которая, оцепенев от ужаса, не могла улететь от настигшего ее врага.
Может быть, это самое сравнение пришло на ум и этому человеку – скорбное выражение мелькнуло на его губах.
– Я был слишком резок? – спросил он с большей мягкостью, не выпуская из рук поводья и еще более притягивая их к себе, так что лошади пошли рядом.
Гизела ничего не отвечала.
– Вы мне недавно сказали, что вы меня боитесь, – начал он снова. – Чувство это, которое инстинктивно предостерегает вас относительно меня как вашего противника, я вовсе не желаю, чтобы вы преодолевали; да, я не желаю этого, и, часто гладя на ваше невинное лицо, я хочу сказать вам: «Бегите от меня как можно далее!» Мы представляем с вами два существа, которым с самого рождения как бы предназначено бороться друг с другом всеми силами. – Он остановился.
Широко раскрыв глаза, Гизела с ужасом смотрела на него… Уста эти, несмотря на едкую иронию, проглядывавшую в них, со сдержанной скорбью смело произносили слова вечной вражды, а между тем как светились эти строгие глаза, когда они встречались с ее взором!
Она не могла вынести этого взгляда. Он вызывал наружу все, что так сильно она желала покорить в себе. Ей стало понятно, что бороться с ним она не может, что она любит его вечной любовью. Она готова была отдать за него жизнь свою, а он отталкивал ее от себя, а значит, он ничего никогда не должен знать о ее чувстве к нему…
С невыразимой тоской в сердце она вырвала из его рук поводья. Тело ее качнулось в противоположную от него сторону, в то время как глаза боязливо искали пропасть.
Лицо Оливейры покрылось бледностью.
– Графиня, вы не поняли меня, – сказал он с дрожью в голосе.
Но тут на лице его мелькнула саркастическая усмешка.
– Разве я так похож на разбойника? – спросил он. – Я способен кого бы то ни было столкнуть туда? – И он указал на каменоломни.
Но она оставалась безмолвной, не зная, что придумать, чтобы объяснить свое движение.
Но он не дал ей на это времени.
– Отправляйтесь далее, – сказал он, поднимая глаза к горизонту.
Облака дыма сгущались все более и более – видимо, пламя достигало больших размеров.
Оливейра снова посмотрел на девушку – лицо его вновь приобрело то строго решительное выражение, которое производило на нее такое впечатление.
– У меня боязливая натура, графиня, – продолжал он далее, – я не могу видеть, когда лошадь идет по такой узкой тропинке по краю пропасти… Прошу вас, сойдите с лошади.
– О, у Сары твердая поступь! Она не боязлива! – возразила Гизела с улыбкой. – Я и прежде проезжала с ней по этому месту, оно совсем не опасно.
– Я прошу вас, – повторил он вместо ответа. Она соскользнула со спины мисс Сары, и в ту же минуту и он сошел с лошади. Когда она, не оглядываясь, пошла по тропинке, он принялся привязывать обеих лошадей.
Гизела слегка вздрогнула, когда он вдруг очутился рядом с ней на тропинке. По правую ее руку возвышалась отвесная скала, по левую, по самому краю пропасти, шел он.
Взор ее робко скользил по величественной фигуре – в действительности такое ничтожное пространство лежало между ними, а между тем какая-то таинственно-роковая бездна, которую знал он один, должна разлучить их навеки. Когда-то холодный, все взвешивающий ее рассудок, строго державшийся так называемых светских порядков, был бессилен теперь против приговора ее сердца. Если бы этот человек, шедший с ней рядом, сказал ей: «Иди за мной, оставь все, что они называют своим и что ты никогда не любила, иди за мной в неведомую даль и в темное будущее», – она пошла бы за ним, не говоря ни слова.
Они шли молча.
Лицо Оливейры казалось как бы отлитым из металла – взор его не обращался более к девушке, но она видела, как смуглые щеки его вспыхивали всякий раз, когда нога ее, спотыкаясь о камень, заставляла покачнуться ее тело.
Таким образом они достигли того места, где тропинка становилась еще у же. Сердце Гизелы забилось тревожно, ноги Оливейры, казалось, скользили по краю пропасти. Среди царствовавшей тишины она слышала, как камни, потревоженные его ногой, падали с шумом на каменистое дно. Всегда сдержанная, девушка вдруг схватила руку его обеими руками.
– Я боюсь за вас, – тихо проговорила она с умоляющим взглядом.
Он стоял как прикованный, как бы окаменев от прикосновения этих маленьких ручек, под впечатлением этих слов. Гизела не видела его лица, но слышала, как грудь его тяжело вздымалась.
Она не знала, какое чувство волновало этого человека, она не успела об этом и подумать.
Оливейра тихо освободил свою руку из ее рук, причем мощная рука его дрожала.
– Ваша заботливость не к месту, графиня Штурм, – сказал он твердым, но совершенно ровным голосом. – Идемте далее… Моя обязанность провести вас по этой дороге, чтобы вы никогда впоследствии не вспоминали о ней с ужасом.
Но этого он был не в состоянии сделать – всю свою жизнь она с ужасом будет вспоминать чувства, пережитые ею в этом месте. Она изменила себе пред человеком, который менее всех должен был читать в ее сердце… И если в его словах и звучала горесть, если на самом деле и он охранял каждый ее шаг, все же это не примиряло ее с собой.
Она пошла далее, опустив голову, с тупым отчаянием на душе, как будто бы для нее все было потеряно в жизни, все, что есть в ней доброго и благородного, – любовь, надежда и собственное достоинство. Опасный путь был пройден, и португалец поспешил назад, чтобы привести лошадей. В то время как он отвязывал животных, шляпа его упала, а с нее слетели все цветы, которые Оливейра отбросил от себя движением, полным заметного отвращения.
Он сел на своего коня и взял мисс Сару за повод.
Гизела вздохнула свободнее, когда увидела перед собой свою лошадь. Поднявшись на обломок скалы, она легко вскочила на спину животного, и оба всадника помчались к лесу.
Глава 22
Немного времени спустя они выехали на проезжую дорогу, которая соединяла Нейнфельд с Грейнсфельдом.
Вдруг они услышали быстро приближающийся стук колес. Оливейра поехал несколько тише, и вскоре их догнали телеги с нейнфельдскими рабочими и два пожарных насоса.
Как приветливо раскланивались эти люди с португальцем! Какое расположение к нему выражалось на этих сильных лицах!.. На этих-то людей жаловалась госпожа фон Гербек, сетуя, что они раскланиваются с ней не столь подобострастно, как прежде, и что они не стоят с открытыми головами все время, пока она мимо них проходит.
…И что сделала эта женщина, чтобы требовать от этого класса людей такого почтения к себе? Представляла ли она тот сильный разум, который дает миру новые идеи, расширяет мировоззрение людей? Стремилась ли, каким бы то ни было образом, доставить благосостояние этому классу? Была ли она одной из тех одаренных природой натур, которые обладают непреодолимым могуществом таланта? Совершенно наоборот. Она приходила в ужас от новых идей, считая их проповедников всех сплошь революционерами, а ее собственный умственный кругозор был ограничен законом ее узкого и черствого сердца – она пальцем не шевельнула ради пользы ближнего и довольствовалась тем, что воссылала свои молитвы небу, прося ниспослать милость благочестивым верующим и проклятие и кару на головы богоотступников; занятие искусствами она находила «неприличным» для высокорожденных людей – всегда во всем требовала она рабской покорности остального человечества относительно ее собственной персоны, единственно ради того лишь, что родители, произведшие ее не свет, ставили «фон» перед своими именами.
Гизела покраснела от негодования, подумав о том выводе, который неизбежно следовал из этого критического анализа, – первый раз она испытующе взглянула на свою воспитательницу… С какой необычайной быстротой под благотворным воздействием гуманности развилась способность к проницательному суждению в этой юной, скрытной, предоставленной самой себе натуре, и в то же время какой недюжинной силой обладало это сердце, если все это могло сказываться в нем в такую минуту, когда ему нанесена была такая глубокая рана.
Вскоре мимо них пронеслась еще телега с рабочими, лица которых были встревожены и бледны.
– Это нейнфельдцы, – сказал Оливейра.
– Их-то не постигло несчастье, – проговорила Гизела тихим голосом. – Новые дома, которые вы построили для всех нейнфельдских рабочих, стоят в противоположной стороне селения, а горит целый ряд изб поденщиков, которые нанимаются на полевые работы. Все эти избы с драными крышами, с жалкими, выветрившимися глиняными стенами, с поломанными оконными рамами, заклеенными бумагой…
Оливейра посмотрел на нее с удивлением – слова эти слишком резко звучали в устах девушки.
– И в них живут люди, которые обязаны работать для нас, а мы в награду за это платим им презрением; мы едим хлеб, возделанный их руками, и смотрим, как они сами голодают; мы ублажаем себя, а они рождены для нищеты, они в глазах наших что-то, что никогда не может быть сравнимо с нами; по нашему мнению, они какие-то низшие создания… Я знаю, мы ужасные эгоисты, но я узнала об этом совсем недавно.
Она остановилась.
Все это Гизела проговорила с какой-то поспешностью, в то время как Оливейра молча ехал с ней рядом. Они ехали шагом, потому что мисс Сара была испугана грохотом пронесшихся мимо телег. Португалец и теперь протянул руку, чтобы придержать лошадь, которую Гизела хотела пустить вскачь.
– Подождите еще, – проговорил он. – Нам не следует здесь спешить.
– Так поезжайте вы вперед! Ваша лошадь не боится.
– Нет, я не сделаю этого. Я не могу оставлять здесь на произвол случая человеческую жизнь, чтобы там спасти жалкие пожитки. Вы утверждаете, что ваша лошадь надежна, а между тем каждую минуту она подвергает вас опасности – и при этом вы ездите безрассудно смело, графиня. Я предвидел, что вы сломаете себе шею в каменоломне на обратном пути. На месте его превосходительства я бы не медля отобрал у вас этого коня.
При этих словах Оливейра надвинул шляпу на лоб, так что Гизеле, следившей за выражением его лица, невозможно было уловить его взгляда… Его появление в каменоломнях не было, стало быть, случайностью? Он явился туда единственно для того, чтобы оберегать ее? Сердце девушки дрогнуло.
– Да и к тому же, – продолжал он, указывая по направлению пожара, – там нечего более и спасать – такое старье и гниль, как эти лачуги, горят быстро, а группа домиков, о которых вы упомянули, стоит одиноко… Вместо этого надо будет позаботиться о другого рода помощи и деятельности. Я хочу сказать, что надо будет поискать пристанища для лишенных крова, а так как вы находите ужасным эти крыши и вымазанные глиной стены…
– О, поверьте, – перебила его Гизела, – они навсегда должны исчезнуть из Грейнсфельда. Никто не должен более терпеть нужды – все должно быть иначе!.. Старый строгий человек в Лесном доме был прав – я была бесчувственной, как камень. Я сознательно находила, что рабочие классы должны оставаться в жалком и беспомощном состоянии, – ни единым словом не протестовала я нелепым разглагольствованиям госпожи фон Гербек и грейнсфельдского школьного учителя, по понятиям которого следует поддерживать невежество в народе; мне, видевшей чуть ли не каждый день, во время своих прогулок в карете, ободранных и одичалых крестьянских детей, и в голову не приходило одеть их и осветить их душу… Вы сами произнесли надо мной приговор, я знаю, и, как бы слова ваши ни были жестоки, я заслужила их.
Опустив голову, Оливейра ни единым словом не прервал этого уничтожающего самоосуждения, которое она произносила против самой себя; он тихо выжидал, как врач, когда перестанет идти кровь из пораненного места; но этот врач не мог хладнокровно видеть страданий своего пациента; человек этот сам должен был бороться с собой, чтобы не выдать своего горячего, страстного участия.
– Вы забываете, графиня, – сказал он после минутного молчания, между тем как губы Гизелы дрожали от волнения, – что ваш прежний образ мыслей обусловливается двумя влияниями – той средой, которая исключительно одна окружает вас, и затем вашим воспитанием.
– Положим, какая-то часть падает и на них, – возразила она взволнованно, – но это не оправдывает моего праздномыслия и черствости сердца!
И она посмотрела на него с печальной улыбкой.
– Но я все-таки должна вас просить не осуждать этот образ воспитания, – продолжала она далее. – Мне ежедневно твердят, что я строго воспитана – в духе моей бабушки.
Лицо Оливейры омрачилось.
– Я оскорбил вас этим? – спросил он, и голос его вдруг сделался жестким.
– Мне было горько… В эту минуту я почувствовала, как порицают мою покойную бабушку… Этого никогда еще не бывало. Да и как же это возможно? Она была образцом возвышенной женской натуры.
Неописуемая смесь иронии и бесконечного презрения промелькнула на лице португальца.
– И поэтому вы сознательно будете гнушаться того, кто осмелился коснуться памяти этой благородной женщины?
Он проговорил это тихим голосом; слова эти не должны были выражать вопроса, хотя во взоре его проглядывало страстное желание ответа.
– Совершенно верно, – произнесла она быстро, смело вскинув на него свои карие глаза. – Я так же мало ему могу простить, как и тому, кто бы захотел на моих глазах втоптать в грязь самые святые для меня убеждения.
– Даже и в том случае, когда бы убеждения эти были ложны?
Поводья выпали у нее из рук, и глаза с мольбой устремились на него:
– Я не знаю, какие причины имеете вы высказывать подобное сомнение! – проговорила она дрожащим голосом. – Может быть, вы многое испытали от людей и потому вам трудно верить в незапятнанную память усопшей… Вы чужой здесь и можете не знать о моей бабушке, но пройдите всю страну, и вы убедитесь, что имя графини Фельдерн произносится не иначе как с уважением… Разве вы никогда не теряли дорогого вам существа? – спросила она после небольшого молчания, тихо покачивая своей прелестной головкой. – Следует потому так строго оберегать имена умерших, что они сами уже не могут защищать себя.
Она опустила голову, и по ясному лбу пробежала тень горечи.
– Воспоминание о моей бабушке есть единственная вещь, которая мне дорога в той сфере, в которой я родилась, – проговорила она тихо. – И как многое должна я в ней презирать!.. Я хочу сохранить вечно, что могла бы уважать, и кто попытался бы у меня отнять это, тот взял бы на себя тяжелый грех – он сделал бы меня нищей.
Она поехала далее, не замечая, что португалец оставался позади. Между тем лицо его выражало борьбу с горьким отчаянием, которое заставляло судорожно дрожать его губы.
Через несколько мгновений он снова уже ехал рядом с ней. Следов внутренней бури как бы никогда не существовало на этом лице… Кто мог бы предположить при этом отпечатке железной решимости и энергии, который характеризовал эту гордую голову и всю эту мощную фигуру, что и для этого человека бывали минуты внутренней неуверенности и сокрушения!
Они продолжали молча свой путь. Ветром доносило до них запах горелого, и облака дыма были уже над их головами.
Оливейра был прав – пламя пожирало лачуги с невероятной быстротой. Когда они выехали из леса, глазам их представилось пожарище: три дымящиеся кучки – четвертый дом был объят пламенем, а на пятом, последнем в ряду, начинала загораться крыша.
Пожарные насосы между тем хорошо делали свое дело; эти усилия казались просто смешными при виде тех жалких предметов, которые хотели спасти.
…Неужто на самом деле эти четыре покривившиеся стены с заклеенными бумагой оконными отверстиями можно назвать человеческим жилищем? И неужто должны были сохраниться эти признаки человеческой несправедливости для того, чтобы нищета продолжала гнездиться, для того, чтобы снова служить приютом Богом и людьми отверженной касте?
Все пять хижин едва занимали столько пространства, сколько занимала зала в прекрасном, гордом замке Грейнсфельд. Пять семейств помещались в этих полуразвалившихся стенах, которые сильный порыв бури мог бы превратить в кучу развалин, – в этой горсти спертого, нездорового воздуха и летом и зимой едва теплилась жизнь, отцветающая раньше своего расцвета… А в большой зале замка, которая видна была издали в эту минуту, стояли мертвые бронзовые фигуры на своих мраморных пьедесталах, и хрустальные украшения покачивались в воздухе, которым некому было дышать; а когда буря бушевала за стенами, штофные занавеси окон оставались неподвижны, крепкие ставни оберегали бронзовые фигуры, люстру и гардины от малейшего бурного дуновения непогоды…
Ужасный шум слышался в этом доселе тихом селении. Португалец сопровождал Гизелу до самых ворот замка, по-прежнему готовый схватить повод пугавшейся мисс Сары, затем он простился с ней молча, низким наклоном головы.
Оттуда он как вихрь понесся к месту пожара. Гизела поднесла руку к бьющемуся сердцу; в первый раз с тех пор, как она перестала быть ребенком, глаза ее затуманились слезами. Она даже не имела мужества поблагодарить его за услугу; она как бы оцепенела от его придворно-рыцарского поклона, который запечатлевал в ее памяти на всю жизнь неизгладимо горестное воспоминание… Вероятно, он вздохнул свободно, что роль его, как защитника, была окончена! И когда пожар будет потушен, он снова вернется в круг придворных… Прекрасная, с черными локонами фрейлина, верно, не рвала тех цветов, которые увядали сейчас в каменоломне, – с ней, вероятно, он будет говорить еще сегодня же; они будут гулять вдоль озера, и среди разговора он расскажет ей, как спас от пламени какую-нибудь жалкую рухлядь и не дал сломать шею бешеной, неразумной девушке…
Глава 23
Гизела въехала в сад, спрыгнула с мисс Сары и привязала ее к ближайшей липе. Из прислуги никто еще не вернулся с ярмарки в А., кругом была мертвая тишина. Только издали, ближе к замку, мелькало между кустарников светлое женское платье и соломенная мужская шляпа. Гизеле показалось, что это была госпожа фон Гербек в сопровождении доктора, прохаживающегося быстро взад и вперед.
Она вышла из ворот и пошла по верхней улице селения.
Там, по обе стороны дороги, стояли вновь выстроенные дома нейнфельдских чернорабочих.
Еще никогда нога девушки не ступала на это место – более чуждым, чем чувствовала себя владелица поместий среди этих жилищ и жизни, которая представилась ее глазам, не мог бы чувствовать себя и посетитель Помпеи.
Все имущество из горящих домов принесено было сюда… Какая жалкая куча! И этому источенному червями, негодному к употреблению хламу, к которому она едва могла прикоснуться ногой, давали громкое название: собственность!
Группа женщин стояла возле и с волнением и вздохами рассуждала о пожаре. Дети, напротив, радовались необычайному происшествию и его последствиям. Вытащенные столы, скамейки и грязная постель, очевидно, представлялись им привлекательнее здесь, под открытым небом, чем в темной каморке; маленькие головки, вполне счастливые и довольные, выглядывали из импровизированного «домика», в котором они копошились.
Гизела подошла к женщинам – они испуганно смолкли и боязливо отошли в сторону.
Если бы луна спустилась с неба и стала разгуливать по деревне, их, кажется, это менее бы смутило, чем эта белая фигура, так внезапно появившаяся среди них; ибо луна была их старым добрым другом, на приятный лик которого они привыкли глядеть безбоязненно с самых малых лет, а эту знатную девушку они видывали лишь издалека, и то покрытую вуалью, верхом на лошади или в карете.
– Не ранен ли кто-нибудь при пожаре? – спросила Гизела ласково.
– Нет, милостивая графиня, до сих пор – слава Богу – никто!
– Только у ткача сгорела коза, – сказала одна старая женщина. – Он стоит там – чуть не выплакал все глаза с горя.
– А нам негде будет ночевать сегодня ночью, – жаловалась другая. – Три семейства могут поместиться в новых домах, не более, – нам нет места, а у нас ребенок, у которого прорезываются зубки.
– Так пойдемте со мной, – сказала Гизела. – Я могу всех вас поместить.
Женщины стояли как вкопанные, боязливо переглядываясь.
…Им идти в замок! Спать там с больным ребенком, который кричит день и ночь! Да все бы это ничего, но злющая старая барыня, от которой прячутся даже мужчины на селе!
Гизела не дала им времени долго раздумывать.
– Берите вашего ребенка, милая, – сказала она женщине, – и пойдемте со мной. У кого еще нет приюта на ночь?
– У меня, – нерешительно произнесла одна девушка. – Наш домишко стоит еще пока, и люди говорят, что могут его и отстоять – нейнфельдские пожарные трубы поспели вовремя, – но войти в него нельзя будет, он промокнет насквозь… Но, милостивая графиня, у меня дедушка да отец с матерью, брат, сестры и старая слепая тетка.
Гизела улыбнулась. Какой утешительной и освежительной прелестью веяло от этого молодого и чистого существа!
– Ну, вам всем будет у меня место, – сказала она. – Ведите все ваше семейство – я пойду позабочусь о жилище.
Девушка радостно вскочила, женщина же взяла на руки своего больного ребенка, а двое других уцепились за ее юбку. Она попросила соседку сказать ее мужу, который еще не вернулся из А. с ярмарки, где она будет, и с бьющимся сердцем последовала за молодой графиней.
Гизела отвязала лошадь, взяла ее за повод и пошла по аллее, которая вела в замок.
В это время на дороге показалось светлое женское платье, которое она видела прежде и которое летело к ней, как бы гонимое ветром. Девушка почувствовала некоторый род сострадания к маленькой толстой женщине, вся фигура которой носила на себе отпечаток ужаса и отчаяния.
Сначала она бежала с распростертыми руками, причем широкая мантилья ее надувалась как парус, потом всплеснула руками и опустила их.
– Нет-нет, милая графиня, это уж слишком, этого я не могу вынести! – вскричала она, задыхаясь. – Селение горит, наша безбожная прислуга, кажется, забыла вернуться домой, и вы исчезаете на целый час!.. Я нередко выношу ваши капризы – любовь и привязанность облегчают мне все, – но эта выходка, которую устроили вы сегодня, уже переходит за пределы всего! Извините меня, но с этим надо покончить!.. Не успела я на минуту закрыть глаза, как вы сейчас же воспользовались моей слабостью, чтобы без моего ведома оставить замок. Нет-нет, это непростительно!.. Меня будит шум и беготня, первая моя мысль о вас, я бегаю по всему дому и саду, бегу в горящее селение – но никто не видел вас… Спросите доктора, что было со мной!
Господин в соломенной шляпе, который пришел с нею, подтвердил ее слова, кивая и с почтением раскланиваясь с молодой графиней.
– Чрезвычайно, чрезвычайно беспокоились! – произнес он жалостным тоном.
– Скажите на милость, что за идея пришла вам в горящий полдень кататься верхом? – допрашивала возмущенная гувернантка. – Где ваша шляпа?.. Как, без перчаток?
– Не думаете ли вы, что я каталась ради удовольствия и имела время соображать, какой цвет перчаток более подходящ к моему туалету? – прервала ее нетерпеливо девушка. – Я ездила за пожарными инструментами.
Госпожа фон Гербек отступила назад и снова всплеснула руками.
– И где вы были? – спросила она, едва переводя дыхание, дрожащим голосом.
– Я хотела проехать в Нейнфельд, но в лесу, на лугу, встретила мама и папа.
Ответ этот поразил гувернантку как молния, хотя у нее и хватило духу прибавить:
– Их превосходительства были одни?
– Откуда я знаю? Может, там было все придворное общество! – ответила Гизела, пожимая плечами. – Князя я узнала.
– Всемогущий Боже, князь видел вас? – закричала гувернантка вне себя. – Это моя смерть, доктор!
Она действительно была бледна как смерть, но и доктор также изменился в лице.
– Ваше сиятельство, – заикаясь, проговорил он, – что вы сделали!.. Это чрезвычайно огорчит его превосходительство!
Гизела смолкла и минуту задумчиво смотрела перед собой.
– Можете вы мне сказать, госпожа фон Гербек, почему князь не должен меня видеть? – вдруг спросила она, быстро взглянув в лицо гувернантке.
Этот прямой вопрос привел гувернантку в себя.
– Как, вы еще спрашиваете? – вскричала она. – Да разве вы не можете понять, в каком вы странном костюме?.. Я могу представить себе положение их превосходительств – они будут неутешны. Ваш странный поступок никогда не простят вам при дворе, графиня! Будут шептаться и подсмеиваться всякий раз, как станут произносить имя Штурм… Милосердный Боже, а как это сойдет с рук мне, несчастной!
– И мне это чрезвычайно горестно, ваше сиятельство, убеждаться всякий раз, что все мои медицинские наставления уносит ветер, – проговорил врач. – Неужели я должен начать снова объяснять вам, что дамоклов меч ежеминутно висит над вами?.. Легко могло случиться, что ваши ужасные припадки разразятся на глазах всего двора. Какой бы это был скандал, ваше сиятельство! – добавил он, поднимая вверх указательный палец.
Человек этот дрожал от злобы, и можно было только удивляться, с какой мягкостью и покорностью он мог в это время опускать свои вытаращенные, слезившиеся глаза.
– Мне кажется чудом, что после такой разгоряченной езды я вижу вас стоящей предо мною без нервного волнения, – продолжал он.
– И я также считаю это чудом, – прервала его девушка, стоявшая до сих пор с нахмуренным лбом и очень равнодушно принимавшая сыпавшиеся на нее упреки. – Однако, казалось бы, это не должно вас удивлять более, господин доктор, ибо вы видите меня такой ежедневно уже полгода.
В это время где-то неподалеку раздался детский плач. При виде гувернантки бедная женщина с детьми скрылась в ближайшем кустарнике. Она предпринимала возможные усилия, унимая детей, чтобы их не заметила злая барыня. В эту минуту от нее вырвался ее младший мальчик. Он выскочил на дорогу и старался беспрестанным «ну, ну!» вывести из себя мисс Сару.
– Что это значит? Как ты сюда попал, мальчик? – спросила с удивлением госпожа фон Гербек.
В этот момент из-за кустарника выступила с озабоченным лицом мать мальчика.
– Женщина эта погорела, – объяснила Гизела.
– А, очень жаль, милая, – сказала гувернантка более мягким тоном. – Рука Господня тяготеет над вами, и, к несчастью, вам это самим хорошо известно, это нельзя назвать незаслуженным испытанием… Вспомните только, как часто я вам говорила, что наказание Божие не замедлит; вы все живете в нечестии изо дня в день, и никогда у вас нет времени для молитвы… Ну, я не буду более говорить, вы и так довольно наказаны… Идите с Богом, я посмотрю, можно ли для вас что сделать.
– Куда она пойдет, госпожа фон Гербек? – спросила Гизела спокойно, хотя щеки ее слегка покраснели. – Вы слышали, что дом у этой женщины сгорел и потому она лишена всякого пристанища.
– Но, Боже мой, как я могу знать, куда она может идти? – возразила госпожа фон Гербек с нетерпением. – В селении немало домов.
– Но не для пяти бесприютных семейств, – проговорила девушка, ее прекрасный гибкий стан выпрямился, во всем облике чувствовалась власть. – Женщина останется в замке со своим мужем и детьми, – объявила она решительно. – И не только она одна, но сюда придет еще второе семейство… Поди сюда, малютка! – И, взяв за руку ребенка, она была готова продолжать свой путь.
– Праведный Боже, какое сумасшествие!.. Я протестую! – вскричала госпожа фон Гербек и, вытянув руки, преградила девушке дорогу в замок.