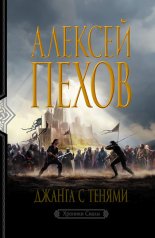Саквояж со светлым будущим Устинова Татьяна

Он замахнулся, но ударить Лиду не смог или просто передумал, и было во всем этом какое-то форменное свинство, как определила про себя Маша Вепренцева, которая ненавидела публичные семейные скандалы.
— Если Стаса не было в кустах, откуда он взялся на дорожке?
— Та приихал я! — сказал Стас, и фыркнул, и покрутил головой из стороны в сторону. — Приихал и шел по дорожке, а тама — вы! Заблукали!
— Я не заблудилась — с досадой возразила Маша, которой почудилось в этом что-то унизительное. — Я просто… гуляла.
— Послушайте, — подал голос Игорь Веселовский, — сколько это будет продолжаться?! Вы же обещали сообщить нам, кто убийца, а говорите пока какую-то ерунду. Вся тусовка знает, что Поклонные день и ночь… того… друг друга любят. Любят и любят, остановиться не могут! А убил-то кто?
— Вы и убили, — сказала Маша Вепренцева. — Вы убили Бориса Дмитриевича Головко, потому что он был очень встревожен вашей связью с его сыном. Он опасался, что перед выборами все откроется. Он вам, наверное, угрожал и загнал вас в угол…
Игорь Веселовский, красавец, талант, звезда отечественного телевидения, посмотрел на Машу с трудноопределимым выражением лица.
— Во-он как, — протянул он, — заня-ятно!
— Маша? — строго спросил Родионов. Он вообще все время на нее сердился, с самого утра, потому что никак не мог ее контролировать. Ну никак!
Лида засмеялась.
— Игорек? — весело удивилась она. — Так ты и вправду гомик?!
Вот пойди и пойми, притворяется она или на самом деле такая дура?!
— Головко назначил вам встречу, правильно я понимаю? Именно в этом доме, потому что здесь много народу, прием и ваш разговор с ним прошел бы незамеченным — подумаешь, один гость наедине поговорил с другим! О вашей связи со Стасом вообще никто не должен был знать. Он сам узнал, наверное, потому что Стас часто отлучался в Москву, ведь вы в Киев регулярно ездить не могли — у вас еженедельное шоу на телевидении. Очевидно, старший Головко кого-то нанял, и за Стасом проследили, отцу донесли, у кого он останавливается, и, зная наклонности сына, Головко сделал выводы… Так ведь? Он предложил вам денег, верно? А потом, когда вы отказались, скорее всего, пригрозил, что вас где-нибудь по-тихому убьют и не найдет вас никто и не вспомнит. Пока все правильно, Игорь?
— Говорите, говорите, — улыбнулся Веселовский. — Я слушаю.
— Вы вышли из себя, потому что вы вообще… страстная натура, романами увлекаетесь! Вы вышли из себя и убили его, причем с особой жестокостью. Но у вас не было никакого состояния аффекта, Игорь! То есть решительно никакого, потому что нож и костюм вы принесли с собой.
— Какой костюм? — спросил Весник. На лбу у него образовалась складка, и вид был встревоженный.
— Официанта. Веселовский в нем ушел из комнаты, в которой совершил убийство, — пояснила Маша. — Он привел Головко в мою комнату будто в свою, но это случайно получилось. Да, Игорь? Просто нужно было его убить в какой-то комнате, и вы решили в моей. Ведь у Головко нельзя было поговорить, он небось боялся, что жена помешает или Стас. Правильно я понимаю? Вы поговорили, вышли из себя, кинулись на него с ножом и убили. Вас залило кровью, и пришлось отмываться в соседней. Рядом с трупом не хотелось. Вы были так в себе уверены, в себе и еще в том, что все внизу ждут, когда великий Тимофей Кольцов окажет им честь своим появлением, что даже не особенно прятались. Только потом темный парик надели.
Веселовский пожал плечами:
— А вас-то куда понесло? Все ждали Кольцова, а вы почему не ждали?…
— Мне нужно было книжки принести Дмитрию Андреевичу, — словно оправдываясь, сказала Маша. — Я и пошла.
— Пошла, — повторил Веселовский и протянул: — Поня-атно.
— Потом, когда мы с Родионовым поднялись на второй этаж, нам навстречу попался официант. Это были вы, Игорь, в пиджачной паре и галстуке-бабочке и в парике. Накануне вы рассказывали, что сценические костюмы позабыли, а черные пиджаки никогда не носите. А в машине у вас черный костюм висит на вешалке. И еще фотография! Я все думала, зачем вы ее выбросили или заставили Стаса выбросить! Все рассматривала ее, и ничего там не было подозрительного, а потом я сообразила. Стас сидит на диване, а на столике перед ним лежат ваши сигареты. Коричневая пачка, очень приметная. Вы утверждали, что ни с кем из гостей не знакомы, кроме Поклонных, и здесь в первый раз, тогда откуда у Стаса дома ваши сигареты? Стас демонстрировал мне свои прелести, запечатленные на фото, и ему даже в голову не пришло, что это может быть опасно! А вы-то, конечно, сообразили. И от фотографии избавились. Да, и еще! В тот день вы приехали позже всех, по крайней мере, вы так утверждали, Игорь. А мне из Киева звонила Ольга Иванова, сказала, что головная боль у всех, потому что дождь идет уже час. Ехать сюда двадцать минут. Если бы выехали поздно, вы бы попали под дождь, а вы не попали, потому что у вас чистая и сверкающая машина, ни одной капли нет, значит, приехали вы до дождя. Если бы ехали позже, все равно машину бы запачкали. Лужи кругом, грязь и все такое!
Веселовский, прищурившись, смотрел на нее.
— И еще вы ошибку сделали, Игорь. Раньше, в Москве. Вы назвали меня Мария Петровна, помните, у Весника в кабинете, а мы с вами до этого никогда не виделись, и вряд ли Илья, даже если он про меня вам рассказывал, называл меня по отчеству. А вы знали мое отчество. Заранее. Значит, что-то про нас выясняли, да? Вы про нас выяснили и позвонили сначала нам в офис, а потом в офис Кольцовым, или наоборот, с какими-то нелепыми угрозами, но и в одном и в другом случае вы сказали, чтобы мы не ездили в Киев! А звонили вы, чтобы при случае мы могли бы в один голос заявить, будто накануне визита неизвестные преступники угрожали и Тимофею Ильичу, и Дмитрию Андреевичу! А Головко якобы маньяку просто под руку попался! То есть убийство вы планировали заранее, задолго до приезда сюда. Так что не было никакого аффекта! Один голый расчет.
Она помолчала.
— И в издательство тогда вы приезжали, чтобы убедиться, что мы-то уж точно собираемся ехать, несмотря на ваши угрозы, — вам ведь обязательно нужно было, чтобы мы поехали, чтобы прием состоялся, потому что именно во время приема вы и собирались убить Головко! Весь ваш план провалился бы, если бы мы не полетели — народу мало, и вы были бы у всех на глазах, а вам это не подходило! Вот вы и напросились к Веснику на кофе с коньяком! Или что вы пили? Чай?
Веселовский пожал плечами. Он все рассматривал Машу Вепренцеву, и даже какая-то удаль была у него в глазах, гордость, что ли?…
Все остальные потрясенно молчали.
Стас Головко медленно поднял обе руки, будто собирался помолиться, и, застонав, закрыл ими лицо. Щеки у него были серыми. Маша никогда не видела раньше таких серых щек.
— Кстати, куда вы дели одежду, в которой… убивали? Крови было очень много, вы непременно должны были… должны были…
— Ну что ж ты? — спросил Веселовский насмешливо. — Или потрохов не хватает? Да, крови было много, очень много, из него лило, как из свиньи. Я даже удивился, что из него так лило! И он еще ползал по полу, потому что не сразу умер! А я его убивал! А он ничего не мог со мной сделать, потому что я сильнее и я боролся за свою жизнь! Он посмел мне угрожать, мол, убьет меня, если я не откажусь от своей любви. Как в той книжке!
Родионов вздрогнул. Ему вдруг стало плохо, нечем дышать, и перед глазами поплыло, словно после сильной физической нагрузки, но он справился. Справился, потому что его вдруг взял за руку Сильвестр. Ручка его была узкая и холодная, испуганная и немножко скользкая, потому что именно в ней он держал пирог.
Родионов сдавил эту испуганную детскую ручку, и его чуть-чуть отпустило.
Стас хрипло крикнул и затряс головой. На него никто не обратил внимания, даже мать, которая сильно побледнела и смотрела на Машу немигающими горящими, страшными глазами.
А Маша поняла, что задела Игоря за живое, на что она и не рассчитывала.
— Крови было много! — с удовольствием повторил Веселовский. — И я был весь в крови. Только я прихватил с собой сумку, в которой лежали костюм и чистая рубаха, все наготове. А в дом я прошел через черный ход и поднялся наверх. Вошел в самую дальнюю комнату, не знал, чья она. Там сумки стояли. Я позвонил на мобильный Головко и сказал, где я. И этот козел пошел на собственную казнь. Когда он подох, мне нужно было помыться и переодеться. Я точно знал, что все эти идиоты-гости будут торчать в гостиной, потому что им обещали встречу с сильными мира сего! — Он закинул голову и засмеялся, от души засмеялся. — Вы же не подозревали, что одного из них я уже прикончил! Прикончил сам, своими собственными руками. Вы все торчали внизу, а он уже к тому времени давно подох, как свинья! Свинья, которую я сам зарезал! Он хотел все у меня отнять, даже жизнь, а я его остановил! Я зашел в соседнюю комнату, принял душ и переоделся. А грязное барахло запихал в сумку, только и всего! И опять через черный ход для прислуги ушел, только когда на первый этаж спускался, на вас наткнулся.
— Вы врете, — подумав, заявила бледная Маша Вепренцева, — когда мы вас встретили на лестнице, вы в руке держали только серебряный поднос, и все. Никакой сумки не было. Кстати, когда я вспомнила про поднос, то поняла, что официант мог быть замешан, потому что на таких серебряных подносах во всех комнатах стоят вазы. Вы взяли поднос из комнаты.
— У-у ты какая! — радостно сказал Веселовский. — Как это я тебя не заметил, когда ты в комнату влезла! Лежала бы сейчас рядышком с дяденькой, и никто бы никогда… А сумку я, милая, в окошко вытолкнул. Из коридора, там все окошки под глухую стену выходят. А потом по лестнице спустился, подобрал ее и в Днепр с обрыва кинул. И никто из вашей гребаной охраны не обратил на меня внимания! А я мимо всех прошел с этой сумкой! Но всем ведь на официанта наплевать, да? Кто такой этот самый официант?! Разве же он человек?! Официант не может быть человеком, он же прислуга, собака последняя! Ну, тащит он сумку, да и хрен с ним! А я до Днепра дошел, камушков в нее навалил — и с обрыва бултых!…
— Как же вы успели сменить костюм?
— А ведь костюм я и не менял, я ведь сказал, что не люблю черные пиджаки, а отнюдь не брюки. Когда я приехал, то взял из машины сумку, засунул в нее черный смокинг и свой светлый пиджак. Пока шастал по участку с разведкой, меня никто не встретил, а если б встретил, я сказал бы, что заблудился. Посмотрел самый короткий путь к Днепру, потом вышел к бассейну. Там уже никого не было, но я для порядка в кустах посидел. Пиджак оставил в крайней раздевалке и пошел в дом. Далее известно: убил, вымылся, переоделся в смокинг официанта, с кровавым барахлом в окно и прочь из дома. Ну, а потом сбросил сумку в Днепр, добежал до раздевалки, переоделся. И обратно сюда. А уж когда почтенная публика стала расходиться, я потихоньку отнес черный пиджак в машину. Ну и тут ты, Пуаро и Марпл в одном флаконе, труп нашла.
— А нож вы тоже в сумку бросили?
— Да что же я, дурак, что ли? — обиделся Веселовский. — А если бы ее на следующий день течением вынесло? Нож вы не найдете. Барахло с убийством бы точно не связали, а нож — вполне могли связать. Надо же, у них только что кандидата в президенты зарезали, почти на глазах у почтенной публики! — Он опять с удовольствием засмеялся. — Вот если бы не ты, паскуда!…
Про «паскуду» Маша не стала слушать и сказала:
— Головко надеялся вас подкупить или запугать. Он только было поверил в то, что у сына все может быть, как… у нормальных людей. Девушка, свадьба, семья. Он Олесю готов был на руках носить, а тут вы появились, и все вернулось, и девушку Стас бросил. А вы обозлились. Никто не смеет отнимать у вас вашу собственность! Никто не смеет угрожать вашей жизни.
— Вы все равно ничего не докажете, — заявил Веселовский, став равнодушным. — Ничего и никогда.
— Да мы и не станем, — холодно сказала Катерина Кольцова, и в гостиную вошли два охранника ее мужа. — Мы и без доказательств разберемся уж как-нибудь.
И они «разобрались».
***
— Маша, где роман?!
Никакого ответа.
— Маша, где роман, я тебя спрашиваю?!
Молчание, и больше ничего.
— Маша!
— А? Вы меня зовете, Дмитрий Андреевич?
Она появилась на пороге — волосы причесаны идеально, в руках ежедневник и ручка. Для идеального образа идеальной секретарши не хватает только очков. И как она успевает подхватить все свои причиндалы, чтобы выглядеть идеальной секретаршей всегда и во всем и при любых обстоятельствах!? Или она специально кладет их под дверь и хватает, как только он ее позовет?!
— Маш, где файлы последнего романа?
Она пожала плечами.
— Там же, где и были, Дмитрий Андреевич. У вас в компьютере.
— А почему они в компьютере, когда я тебя просил еще утром отправить их в издательство?!
— Я отправила, Дмитрий Андреевич, сразу же, как только вы мне об этом сказали.
— А почему Марков мне звонит и говорит, что они ничего не получили?!
Маша Вепренцева пожала плечами.
— У нас так бывает. Почта не всегда работает четко.
— Почтальонам мало платят?
— Электронная почта, — объяснила она совершенно серьезно. — В ней не предусмотрены никакие почтальоны, Дмитрий Андреевич. Но мы ведь собирались сегодня поехать в издательство, так что захватим рукопись с собой.
— Вот и скажи это Маркову.
— Хорошо. — Она кивнула — образец сдержанности и деловитости. — Это все, Дмитрий Андреевич?
Он крутанулся в кресле и еще покачался из стороны в сторону. Ему не хотелось, чтобы она уходила, и он никак не мог придумать, как бы ее задержать.
— Дурацкий роман, — буркнул он сердито. — Как все началось по-дурацки, так и закончилось. По-моему, ерунда какая-то получилась.
Она помедлила на пороге, потом прошла и села в кресло, рядом с его письменным столом.
— А по-моему, ничего.
— Да ладно! Я в такую… ерунду никогда в жизни не попадал.
— Все уже закончилось, — философски заметила Маша Вепренцева. — Все нормально.
— И в Киев я больше никогда не поеду, — продолжал Родионов сердито, — ужасное место.
— Прекрасный город, — возразила Маша. — Жаль только, мы его и не видели совсем. Нам надо туда просто так поехать, без работы. Он вам понравится, Дмитрий Андреевич, обещаю вам.
— Да не надо мне ничего обещать, — вдруг вспылил Родионов. — Обещает она мне!
Они помолчали, вспоминая каждый свое.
Очень много всего случилось в прекрасном городе Киеве. Так много, что и не осознать сразу.
— Звонила Катерина Дмитриевна, — проинформировала Маша. — Надежда Головко в больнице, а ее сын в психушке. Против Веселовского все улики косвенные, кто-то видел его машину недалеко от дачи «поэтессы» задолго до того, как он появился на приеме. Выяснилось, что Головко предупредил охрану на даче, что приедет телеведущий, да и охранники на воротах показали, что он приехал намного раньше, чем появился на приеме. А нож не нашли… Мне почему-то в этой истории больше всех жаль Надежду.
Родионов пожал плечами:
— Каждый получает по заслугам.
— Да бросьте вы, Дмитрий Андреевич, она ни в чем не виновата!
— Да ладно! Она что, всю жизнь не видела, что с ее ребенком не все… в порядке?
— Что значит… не в порядке?! Он же не инвалид и не больной! Он просто… нетрадиционной ориентации!
— Вот именно. И к чему это привело, а?
— Дмитрий Андреевич, — строго сказала Маша. — Вы судите чужую жизнь, не имея о ней никакого понятия. Вы же ничего не знаете!
— А ты знаешь?
— Мне Катерина рассказала, что эта Надежда несчастнейший человек! Муж ее знать не хотел, все с какими-то девицами путался, это потом, перед выборами, его приперло, и он о жене вспомнил, а до этого сослал ее в деревню какую-то, как в монастырь, без денег, без всего! А ей только со всех сторон докладывали, где он, с кем и почем им платит!
— Ну и что? — упрямо спросил Родионов. — Она что, не знала, за кого выходила замуж?!
— Ну, а если и знала?
— А развестись? Слабо?!
— Бывает так, что нельзя развестись, Дмитрий Андреевич.
— Да ладно тебе!
— А тут еще сын! То есть получилось, что из-за сына погиб отец! Из-за сына и его связи с этим психом Веселовским, а она ничего не могла поделать. Кстати, Кольцова сказала, что на следствии выяснилось, что у Игоря бывали нервные срывы с детства. Конечно, Надежда мужа терпеть не могла, но все же он был отец ее сына!
Родионов пожал плечами. Все это его нисколько не убеждало.
— Все в жизни можно изменить. Маша, — сказал он сердито. — И ты это прекрасно знаешь. Ты сама племянников в детдом не сдала, а растишь и… Кстати, эта ваша Эмма не объявлялась?
— Элла, — поправила Маша. — Нет, Дмитрий Андреевич. Пока все тихо.
— Значит так, — продолжал Родионов. Собственно, весь этот разговор он и затевал, чтобы это сказать. — Больше ты никогда не платишь ей никаких денег и не вступаешь ни в какие переговоры. Если она появляется на твоем горизонте или кто-то из ее дружбанов, первое и единственное, что ты должна сделать, это позвонить мне. И больше ничего ты делать не должна.
— А вы что предпримете?
— А вот эта моя забота.
— Но… Дмитрий Андреевич…
— Никаких «но»! Ты поняла?
— Это мои проблемы, — сказала она и отвела глаза. — Я не хочу втягивать вас в них.
Он поднялся из-за стола, засунул руки в карманы джинсов и подошел к ней. Некоторое время он стоял над ней, а потом сказал веско:
— У тебя больше нет никаких «твоих» проблем. У тебя есть я.
Вдруг словно солнце ударило ей в лицо. Она улыбнулась и зажмурилась.
— Вы?
— Да, — твердо заявил Родионов, рассматривая ее. — Да.
— Это невозможно, — сказала она, и солнце пропало, зашло за тучи. — Я так не умею. Мне нужно все или ничего.
Родионов кивнул.
Она рассматривала его так, как не рассматривала никогда, — исподлобья и очень внимательно. Ему даже неловко сделалось, и как будто чуть-чуть взмокла спина от ее взгляда.
— Ты чего?… — спросил он, помолчав. — Ты чего, Маша?
Нельзя ничего этого делать, она точно знала, что нельзя, но дальше продолжать играть в «ограничения и рамки» было невозможно.
«Я взрослый человек, — сказала она себе мрачно. — Чего я так уж боюсь?! Ну чего?!»
«Ты боишься, что, поставив все на одну карту, ты все и проиграешь, разом, чохом, и тогда останется только найти укромный уголок, заползти в него и застрелиться, как делают все, кто проигрывается в пух и прах без надежды отыграться».
«Если я сейчас скажу это, надежды отыграться не будет никакой. Взять обратно эти самые слова — невозможно. Как невозможно остановить время или повернуть ветер. Невозможно».
— Маша! — воскликнул Родионов раздраженно. — Что такое? У меня сейчас на лбу будет дырка. Не надо так на меня смотреть!
— Я вас люблю, — мрачно сказала Маша, словно говорила, что терпеть его не может и собирается завтра уволиться, только чтобы век его не видеть. — Я вас люблю, Дмитрий Андреевич.
— Я знаю.
— Как?!
Она ждала, что сейчас он начнет метаться из угла в угол, опрокинет кресло и начнет кричать, что ничего этого нет, потому что не может быть никогда. Маша будто даже слышала, как он кричит, и видела, как ей приходится отступать за дверь, зажимать ладонями уши, только чтобы ничего больше не слышать и не видеть, а он сказал, что… знает?!
Он знает?!
— Вы… не поняли меня, Дмитрий Андреевич?
— Это вы не поняли меня, Марья Петровна.
Тут он ушел к окну, где в раздражении принялся обдирать лепестки с фиалки альпийской, только распустившейся нежными, тоненькими цветочками. Фиалку содержала на подоконнике домработница и очень ею гордилась. Мимоходом Родионов подумал, что домработница не простит ему ободранных лепестков, и тут же забыл об этом.
— Маша, я принял решение, — сказал он высокомерно, потому что плохо представлял себе, что именно должен говорить. О родстве душ?… О единении целей?… О том, что он нечто такое осознал и понял?… — Я принял его уже давно, и с тех пор… с тех пор… Короче, когда мы с тобой поцеловались в том гребаном доме… То есть когда я тебя поцеловал в том самом доме…
— Да? — заинтересованно и безмятежно спросила Маша Вепренцева, видимо, решившая играть по каким-то своим правилам. — Что?…
У него опыт, черт возьми!
Он был дважды женат, ведь как-то он объяснялся тогда со своими будущими женами, и даже с успехом, раз они все-таки соглашались выйти за него замуж!… Только… как? Как?!
Он не мог вспомнить, а Маша, черт бы ее побрал, ничем ему не помогала, и он точно не мог сказать, что это — часть хитроумной женской игры, эпизод в ее сценарии или она и вправду ничего не понимает?!
— У тебя дети, — объявил Родионов, мрачнея с каждой секундой. — Мальчик и…
— Мальчик, — подсказала Маша. — Это из кино.
— Какое, к черту, кино?! — возмутился Дмитрий Андреевич. — Ну что такое, а?
— А что такое?
Он, перестав обдирать фиалку, сел на подоконник и скрестил руки на груди. Из романтического объяснения ничего не выходило.
— Ты ничего не понимаешь, да? — спросил он язвительно. — Ничего-ничего? Или тебе нравится, как я тут извиваюсь, словно червяк, перед тобой?
— Вы… извиваетесь?
— Маша!
Она подошла и стала рядом, так что рукав его рубахи касался рукава ее пиджака, и принялась рассматривать его близко-близко.
Раньше она никогда не подходила так близко, только тогда, в том сумасшедшем доме на диване зеленой кожи, они были рядом, но это не в счет…
Не в счет. Не в счет. Сердце стучало, отбивая простые слоги.
Он знал: для того чтобы успокоиться, надо медленно думать, и он стал медленно думать о том, что он скажет ей, как важно, что она рядом с ним, как ему хорошо работается, когда он точно знает, что она за стенкой или на кухне, варит ему кофе или когда она с таким умным и деловым видом составляет его расписание, а потом теряет записную книжку и бегает по всему дому и ищет ее. И еще он должен сказать, что тогда, на море, он только и делал, что смотрел на нее, и это было не слишком весело, потому что, насмотревшись, он плохо спал по ночам, и то, что ему при этом снилось, даже в роман нельзя вписать в качестве чьей-то больной фантазии — обвинят в распространении непристойных текстов, и будет скандал, то-то Марков порадуется!… Он никогда не признавался ей в этом и был уверен, что так и не признается — зачем?! Все и так хорошо, отлично просто — она рядом и никуда не денется, и он завладел ею, ее временем, ее мыслями, ее умом и душой, а тело… ну, телом-то вовсе не обязательно, тел можно найти сколько угодно, он и так прекрасно обойдется, ему сложностей не надо, «равнодушный» он…
Он медленно думал все эти думы, и это совершенно не помогало, потому что Маша стояла рядом и молчала, а он отлично понимал, что все эти мысли — вранье.
Вранье.
Слова церковного обещания быть вместе «телом и душой» всегда представлялись ему надуманными, слишком уж поучительными, слишком… прямолинейными какими-то. Он никогда и ни с кем не был вместе… душой, с телом получалось значительно проще.
Он понятия не имел, что будет, если соединить все. Взрыв? Смерч? Электрическая дуга в три тысячи вольт?…
Зато он точно знал, что все это будет сложно. Так сложно, как никогда, и сложно будет долго, всегда!…
Он не отделается от нее, а Маша не отделается от него, и он станет переживать, если вдруг случайно ее обидит, и ходить за ней, и просить у нее прощения, и маяться, если прощения получить не удастся, хоть ему вовсе не хочется ничего этого делать! Он станет есть сваренные ею макароны, смотреть с ней кино, возить в школу ее детей, поздравлять с днем рождения ее мать — даже если вместо всего этого им планировались другие, гораздо более увлекательные занятия.
Он убьет ее, если она будет ему изменять, — вот просто убьет и все тут, и наплевать ему, что все это дикость и варварство, и вообще он нынче отлично понимает Отелло, венецианского мавра, а всегда думал, что это выдумки, желание «подпустить трагизма»!
И ничего этого ему вовсе не хочется, но по-другому нельзя, по-другому не получается, потому что, собственно, это и есть жизнь. А все остальное — капризы, качание ногой, дорогая машина, дорогая барышня, красное вино, неорганизованность, и «Я опять потерял рукопись!», и еще «Я никуда не годный писатель!», и еще так: «Мне не дают работать!» — вот все это вовсе не жизнь, а роман. Роман из жизни вальяжного гения, которых не существует в природе, которых придумывают писатели и сценаристы!…
Дмитрий Родионов взял свою секретаршу за локти, притянул к себе, так что ее грудь оказалась прижатой к его груди, и кровь вдруг ударила ему в голову.
На самом деле ударила. Как будто кулаком в висок. Пришлось сцепить зубы и подышать немножко.
— Я не хочу без тебя, — сказал Родионов, отдышавшись. — Я хочу с тобой. И тебя.
Она откинула голову и посмотрела ему в лицо.
— А… это возможно? Мы так давно вместе, и вы никогда ничего не хотели, а я… мне всегда так трудно было, особенно когда у вас свидание! Мне казалось, что я умру, если вы утром не приедете, а останетесь там. Но вы всегда приезжали.
Он ничего не понял. Куда он приезжал? Зачем он приезжал? Какие такие свидания?…
Нет, все-таки женщины и мужчины устроены не просто по-разному. Адам был простой и понятный парень, а с Евой дело пошло плохо. Так плохо, что и по сей день мужчина слышит совсем не то, что женщина ему говорит!
— …я думала, что просто буду работать с вами и ждать, но это так трудно, Дмитрий Андреевич!…
Вот тут он был с ней полностью согласен. Вот тут она права совершенно.
Трудно. Так трудно, что даже зубы болят — оттого что сжаты слишком крепко.
Маша еще что-то говорила, а потом вдруг посмотрела ему в лицо, замолчала на полуслове и обняла его за шею.
Просто обняла, и все.
Дмитрий Родионов щекой почувствовал ее дыхание, волосы на виске и взял в ладонь ее шею, оказавшуюся странно тоненькой, он и забыл, что она такая тоненькая.
Значит, душой и телом, да?… Почему так? Потому что одно без другого теряет всякий смысл? Потому что… неинтересно?
Он поцеловал ее сначала легко, а потом, вдохнув, глубже, и еще глубже, а на следующем вдохе он уже забыл о душе и теле, и о том, что это было для него почему-то важно.
В голове у него осталась только одна мысль, и она заняла все свободное место, которого было много — больше никаких мыслей не осталось!… Он все время думал и помнил о том, что это Маша, его Маша, с которой ему всегда было так легко и свободно, которая знает о нем все, даже сколько ложек сахара он кладет в кофе и какой у него размер ноги! Это она так прижимается к нему, это ее грудь, щека, губы, ответившие ему вдруг с неожиданной силой, которой он от нее не ожидал!
Это все она, и от этого так легко и так… страшно.
Он снял с нее пиджак и зачем-то затолкал за себя, на подоконник, где стояла ощипанная альпийская фиалка, и задрал на ней короткий топик, и попробовал ее на ощупь и на вкус, там, где на шее билась голубая жилка, и вдруг оказалось, что она расстегнула на нем рубаху, а он заметил это, только когда вдруг осознал, что кожа на груди как-то странно и болезненно натянулась.
Он понял, что куда-то нужно идти и что-то такое делать, только когда она почти повисла у него на руках и целовала его куда попало — в живот, в грудь, в бок.
Остаться в кабинете он не мог.
Не мог, и все тут.
Даже в нынешнем сумасшедшем угаре он почему-то твердо знал, что на этот раз все должно быть «по-человечески». Не на полу, и не наспех, и не…
Подхватив ее под спину, он повел ее к двери, и тут Маша сообразила, что они куда-то идут.
— Ты меня выгоняешь?
— Нет.
— Мы… идем гулять?…
— Нет.
— Дима?
Он не мог говорить, и ему было дико, что она этого не понимает! Простой парень Адам вместе со своим создателем тоже, видимо, все время был озадачен тем, что Ева проделывала в райских кущах. Где там разобраться?!
Он толкнул дверь в спальню и зачем-то очень быстро заперся на ключ, хотя в доме, кроме них, никого не было. Но он заперся, выдернул руки, застрявшие в рукавах рубашки — даже в этой рубашке, развеселившей их, было что-то новое, отличное от того, что было до этой невесть зачем запертой двери! Он всегда спешил отделаться от своего желания, снова обрести свободу, и независимость, и ясность духа, и спокойствие тела. Он всегда отчаянно торопился, потому что медлить не было никакого смысла, нужно было только получить желаемое и больше не вспоминать об этом до следующего… сеанса.
Маша гладила его голую спину, и он готов был вечно стоять возле постели, только чтобы она гладила ему спину. Вот так. И еще так. И еще так немножко. Совсем чуть-чуть.
Странное дело, но она словно была настроена на него, на его волну, частоту или черт знает на что. Она точно знала, что он думает и чувствует, чего боится и о чем беспокоится, — может, в этом и есть смысл «души и тела», именно смысл, а не просто красивые слова?…
Может, все не так, когда в действе принимает участие не только тело? Может…
Он закрыл глаза, чего никогда раньше не делал, но у него просто не оставалось сил, чтобы воспринимать мир, который все еще существовал вокруг них, такой унылый в своей привычности! Он знал, что она рядом с ним, каждую секунду рядом, и наслаждался этим знанием, оказавшимся страшно важным!
Он любил ее, как первый человек на земле, открывший это вечное, единственно правильное действо, которое было так милостиво подарено людям взамен утраченного рая. Он любил ее и знал, что все пропало, — он не сможет без нее, потому что только с ней, в ней, вокруг нее он становится цельным существом, не раздираемым никакими противоречиями.
Она дышала все быстрее, влажный лоб блестел, у нее не оставалось сил, и он чувствовал это. Все как будто отступало, уменьшалось, темнело, а потом вдруг взорвалось, и осыпалось, и грохнуло, словно от обвала, и пустота, в которую он упал, оказалась спасительной и уютной, вовсе не холодной, как было раньше, и оказалось, что мир по-прежнему вращается в нужную сторону и можно продолжать жить дальше.
Дмитрий Родионов лежал, обнимал свою Машу и думал очень свежую и ясную думу о том, что он не один в этом мире.
«Я не один. У меня теперь есть Маша. И она знает про меня все, как я сам. Я больше никогда не буду один».
Ему не хотелось ничего говорить, и он не знал, что говорят в таких случаях, и он долго думал, а потом заявил:
— Мы с тобой обвенчаемся в кафедральном соборе.
Она молчала довольно долго, и он даже забеспокоился было, а потом она спросила лениво:
— Почему в кафедральном?…
Он пожал плечами. Ему хотелось говорить глупости и венчаться в кафедральном соборе.
— Ну и ладно, — сказала Маша Вепренцева и улыбнулась. — В кафедральном так в кафедральном.
***
На залитой солнцем лестничной площадке стоял Лазарь и курил свою «беломорину». Солнце светило в окна, отражалось от мокрого подоконника, с листьев огромного тополя, который рос прямо посреди стоянки, с сочным и довольным звуком падали чистые летние капли.
Когда закладывали стоянку возле нового офиса издательства, Марков строго-настрого запретил трогать тополь, хотя рос он явно не на месте и всем мешал.
— Не мы его посадили, — сказал тогда Марков, — и не нам его рубить! Пусть растет.
И не разрешил рубить, несмотря на то, что строители ныли и стонали, будто им неудобно класть асфальт и всякое такое!
Лазарь курил, щурился на солнце и кивал тополю.
Маша притормозила возле него и сзади взяла его под руку. Лазарь нисколько не удивился, только покосился и продолжал курить.
Так они стояли и молчали, и слушали, как падают капли.