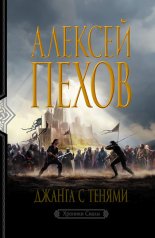Саквояж со светлым будущим Устинова Татьяна

— Да то и значит, — Нестор повел в воздухе чашкой, которую держал, изящно оттопырив мизинец, — это у вас там просто, а у нас с этим проблемы. Вы все захватили.
Маша ничего не поняла, и Нестор объяснил.
Оказалось, что российские издательства заполонили все, что только могли заполонить. Как сорняки заполняют райский сад, так русскоязычные авторы перекрыли кислород всем авторам, пишущим «на мове», и богатые московские и питерские издательства своей рекламой совершенно забили самобытные — впрочем, Нестор, конечно, сказал «самостийные» — киевские издательства. Народ дичает. От обилия кровавых детективов и слезливых дамских романов у него портится вкус. От обилия чужого языка у народа портится речь и национальное самосознание.
— Позвольте, — робко перебила Маша разошедшегося Нестора, — но вот, к примеру, в стране Швейцарии национальных языков два или три. Немецкий и французский точно и еще, кажется, итальянский.
Это не в счет, сказал Нестор. Что вы привязались к этой самой Швейцарии! У них свое, а у нас свое! И если сейчас не остановить экспансию, украинский язык будет забыт, уничтожен!
— И что делать?
А очень просто. Проще пареной репы. Нужно перестать привозить сюда русские книги. Тогда, хочешь не хочешь, украинские авторы станут писать свои, и все будет просто прекрасно. Чудесно просто станет все.
— Но позвольте, — повторила Маша, — даже Гоголь Николай Васильевич писал по-русски! То есть у него масса чудесных певучих малороссийских слов, но писал-то он по-русски! Может, дело не в том, что надо авторов запретить, а в том, что своих следует вырастить? Научить? Разрекламировать? Придумать книгам какие-нибудь нестандартные обложки, красивое оформление? Заставить людей вспомнить язык, который они за годы советской власти изрядно подзабыли? Ведь весь Киев говорит по-русски!
— В том-то и беда, — печально сказал Нестор, — в том-то и беда, что никто вспоминать не хочет, а хочет ваши детективы читать и мозгами совсем не шевелить! А если ими не шевелить, их и не останется вовсе, мозгов-то! На национальной литературе только и следует воспитывать патриотизм!…
«Ого, — подумала Маша. — Этот мальчик патриотизм воспитывать собирается!»
— А Мирослава Макаровна всем помогает. Деньги дает, помещение снимает, где поэты молодые собираются. Сборник издала, называется «Видрождення», «Возрождение» по-вашему. Она… светоч, если хотите. Светоч национальной культуры.
Может быть, потому, что Маша не читала ее стихов, и еще почему-то, но ей в то, что Мирослава светоч, как-то не очень верилось.
Видимо, скепсис был написан у Маши на лице, потому что Нестор вдруг засуетился, составил на поднос недопитые чашки, свою и ее, и стал отступать к двери:
— Я прэпрошую, но жаль, нэ можу дальше говорыть, бо мне надо найти Мирославу Макаровну…
Маша проводила его глазами.
Итак, Мирослава занимается благотворительностью и вообще очень милая и добрая. Всем помогает. Особенно тем, кто опасается русскоязычной экспансии и утраты национальной самобытности в литературе. Дает им деньги и вообще…
Странно, странно. Очень странно.
Оставшись одна, Маша Вепренцева некоторое время думала, потом встала из-за стола и прошлась по просторной и пустой комнате. Солнечный зайчик, переместившись на потолке, дрожал уже с другой стороны, и горячий и острый луч, отыскавший в серванте хрустальный фужер, вовсю играл с ним — отражался от граней, подпрыгивал, кидался в глаза горячими каплями, плясал по мебели и по натертому паркету. Маша зажмурилась, когда луч прыгнул ей на нос. Стало щекотно и горячо, и, как вчера, захотелось надеть майку, рваные джинсы и шлепанцы на плоской подошве и сначала бродить под соснами, а потом валяться на прибрежном песке, подставив лицо ветру, пахнущему водой и цветами.
Так они с Родионовым и не сходили на Днепр. А Мирослава все стрекотала, что он где-то рядом. Вот Катерина Кольцова наверняка сходила на Днепр, а если и не сходила, так это ничего, в следующий раз сходит! Как, наверное, хорошо быть свободной — во всем! Как, наверное, легко дышать, когда ты победительница — во всех отношениях! Как, наверное, легко любить себя, когда за спиной у тебя Тимофей Кольцов и вы с ним очень схожи в одном — он тоже любит тебя, именно тебя, и ты прикрыта этой любовью, как щитом рыцарей-тамплиеров!
Откуда в голове у нее взялись эти самые тамплиеры, она не знала, и какие такие у них щиты, она тоже не имела никакого понятия, но слово было красивое и почему-то шло Тимофею Кольцову.
Рыцарь-тамплиер.
Вот странно, почему Нестор, подчеркнуто мешавший русские и украинские слова, оставшись с ней наедине, вдруг заговорил по-русски, словно забыл, что должен говорить по-украински?…
И его речь про возрождение национальной культуры тоже показалась ей как будто знакомой, но откуда?… Откуда?…
Маша Вепренцева задумчиво постояла возле французского окна, потом обошла стол и взглянула на кипу газет, которые листал Веселовский.
Газета. Газета?!
Статья про развод Поклонных была в газете, и Маша просмотрела ее дважды, прежде чем сообразила, из-за чего Лида впала в такое бешенство. Газеты, которые смотрел шоумен, валялись там, где он их оставил, а той самой газеты, которую читала Маша, нигде не было.
Она просмотрела их еще раз и даже заглянула под стол. Нет газеты.
Что за ерунда?
— Вы что-то ищете?
Маша неожиданно вздрогнула, больно ударившись боком о край стола.
— Вы меня напугали. — Она перевела дыхание и улыбнулась.
— Почему?
— Потому что подкрались так, что я вас не слышала.
— Очень жаль, — сказал ее собеседник и улыбнулся приятной улыбкой. — Очень жаль, что вы меня не слышали.
В его голосе, холодном, как лед, было что-то такое, из-за чего Маша вдруг стала судорожно оглядываться по сторонам, отступать, а он надвигался на нее, и в отчаянии она вдруг поняла, что на лужайке за французским окном уже нет милиционера в фуражке с высокой тульей.
Она отдала бы полжизни за то, чтобы он там был.
Дмитрий Родионов открыл компьютер, сел и уставился в него. Компьютер был шикарный — подарок издательства к выходу его десятой книги. Легкий, тонкий, в титановом корпусе, изящный, какими бывают только очень дорогие хайтековские вещи. Родионов компьютер обожал и как-то особенно им гордился.
Он вытаскивал его из мягкой замшевой сумочки и устанавливал на коленях, даже когда летел из Москвы в Санкт-Петербург, хотя это было смешно: едва взлетев, самолет начинал заходить на посадку, и даже приниматься за работу было бессмысленно, но Родионов делал вид, что принимается.
Обкусанное с одной стороны яблочко, известный всему миру символ компьютерной фирмы, произведшей родионовское чудо, наливалось неярким молочным светом, на рабочем столе появлялось весеннее деревце, трогательное в своей детской беззащитности, и одного этого Родионову было достаточно, чтобы прийти в хорошее настроение.
Работа — в этом слове было все, что требовалось ему для жизни.
Вот так просто. Работа, и все.
Без этой своей работы он был бы скучнейший человек. Впрочем, это большой вопрос, был бы он вообще или пропал бы где-нибудь от безделья и пьянства.
Бизнес принес ему денежки и не принес никакого… жизненного интереса. Он очень быстро доказал себе, что умеет зарабатывать, ну и что? В олигархи он не вышел и вряд ли вышел бы, даже если бы стал заниматься бизнесом по двадцать четыре часа в сутки, а ковыряться на среднем уровне было скучно, скучно!… Скучно и предсказуемо.
Только компьютер с надкушенным яблочком на крышке давал ему свободу. И весь мир в придачу.
Только там, за серебряной крышкой, он мог быть кем угодно — преступником, жертвой, титаном, стоиком или Прометеем, бедной Лизой, злобной мачехой, Ромео или на худой конец Джульеттой, главой преступного клана, домработницей, садовником, богачом или нищим. Он мог скакать на лошади, управлять самолетом, тонуть в подводной лодке, и спасать заложников, осторожно красться по темному переулку, наливать яд в хрустальный бокал, драться на мечах, разбирать старинные манускрипты, складывать логические головоломки. Да все, что угодно!…
Ему нравился жанр, самый свободный и залихватский из всех известных ему жанров!… Он не требовал от Аркадия Воздвиженского никакой кондовой, а также сермяжной, посконной и домотканой правды жизни — в детективах ведь можно все.
И он упивался тем, что ему можно! Он наказывал врагов и защищал друзей, он находил свою большую любовь, разумеется, единственную во вселенной, и был с ней прочно, железобетонно и навсегда счастлив. Он выдумывал изящные пассажи и прятал в собственные слова известные всем цитаты. Он спешил, когда занимался любовью, или, наоборот, смаковал ощущения, он прыгал с небоскребов и ходил босыми ногами по лугу. И в этом, именно в этом, была самая главная радость жизни, самое острое чувство свободы, самое драгоценное вино, которое он то цедил по капле, то опрокидывал в рот и жадно глотал — ведь не жалко, совсем не жалко, у меня его полно, этого самого вина, и оно не кончится никогда, потому что я точно знаю, где и как его можно добыть сколько угодно!…
Он был «равнодушный» и знал это за собой, и реальный мир с его реальными событиями, радостями, огорчениями или угрозами интересовал его гораздо меньше, чем тот, который начинался, стоило только нажать приятно щелкающий замочек и откинуть серебряную крышку.
В этот раз все пошло не так.
Родионов — нет, нет, за работой он становился Аркадием Воздвиженским, и только так! — Воздвиженский открыл компьютер, полюбовался на весеннее деревце, нашел файл и уставился в него с неким мстительным чувством.
Раз вы не хотите по-человечески, бормотало это самое мстительное чувство, то и дьявол с вами. Мне ничего не мешает. Мне все даже нравится. Программа визита срывается — и к черту ее! Сидим в доме, как заложники, — ну и пусть! Милиционеры дежурят на всех газонах — ну и ладно, очень хорошо! Вам есть дело до всей этой бессмыслицы, которая происходит здесь со вчерашнего дня — ну и валяйте, занимайтесь вашей бессмыслицей! А от меня не дождетесь. У меня два трупа, и я все еще никак не могу понять, как они связаны друг с другом и связаны ли вообще. И особенно неясно, как там оказалась эта дамочка в норковой шубе и почему именно от нее решили избавиться? Случайность это или все-таки умысел?
Воздвиженский подумал несколько секунд и стал быстро, как из пулемета, печатать, и все пропало, ушло — солнечный свет, птичья возня за открытым окном, запах близкой воды, цветов и свежескошенной травы. И вся ерунда с убийством, не детективным, а реальным, и Маша Вепренцева, и Лида Поклонная, и «чоловик», качающийся в кресле, как китайский болванчик, и Мирослава — все ушло.
Он печатал так некоторое время, а потом кто-то в голове у него гнусным голосом его собственной подозреваемой вдруг сказал: «А ведь она права. Маша-то, секретарша твоя. Дело странное, ох, странное дело!…»
«Да ладно, — сердито ответил он своей подозреваемой. — Мы сейчас с тобой быстренько разберемся, кто виноват в кончине дамочки в норковой шубе, и ты мне объяснишь, какого рожна тебе потребовалось ее убивать, и вот тогда, только если это ты ее убила, мы вместе подумаем, как тебе спрятать концы в воду!»
«Не— ет, -отозвалась подозреваемая и хищно шмыгнула кривым носом, — ничего не буду я разбирать! Во-первых, эту дамочку в норковой шубе я знать не знаю и видеть не видела. А во-вторых, твоя Маша дело говорит. Тебе перед отъездом звонили? Звонили! Ты Маркова подключал? Подключал! Маша на следующий день была сама не своя? Была! Даже ребенка с собой потащила, чего никогда в жизни раньше не делала!»
«Ну и что? — спросил Воздвиженский, и сморщился, и уже занес руку, чтобы стереть весь абзац, где его подозреваемая все шмыгала своим носом и сморкалась в углу, похожая на нищенку двадцатых годов в своем грязном свитере и матросском бушлате. — Вот я тебя сейчас!…»
«Да сколько угодно, — ехидно отвечала нахальная старуха. — Да хоть все сотри, мне не жалко. Говорю тебе, что я никого не убивала и знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю! А если Машка-то верно говорит, тебе самому разбираться надо! Кто тебе звонил, кто угрожал? Если бы этого хохла не зарезали, так и наплевать, кто звонил и угрожал, а так-то и не наплевать вовсе! А ну как тебя следующего зарежут? Взаправду зарежут, а не так, как ты придумываешь! И не сотрешь тогда ничего, потому что взаправду зарежут-то! Ты подумай, подумай хорошенько, ты писатель все ж таки!»
Воздвиженский сжал в кулак распластанные над клавиатурой пальцы.
Строчки на экране уже не казались ни притягательными, ни волшебными, текст как текст. И подозреваемая спряталась за строчками, перестала шмыгать носом и ехидно помаргивать подслеповатыми глазками.
Родионов остался один.
Ему не хотелось ни о чем думать и еще больше не хотелось влезать в какое бы то ни было расследование. Что еще за расследование такое!
Самое время сейчас вернуться в Киев, в гостиницу «Премьер-Палас» на бульваре Шевченко, где так буржуазно и солидно сияют лампочки, журчит фонтанчик и любезный до сладкого обморока портье всегда готов к услугам. Выпить кофе в лобби-баре, покурить в прохладе и мраморно-деревянном просторе, проводить глазами двух барышень, блондинку и брюнетку, с волосами до упругих ягодиц, обтянутых розовыми брючками, с силиконовыми укреплениями спереди и фарфоровыми улыбками на одинаковых лицах, а потом пойти в свой номер люкс, вывесить табличку «Don't disturb» и — работать.
Нет в жизни ничего интереснее работы. Нет и не может быть.
Текст на мониторе мигнул и погас — электронное родионовское чудо будто зевнуло и приготовилось спать. Родионов покосился на монитор, встал и прошелся по комнате.
Какая уж тут работа!…
Как могут быть связаны звонок с угрозами, который он получил в Москве, и убийство украинского политического деятеля? На первый взгляд никак, он даже не был знаком с Головко, и вообще Родионов политикой не очень интересовался.
Зачем в Киев полетел Илья Весник, хотя никогда с авторами в командировки не летал? Он говорил, что хочет познакомиться с Кольцовым, но предлог был странный, надуманный. Понятно ведь, что Весник и Кольцов величины несравнимые, Весник хоть и менеджер экстра-класса, но Тимофей Ильич такими менеджерами завтракает и знакомиться с ним он стал бы, только если б Весник был вице-премьером, а он вице-премьером не был!
Откуда на даче взялся Веселовский, который в Москве ни словом не обмолвился о том, что собирается в Киев? Или он внезапно собрался? И кто его на самом деле пригласил, если Маша точно помнит, что в первый раз он говорил, что Поклонный, а во второй раз кто?… Мирослава?…
Забыл? Или наврал?
И какое все это имеет отношение к нему, Родионову, черт побери все на свете?!
Он постоял перед окном и покрутил искусственный цветок, выдернутый из вазы. И кому это, скажите на милость, в голову прищло в разгар весны в теплой, травной и солнечной Украине ставить в вазы искусственные цветы?!
Внизу на лужайке кто-то стоял, сверху было не разобрать, кто именно, кажется, Веселовский.
— Уродство какое-то, — вдруг громко сказал знаменитый ведущий, — хорошо, что ты мне сказал! Нашел кому показывать! И главное — зачем!? Хорошо, что я… уже избавился от этого!
Второй ответил что-то вовсе неразборчивое, и Веселовский скрылся в кустах, отделяющих бассейн от лужайки. Сонную тишину нарушал теперь только стрекот газонокосилки — здесь ведь наверняка и садовник есть, как не быть?
Родионов вышел в коридор и посмотрел налево, а потом направо. Никого не было в коридоре, и никаких голосов не доносилось.
А жаль. Жаль.
Сейчас в соответствии с детективным жанром как раз неплохо бы подслушать какое-нибудь объяснение, решительно все расставляющее по местам, полноценное, чтобы уж ни в чем не оставалось никаких сомнений и чтобы имя преступника было названо, а то что за объяснение без имени!…
Интересно, комната, где… убили Головко, опечатана или нет?
Родионов еще постоял, покачиваясь с пятки на носок, еще посмотрел налево и направо и двинулся в противоположную от лестницы сторону.
Скрипнула половица, и Родионов замер.
В этой комнате вчера мылся кто-то, кого Маша, на свое счастье или на беду, так и не смогла разглядеть, а в раковине лежал окровавленный нож. Какой-то… совсем неправильный убийца. Нетрадиционной ориентации, сказал себе великий писатель-детективщик. Выходит, он зарезал Головко и пошел себе спокойненько мыться под душем?! Он мылся, а Головко лежал через одну комнату от него, остывающий, мертвый, и в любую минуту кто угодно мог зайти и обнаружить… тело? И, следовательно, убийцу тоже?! А нож? Где он взял нож и зачем мыл его в раковине?! Почему не бросил возле тела, ведь нынче все, кто хоть один раз в жизни смотрел по телевизору хоть один сериал, отлично знают, что орудие убийства с собой уносить глупо и как-то вовсе бессмысленно, его нужно бросать на месте преступления, разумеется, без всяких следов отпечатков?!
Он мылся, а Машка была в двух шагах от него, идиотка!…
Тут вдруг равнодушный и холодный Дмитрий Андреевич Родионов весь залился холодным потом, так что шее под воротником рубашки моментально стало мокро.
Что было бы, если бы он… увидел? Если бы убийца увидел ее в зеркале?! Увидел и понял, что она тоже… видела и поняла?!
И что, если он… ее видел?
— Господи, — вслух сказал Родионов. — Господи.
Мы знаем, что видела Машка, но с чего мы взяли, что он не видел ее?! Только потому, что она не разглядела его в зеркале?! Или потому, что он в ту же самую секунду не зарезал и ее тем самым ножом, который лежал в раковине?!
Пот на спине превратился в лед, замерз и сковал шею, не повернуть, не шевельнуться.
Если видел, он не остановится. Воображение, профессиональное, писательское и черт знает какое, услужливо нарисовало картинку — так из затуманенной глубины зеркала начинают проступать знакомые очертания.
Вот медленно приоткрывается дверь, шум воды становится слышнее, тянет прохладным воздухом, и подернутое банной дымкой стекло проясняется, и человек, насторожившийся и приготовившийся ко всему, видит любопытный глаз, и краешек щеки, и темные взлохмаченные волосы — Машины. Он ждет, изо всех сил старясь не дышать, и, помедлив, она тихонько прикрывает дверь, а он переводит дух, моет под водой от крови нож, затем наскоро заворачивает краны и думает только о том, что должен заставить ее молчать.
Это очень просто. Для этого ее нужно всего лишь убить.
Он уже убил и знает теперь, как это делается. Он убил не один раз — а двадцать семь, именно столько ножевых ранений насчитали следователи, приехавшие ночью. Он кромсал ножом тело снова и снова, и кровь лилась и била фонтанами, и он чувствовал ее запах и вкус на губах, и не мог остановиться, и все убивал, убивал и убивал…
Маша? Маша?!
Я должен ее найти. Немедленно. Прямо сейчас.
Я найду ее, возьму за руку и не отпущу от себя ни на шаг. Что я буду делать, если…
Вот с этим самым «если» и вышло что-то совсем уж скверное. Его подвело профессиональное, писательское и черт знает какое воображение. Не нужно было этого самого «если».
Вдруг он увидел, как она лежит, распластанная на полу, неловко и неестественно подогнув под себя окровавленную, вывороченную руку, и ее алебастровое лицо, как будто обведенное мелом, выступает из черноты, и он точно знает, что она умерла, потому что у живых нет и не может быть таких лиц. И еще он знает, что нельзя смотреть ниже, на то месиво, в которое превратилось ее тело, и все-таки он смотрит, потому что не может не смотреть.
Родионов бегом бросился по коридору, скатился с лестницы, чуть не сшиб по дороге какую-то тетку — то ли Лиду Поклонную, то ли Мирославу, он не разглядел и не остановился, и влетел в гостиную.
Маши Вепренцевой там не было. Он был так уверен, что она там, что сразу не поверил своим глазам. Но ее не было. Франтоватая горничная в переднике с кружевцами убирала со стола и с буфета утренние яства, и «чоловик» похрапывал в кресле. В безвольно опущенной руке у него был стакан.
Родионов оглядывался, как волк, загнанный в красные флажки.
— Где моя помощница?
Горничная посмотрела на него и улыбнулась вопросительной улыбкой.
— Здесь была моя помощница, Марья Петровна! Где она?
— Я никого нэ бачыла, пан.
За спиной у него распахнулась дверь, и он нетерпеливо оглянулся. Ему казалось, что он теряет время, теряет безвозвратно, окончательно, что именно он будет виноват в том, что ее белое алебастровое лицо в луже крови окажется таким неживым!…
— Что-то случилось?
— Где моя помощница?!
— Понятия не имею, — фыркнула Лида Поклонная. — Мне до нее дела нет. И вообще, вы уверены, что она помощница, а не стукачка журналистская?
Родионов отмахнулся от нее. Вдруг он вспомнил про телефон. Можно же позвонить! Вот просто взять и позвонить и приказать ей бежать к нему и не отходить ни на шаг! А вообще лучше всего будет приковать ее к себе наручниками до той самой минуты, пока они не сядут в самолет, чтобы лететь в Москву.
Наручники можно будет занять у представителей правоохранительных органов.
Он отвернулся от Лиды и выхватил из кармана телефон. Актриса еще несколько секунд смотрела на него, потом скорчила неопределенную улыбку и отвернулась. «Поду-у-умаешь! — вот что означала эта улыбка. — Не очень-то и хотелось!»
Вообще успокоилась она на редкость быстро и выглядела безмятежной и прекрасной, и Родионов, если бы он был способен соображать в эту минуту, непременно удивился бы этому обстоятельству. Но соображать ему было некогда.
Телефон гудел надсадно, как ночной комар, примеривающийся, куда бы воткнуть свое жальце, но трубку не брали.
За спиной у него зашуршали газеты, скрипнул стул, он оглянулся, но ничего не увидел. Он думал только о том, что Маша не берет трубку, и надсадный комариный писк все продолжается, все никак не разрешается ни во что, и не было и не могло быть ничего хуже, чем то, что она не брала трубку!
— Может, кофе заказать? — спросила Лида Поклонная позади него. — Господи, какая тоска! И заняться нечем. Славочка сказала, что нас еще будут допрашивать! Интересно, а то, что мы граждане России, уже не имеет никакого значения, да? Какое право они имеют нас допрашивать? Мы что, подозреваемые?
Родионов набрал еще один номер и уставился в окно. Лидино бормотание его раздражало.
— Если мы подозреваемые, значит, нам нужен адвокат. Я так и сказала всем, — тут она деликатно зевнула, и Родионов оглянулся на нее с изумлением, — я не буду отвечать на вопросы без своего адвоката!
Она сидела, положив ногу на ногу, туфелька болталась на носке, поблескивала пряжкой. Наманикюренными пальцами Лида перебирала газетные страницы, и на лице у нее была написана скучнейшая скука.
Приятный женский голос защекотал родионовское ухо, и про Лиду он моментально позабыл.
— Ваш телефон находится в режиме ожидания, — плавно говорили в трубке, — пожалуйста, дождитесь подключения.
Весник вечно экспериментировал со всякими новомодными электронными наворотами, а Родионов согласно правилам игры, им же самим и установленным, даже файл не всегда мог отыскать в своем компьютере!
— Ваш телефон находится в режиме ожидания. Пожалуйста, дождитесь подключения.
Нужно позвонить Маркову, чтобы тот нажал на какие-нибудь кнопки — или как принято говорить, рычаги, что ли? — и они сегодня же смогли бы вернуться в Москву. Маше нельзя здесь оставаться. Нельзя, и все тут.
Впрочем, неизвестно, будет ли в Москве безопасней. Если убийца видел ее, значит, найдет и в Москве. Зачем только их понесло в этот самый Киев?! Сидели бы все дома, писали бы свои книжки, варили бы свой кофе и снимались в шоу у Андрея Малахова, и все было бы как всегда, спокойно и приятно.
— Ваш телефон находится…
— Давай, — процедил Родионов, — давай уже подключайся, хватит болтать!
Словно услышав его призыв, плавный голос поперхнулся какой-то буквой, в трубке щелкнуло, и Родионов сказал:
— Але!
— … на меня пока никто не выходил, — быстро проговорил ему в ухо Весник. — Мы по-прежнему в этой Конче-Заспе, и нас отсюда не выпускают. Я думаю, что он еще не догадался, хотя, мне кажется, что-то такое он подозревает, не дурак же, на самом-то деле!
Родионов не слышал, что именно говорил собеседник Весника, но Илья возразил энергично, хотя и приглушенно:
— Как мне его изолировать!? Прирезать, что ли, как Головко? — Опять короткая пауза, и снова: — Я знаю, что этого допускать нельзя, знаю, знаю. Я постараюсь… без членовредительства. Да, и с ним все время Маша, ты же знаешь. Хорошо, тогда до созвона.
Тут опять что-то щелкнуло, и голос Весника, совсем другой, привычный, с всегдашней иронической интонацией сказал громко:
— На проводе!
— Илья?
— Родионов, твою мать, а ты кому звонишь? Не мне, что ли?
— Тебе, — ответил Родионов. Мысли собирались с трудом, как птицы, привязанные за разные ниточки, они рвались прочь, и он не знал, как их остановить, как заставить себя подумать трезво.
— Я… Машу потерял, — сказал он с трудом. — Ты ее не видел?
— Да куда она денется с подводной лодки, эта твоя Маша? — весело удивился Весник. — Никуда не денется! Слушай, Родионов, может, нам виски дернуть, а? Все равно сегодня никуда не двинемся! Так, может, дернем?
— Дернем, — согласился Родионов. — Только мне сначала надо Машу найти.
— Чтобы она тебе компьютер в розетку включила? — поинтересовался Весник и захохотал. — Сам не сообразишь? А там, знаешь, такая пластмассовая штучка есть, а на ней два штырька. Вот эти два штырька суешь, тудыть тебя так и эдак, в дырочки. Ты умеешь всякие штучки в дырочки совать, гений ты наш?
— А ты где, Илья?
— Да я у себя в комнате. На диване лежу. Думаю, может, мне искупаться сходить, а потом нажраться до бесчувствия, как этот самый Казимир Малевич, а?
— Цуганг-Степченко, — поправил Родионов машинально. — Если увидишь Машу, попроси ее меня найти.
Лида у него за спиной длинно и скептически вздохнула.
Родионов сунул трубку в карман и вышел на лужайку.
Где она может быть? Куда она подевалась?! В бассейне? В своей комнате? В парке?!
Давным-давно он забыл чувство страха. Что-то из детства вспоминалось ему, когда он думал или писал про страх. Что-то угрожающее, залитое электрическим светом, острое, как вилка.
Вилка запомнилась ему, и это было страшно.
Отец был пьян — не слишком сильно, ровно настолько, чтобы прийти в бешенство от не понравившегося ему слова, или взгляда, или вздоха. Когда он бывал сильно пьян, то валился и спал где придется, и приходилось переезжать из комнаты в комнату, потому что он часто засыпал на Диминой кушеточке, и тогда Родионов ночевал с матерью, и это было просто замечательно. Ничего лучше невозможно было придумать, чем в стельку пьяный отец, потому что тогда у них бывал свободный вечер. Самое главное умудриться не разбудить его, и они пили на кухне чай и старались не греметь посудой и разговаривать не слишком громко, чтобы он не проснулся.
Когда он бывал пьян не слишком, скандал начинался, едва он переступал порог. Он привязывался к матери по любому поводу, да и без повода тоже, швырялся одеждой и тарелками, стучал ногами, выкрикивал оскорбительные, непоправимые, как всегда казалось Родионову, слова и утром как ни в чем не бывало приходил завтракать, был благодушен и отчасти даже смущен.
Родионов боялся и ненавидел его.
Если бы он был постарше, наверное, он бы смог в чем-то себя убедить — в сущности, отец был неплохим человеком. Он был слаб и жалок, карьера у него никак не складывалась, а мать всегда была умнее и сильнее, и его это задевало и мучило. Но Родионов был мал и не видел ничего, кроме пьяного омерзительного лица, бессмысленных глаз, отвратительного перегарного рта, из которого вываливались, как вонючие жабы, страшные непоправимые слова.
Он прятался от него под столом. Стол был низенький, шаткий, купленный для его детских занятий, когда он начал ходить в детский сад. Влезть под него было трудно, но Родионов влезал и сидел там, прижимая медведя, которого он тоже прятал, потому что переживал за него. Он был тогда маленький и не понимал, что спасать нужно не медведя, а мать, на которую было направлено пьяное отцовское бешенство.
Он понял это в один день. Тот самый, который запомнился ему вилкой и желтым электрическим светом.
Отец орал и буйствовал, Родионов сидел под столом, тиская потными ладошками медведя, и уговаривал себя вылезти, чтобы спасти мать. Ему было очень страшно, так, что он боялся описаться, и от этого возможного унижения у него темнело в глазах, и он заставлял себя вылезти, и все никак не мог заставить, а потом все-таки вылез и пошел.
От страха он ничего не видел и слышал только приближающийся отцовский крик, а мать совсем не было слышно, и он даже подумал: вдруг отец убил ее?… Что тогда он будет делать?
Он спрятал медведя, сунул в кровать и завалил одеялом, чтобы отец не убил и медведя тоже, и потом, подгоняя себя, выскочил на кухню. Отец орал и швырялся, и маленький Родионов обрадовался тому, что мать жива. Она мыла посуду, повернувшись к нему спиной, и это была не спина, а наказание господне — напряженная, узкая, как будто раненая. Увидев перепуганного, но храброго от трусости сына, отец схватил вилку и швырнул ее об пол, она подпрыгнула и впилась Родионову в ногу — не слишком сильно, но так, что на всю оставшуюся жизнь страх остался у него в сознании именно этой вилкой, впившейся в ногу.
После этого родители развелись, и Родионов долго не мог поверить, что на свете бывает такое счастье — тишина и покой, постоянный, всегдашний, без ожидания, как гильотины, прихода отца, без гадания, завалится он сразу спать или еще будет их мучить!…
Он переболел этим страхом только годам к пятнадцати, но до сих пор еще, в свои тридцать восемь, когда подступали проблемы, его все тянуло под стол!
Теперь страх той самой вилкой впивался ему в мозги и ворочал там, колол так, что волосы на затылке вставали дыбом.
Он постоял на лужайке, а потом пошел вокруг дома, все убыстряя и убыстряя шаг, но Маши не было видно нигде, и тогда он вернулся в дом, и стал заглядывать во все комнаты подряд, и не поверил своим глазам, когда увидел ее в какой-то пятой или шестой по счету гостиной. Она сидела, подперев щеку кулаком, и читала газету.
— Маша, твою мать!…
Она подняла голову, и изумление, написанное у нее на лице, немного отрезвило его.
— Дмитрий Андреевич?…
— Почему ты не берешь трубку?! Я тебя ищу уже… уже… — Он посмотрел на часы, но ничего хорошего не высмотрел. Получалось, что он ищет ее уже минут десять — не слишком долгий срок.
— Какую трубку?
— Телефонную!
Она растерянно похлопала себя по карманам.
— Я, наверное, мобильник в номере забыла, Дмитрий Андреевич. В смысле, в комнате. А что случилось?
Родионов вошел и сильно захлопнул за собой дверь. Тишина, вошедшая вместе с ним, мгновенно заняла все свободное место. Они оказались словно отрезанными от всего мира — так стало тихо.
— Ничего не случилось. То есть пока ничего не случилось! Тебе нужно срочно отсюда уезжать, вот что!
Она смотрела на него во все глаза.
— Как… уезжать? Куда уезжать? Мы никуда пока не можем ехать, нас же предупредили!
Родионов вытащил у нее из рук газету — она проводила ее глазами — и сел на диван рядом.
— Если ты на самом деле видела убийцу, — выпалил он, — тебе опасно оставаться здесь. Ты понимаешь?
— Нет, — честно сказала она. — Не понимаю. И потом, я его не видела!
— Если ты его не видела, это еще не значит, что он не видел тебя! Он же мог тебя видеть, когда ты заглянула в эту проклятую ванную! Это ты хоть понимаешь!?
— Я… не думала об этом.
— А ты подумай. Подумай, подумай!…
Теперь он как будто сердился на Машу за то, что она заставляет его переживать за нее, хотя она и не делала этого вовсе!
— Он не мог меня видеть, потому что ванная очень большая. Зеркало было совсем запотевшим, и я…
— Да говорю я тебе, что раз ты не видела его, это совершенно не значит, что он не видел тебя! А ты тут сидишь с какими-то, твою мать, газетами и глазами хлопаешь!
— Я не хлопаю глазами!
— А что ты делаешь?!
— Я пытаюсь ответить на вопрос, почему Лида Поклонная впала в истерику, и почему Нестор говорил все время по-украински и вдруг стал говорить по-русски, и чем ее так запугал Стас Головко, который толковал о каких-то сроках!
— Да какое нам дело до Нестора и Стаса Головко! Ты что, совсем ничего не понимаешь?! Пока ты здесь, тебе угрожает опасность, соображаешь?!
Она посмотрела на него и снова уставилась в свою газету.
— Хочу вас обрадовать, Дмитрий Андреевич, — пробормотала она. — Пока мы здесь, нам всем угрожает опасность.
— Да не всем, а тебе, потому что никто из нас не мог видеть убийцу, а ты могла! И о том, что ты его не видела, он не знает! Все всерьез. Маша! Все совершенно всерьез!
— Я знаю, — сказала она. — Я сразу знала. Это вы не знали, потому что… пишете детективы и вам все представляется сюжетом. А это не сюжет. Это как раз… всерьез.
И они замолчали, сидя бок о бок, как нахохлившиеся воробьи.
Может, оттого, что Маша сказала «всерьез» и какое-то странное, не виданное им раньше выражение промелькнуло в ее глазах, а может, оттого, что он так испугался за нее, когда понял, что она оказалась как будто за стеклянной стеной, и там, за этой стеной, опасно, а с этой стороны вполне спокойно, и он ничего не может сделать для того, чтобы попасть туда к ней, за стеклянную стену, или оттого, что тишина была третьей в этой комнате, заставленной громоздкой кабинетной мебелью, и Маша сидела, понурившаяся и печальная, он вдруг обнял ее за шею робким студенческим движением, так что локоть выпятился и уперся в диванную подушку.
Обнял и притянул к себе, к своему лицу, к щеке, которая словно загорелась, когда ее коснулась прохладная и обжигающая женская кожа.
«Я не хочу, — подумал он. — Я не хочу сложностей!…»
Все время она была как бы в стороне и не участвовала в том, что он называл своей «личной жизнью», и он всегда повторял себе — и ей! — что на работе они только работают, и никаких романтических грез у них нет и быть не может.
Теперь ему казалось страшно важным ее поцеловать.
Он взрослый человек, и никакого особенного смысла он не вкладывал в простой поцелуй, да и вообще это дело нехитрое, простое дело, и ничего оно не означает, и он даже думать не будет, просто поцелует ее, и все, и точка, и хватит, и это ничего, совсем ничего не означает…
Она вздохнула и обняла Родионова за шею, слегка подвинув его выпирающий локоть, и глаза у нее были закрыты, а он подсматривал сквозь ресницы!…
У нее оказалась тонкая и нежная кожа, которая странно сияла, или ему казалось, что она сияет? Она осторожно дышала, и с нежностью, поразившей его самого, большим пальцем он потрогал ее горло, вверх и вниз.
Уже пора было остановиться, потому что поцелуй затягивался, уводил их в нечто совсем другое, необъяснимое, невообразимое и — самое главное! — невозможное на этом диване, в комнате, полной кабинетной мебели, где, кроме них, была только тишина, и больше ничего.