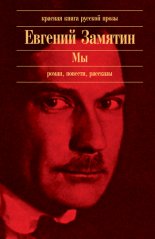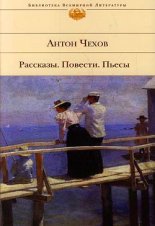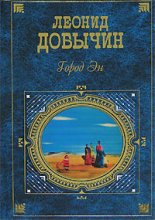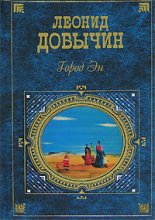Однокурсники Боборыкин Петр
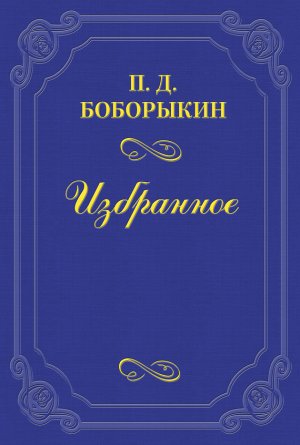
— Но я солгал вам, доктор Вайсман. Некоторые из них я не включил в этот список. Видите ли, с таким бешеным ритмом жизни я стал зависеть от различных стимуляторов, которые придавали мне сил для выступлений. Они могли стать причиной?
— Вполне возможно. Нет ли еще чего-то, о чем вы забыли упомянуть?
Дэнни издал дикий рык.
— Господи… я убью этого чертового доктора Уитни!
— Не тот ли это печально знаменитый «Доктор Хорошее Самочувствие» из Беверли-Хиллз?
— Вы что, с ним знакомы? — удивился Дэнни.
— Только заочно — знаю, какой ущерб он нанес своими «коктейлями» здоровью пациентов, которые приходят ко мне лечиться. Скажите, после приема его «витаминов» у вас были проблемы со сном?
— Да. Но он выписывал…
— Фенотиазин?
Дэнни молча кивнул.
— И как долго это продолжалось?
— Два-три года. А это могло?..
Невролог огорченно покачал головой.
— Этого человека давно следовало бы лишить лицензии. Но боюсь, у него слишком много могущественных пациентов, которые его покрывают.
— Зачем он это сделал со мной? — снова закричал Дэнни в безумном отчаянии.
Ответ доктора Вайсмана оказался несколько суровее, чем его предыдущие замечания:
— Честно говоря, я не считаю, что вы должны взваливать всю вину на этого ужасного доктора Уитни. Жизненный опыт подсказывает мне, что его клиенты хотя бы в малой степени, но понимали, на что идут. Вы же очень умный человек.
Дэниел Росси прошел двадцать кварталов к офису Харока словно во сне. Он не узнал ничего нового о том, о чем уже смутно догадывался. Задолго до того, как услышать грозное заключение, он понял, что пришла беда, и врач это подтвердил.
Но все равно это был удар, и он утратил способность что-либо чувствовать. И сейчас ему предстояло воспользоваться этим состоянием временного оцепенения, чтобы совершить тягостный акт, которого требует от него диагноз врача.
Отречение от профессии пианиста.
Как только они остались наедине, Дэнни сообщил Хароку, что пересмотрел свои взгляды на жизнь — на то, как он живет и что он успел сделать в этой жизни. И для того чтобы обрести гармонию в душе, он решил уделять больше времени написанию музыки.
В конце концов, приводил он свои доводы, кто помнит Моцарта или даже Листа как пианиста? А все, что они сочинили, останется в вечности.
— Кроме того, я в долгу перед Марией и девочками и хочу больше времени проводить дома. А то ведь не успеешь оглянуться, как они вырастут и покинут гнездо. И тогда я уже не смогу быть с ними.
Харок терпеливо слушал и не перебивал своего виртуоза. Скорее всего, он утешался мыслью о том, что многие великие исполнители прошлого предпочитали заблаговременно сойти со сцены. А потом, проведя несколько лет вдали от пьянящих аплодисментов, они возвращались и концертировали с еще большей активностью, чем прежде.
— Дэнни, я уважаю твое решение, — начал он. — Не буду делать вид, будто я сильно расстроен, — у тебя впереди еще столько прекрасного. Лишь об одном я тебя попрошу — чтобы ты выполнил свои обязательства на этот год, ведь осталось сыграть два или три концерта. Это же разумно?
Дэнни помешкал минуту. За все добро, которое сделал для него Харок, старик по меньшей мере заслуживал правды.
Однако Дэнни не смог заставить себя рассказать эту страшную правду своему импресарио.
— Прости, мне действительно очень жаль, — сказал он мягко. — Но я должен остановиться прямо сейчас. Конечно, я обязательно напишу всем оркестрам, с которыми должен был выступать, и принесу им свои извинения. Ты мог бы… — Он помолчал. — Ты мог бы придумать для меня какую-нибудь болезнь. Гепатит, например.
— Мне бы этого не хотелось, — ответил Харок. — Всю свою жизнь я старался вести дела честно, без обмана, и сейчас мне уже поздно меняться. Хорошо, я сейчас проанализирую графики концертов и посмотрю, можно ли будет поставить на эти даты кого-то из музыкантов твоего калибра.
С нескрываемой грустью на лице он принялся шуршать своими бумагами. Вдруг тихо засмеялся, обрадовавшись.
— Что там? — спросил Дэнни.
— Я нашел одного пианиста, которым заменю тебя в Амстердаме, — это юный Артур Рубинштейн, восьмидесяти восьми лет от роду!
Боясь, что более не сможет сохранять присутствие духа, Дэнни встал, чтобы уйти.
— Спасибо, мистер Харок. Спасибо за все.
— Послушай, Дэнни, надеюсь, мы с тобой не потеряемся. В любом случае я обязательно приду послушать первое исполнение твоей первой симфонии.
— Спасибо.
Он повернулся к двери.
В эту минуту старик сказал ему вслед, словно спохватившись:
— Дэнни, если проблема в том, чтобы не играть на публике, есть возможность записываться. Посмотри на Глена Гульда или Горовица. А ведь столько блестящих произведений тобой еще не сыграно!
Дэнни просто кивнул и вышел. Он не смог сказать мистеру Хароку, что пианисты, которых он назвал, все еще играют обеими руками.
В два часа ночи Дэнни сидел дома почти в полном мраке своей студии на третьем этаже. Чей-то нежный голос прервал его одинокие страдания. Словно маленькая свечка зажглась в дальнем углу темной пещеры.
— Что случилось, Дэнни? — спросила Мария.
Она была в махровом халате поверх ночной рубашки.
— А почему ты решила, будто что-то случилось?
— Ну, во-первых, ты сидишь в темноте, значит, ничего не пишешь, это очевидно. А потом, вот уже несколько часов я не слышу никакой музыки. Впрочем, может, ты считаешь, что исполнение в тысячный раз детской песенки «Как мне маме объяснить» — это и есть настоящая музыка.
— Моцарт написал целую серию вариаций на эту тему, — ответил он не слишком убедительно.
— Да, я знаю. Ты любишь играть их на бис. Но я не слышу никаких вариаций, Дэнни. Потому и поднялась к тебе. Ты же знаешь, я никогда не мешала тебе прежде.
— Спасибо. Буду признателен, если ты и впредь не изменишь этой традиции.
— Я не уйду, пока ты не скажешь мне, что с тобой.
— Ничего особенного. Просто оставь меня одного, пожалуйста.
В душе он был рад, что она не послушалась, подошла к его креслу и опустилась на колени. Но когда она хотела дотронуться до его рук, он мгновенно отдернул их.
— Дэнни, ради всего святого, я вижу, как ты страдаешь. Знаю, ты нуждаешься во мне, милый, и вот я здесь. Мне хочется тебе помочь.
— Ты не можешь мне помочь, Мария, — с горечью произнес он. — Никто не может.
Он замолчал, ибо говорить был не в силах.
— Это из-за левой руки, да? Знаешь, я поняла — что-то произошло в тот вечер в студии. Я проходила мимо твоей спальни поздно ночью и видела, как ты сидел под лампой и неотрывно смотрел на нее, мне показалось — со страхом.
— С моей левой рукой все в порядке, — холодно ответил он.
— Я видела за обедом, как она дрожит, Дэнни. И я заметила, как ты старался это скрыть. Может, стоит показаться врачу?
— Уже показался.
— И?
Ответить словами он не смог. И просто заплакал.
Она обняла его.
— О Мария, — рыдал Дэнни, — я больше не смогу играть на фортепиано.
А затем он рассказал ей обо всем. О трагическом путешествии, которое началось в кабинете доктора Уитни и закончилось на приеме у доктора Вайсмана.
После того как он закончил свой рассказ, они долго проплакали в объятиях друг друга.
Наконец она утерла свои слезы и крепко схватила его за плечи.
— А теперь ты послушай меня, Дэнни Росси. Хотя все это и ужасно, но не смертельно. У тебя все еще есть профессия. И ты все равно будешь заниматься музыкой. И самое главное, ты все еще живой и будешь жить со своей семьей. Для меня это особенно важно. Я выходила за тебя замуж не потому, что ты лучше всех играл Листа. И не потому, что ты был звездой. Я вышла за тебя потому, что любила и поверила тебе, когда ты сказал однажды, что я тебе нужна. Дэнни, дорогой, мы же вместе, значит — справимся.
Мария не отпускала его, когда он прильнул к ее плечу, безмолвно рыдая.
И в отличие от публики, которая хлопает в ладоши, а потом расходится по домам, Мария всегда будет рядом. Она встала и взяла его за руку.
— Пойдем, Росси, надо немного поспать.
Они спускались по лестнице рука об руку. И когда очутились на втором этаже, она не дала ему уйти. Напротив, повела за собой по коридору.
— В твою спальню? — спросил он.
— Нет, Дэнни. В нашу спальню.
Из дневника Эндрю Элиота
11 мая 1978 года
Сегодня моей самооценке хорошенько досталось. Вышел «Отчет к двадцатилетию окончания университета» нашего выпуска.
Некоторые вещи стали для меня неожиданностью. Конечно, об этом писали в газетах в прошлом году, но все равно удивительно было прочитать статью о Дэнни Росси и самому убедиться, что он действительно перестал выступать с фортепианными концертами. Представляю, какого мужества это стоило — повернуться спиной к обожающей тебя публике, я перед ним просто благоговею. Он также перестал дирижировать оркестром в Лос-Анджелесе. И сосредоточил всю свою деятельность в Филадельфии.
И хотя одной из причин всех этих перемен он назвал свое стремление больше сочинять, совершенно очевидно, что в первую очередь им двигало желание проводить больше времени с женой и детьми. Как он выразился, семья для него — самое главное в жизни.
Вот это характер — уважаю парня. За то, как он расставил приоритеты.
Теперь о печальном, в дополнение к нескольким сообщениям о смерти. Я обратил внимание на то, что многие долгосрочные браки распались совсем недавно. Будто у кого-то из супругов сточились шестеренки и на третье десятилетие их уже не хватило.
Я думаю, что браки, заключенные при Эйзенхауэре, сохранялись даже в демократическом Камелоте, который был создан при Джоне Ф. Кеннеди. Но вероятно, если придерживаться аналогичной метафоры, годы правления Никсона приучили супружеские пары подслушивать записи, выявляя связи. Чтобы узнать всю правду о себе и уйти.
Из хороших новостей: у некоторых наших однокашников дети стали в этом году первокурсниками.
Плохая новость: мой сын не входит в их число. Или мне надо говорить «мой бывший сын», поскольку я ничего не знаю о нем.
Даже сейчас, когда прошло столько времени, я молюсь каждый раз, вынимая почту из ящика, в надежде найти там письмо или открытку. Или хоть что-нибудь. А если я вижу, как какой-нибудь волосатый хиппи просит на улице подаяние, то обязательно даю этому парню доллар или два, надеясь, что и к Энди, где бы он ни находился, чей-то отец тоже проявит щедрость.
Я не могу допустить мысли, что потерял его навсегда.
Естественно, в собственном отчете я не стал упоминать, что мой ребенок от меня отрекся. Сообщил только, что я начал искать другую работу, устав от Уолл-стрита, и мне повезло. Руководитель недавно созданной Компании Гарвардского университета попросил меня переехать в Кембридж и присоединиться к его команде, которая призвана собрать триста пятьдесят миллионов долларов для нашей альма-матер.
Когда Фрэнк Харви позвонил мне с этим предложением, я с радостью согласился. Ведь это для меня возможность не только вырваться из железобетона всех нажитых своих печалей, но и снова пожить в единственном месте, где я был когда-то счастлив.
В сущности, моя работа заключается в том, чтобы общаться с людьми нашего выпуска, восстанавливать с ними прежние дружеские отношения и делать так, чтобы они, после соответствующей обработки, прилично раскошелились в пользу Гарварда.
Поскольку я искренне верю в свое дело, то не считаю его надувательством. Скорее это сродни миссионерской деятельности. Плюс ко всему меня включили в комитет по организации традиционного сбора по случаю двадцатипятилетия окончания университета (5 июня 1983 года)! Говорят, это будет главным событием в нашей жизни, и мне поручено сделать его таким.
Разумеется, прежде чем давать Гарварду согласие, я поговорил с Лиззи. Она растет очень хорошим человеком, и вряд ли это моя заслуга. Впрочем, то обстоятельство, что ее мамулечка живет очень далеко, по-моему, пошло девочке на пользу. Я вижусь с дочерью по нескольку раз в месяц, и, как мне кажется, теперь мы стали гораздо ближе.
Она — романтичная натура (как и ее папа) и поэтому постоянно уговаривает меня найти себе жену. Я отшучиваюсь, как могу. Но, глядя каждое утро на одинокую зубную щетку в стакане, я понимаю: она права.
Может, вернувшись в Гарвард, я вновь обрету веру в себя.
Правда, я не уверен, будто она у меня когда-либо была.
*****
Александра Хейга не выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии в 1980 году. Зато Рональд Рейган, которого выдвинули и впоследствии избрали президентом, предложил ему пост государственного секретаря.
Хейг, в то время глава корпорации «Юнайтед текнолоджиз», немедленно позвонил своему приятелю, жителю штата Коннектикут Джорджу Келлеру, и предложил ему занять вторую по значению должность во внешнеполитическом ведомстве правительства — помощника госсекретаря.
— Когда ты сможешь приступить, старина? — спросил Хейг.
— Да в любое время, — обрадовался Джордж. — Но ведь Рейган заступает на пост только в январе.
— Да, но ты мне понадобишься раньше — поможешь подготовиться к слушаниям перед утверждением на должность в сенатском комитете по иностранным делам. В этих сенаторских джунглях водится несколько партизан, которые много лет ждали удобного случая, чтобы меня подстрелить.
Хейг не преувеличивал. Слушания длились в течение пяти суток. Вопросы, подобно пулям, летели в него из всех углов. На свет извлекались все призраки Уотергейта. Припомнили все, в том числе Вьетнам, Камбоджу, подслушивающие устройства в Совете национальной безопасности, Чили, ЦРУ и амнистию Никсона.
Сидя рядом со своим будущим начальником и тихо подсказывая ему то одно слово, то другое, Джордж чувствовал, как в нем самом начинают просыпаться забытые страхи. Что, если во время предстоящих слушаний, когда будут утверждать на должность уже его самого, какой-нибудь враждебно настроенный сенатор или молодой честолюбивый конгрессмен обнаружит, что много лет тому назад он оказал небольшую «услугу» русским?
Но как оказалось, он зря беспокоился. Сенаторы в комитете, сорвав все свое раздражение на Хейге, исчерпали запас накопившейся неприязни к политике Никсона. Кроме того, Джордж красиво говорил и хорошо держался, да еще и шутил. И был утвержден в своей должности. За него проголосовали единогласно.
Команда Хейга — Келлера, отвечавшая за внешнюю политику, взялась за дело энергично и впечатляюще, выполняя обещание Рейгана усилить руководящую роль Америки в мире.
Тем не менее Джордж замечал: как ни странно, но при закрытых дверях государственный секретарь чувствовал себя неуверенно. И однажды в конце долгого рабочего дня Джордж улучил удобный момент и решился затронуть эту тему.
— Ал, что тебя гложет?
— Джордж, — ответил тот, радуясь возможности выговориться, — ну как я могу вести иностранные дела, когда мне так ни разу и не удалось остаться с Рейганом наедине? Вечно вокруг него крутятся какие-то его калифорнийские дружки и суются со своими советами. Клянусь, если и дальше так будет продолжаться, я подам в отставку.
— Это будет жест совсем в духе Киссинджера, — улыбнулся Джордж.
— Да, — ухмыльнулся Ал. — И у Генри он всегда срабатывал.
Хейг сделал свой ход на следующей неделе, после окончания приема в Белом доме в честь премьер-министра Японии. Он обратился к президенту с просьбой уделить ему пять минут своего времени «наедине».
Рейган тепло приобнял Хейга за плечи.
— Ал, я с удовольствием уделю тебе целых десять минут.
Джордж стоял, наблюдая за тем, как двое мужчин прогуливаются по лужайке Белого дома, когда внезапно из-за спины возник Дуайт Бевингтон, советник по национальной безопасности.
— Послушайте, Джордж, — сказал он дружелюбно, — если ваш босс сейчас пытается брать шефа на пушку, то это пустая затея. Кроме того, всем нам известно, кто является настоящими мозгами в Госдепе. Вообще-то я считаю, мы с вами могли бы чаще общаться и узнать друг друга поближе.
Джордж не успел ответить, как госсекретарь обернулся к нему с широкой улыбкой на лице.
— Не знаю, как это у Ронни получается, — сиял от радости Хейг, когда они вместе возвращались на машине в Госдеп, — но он и правда умеет делать людям приятное. Он отклонил мою просьбу об отставке и пообещал, что мы будем общаться напрямую. Кстати, я видел, как этот Бевингтон цеплялся к тебе с разговором. Вынюхивал что-то?
— Тщетно, — сказал Джордж спокойно.
— Молодец. Знаешь, я ведь рассчитываю на твою преданность, старина.
Джордж Келлер теперь был уверен, что дни его начальника сочтены. И стал готовиться к тому, чтобы спрыгнуть с корабля прежде, чем он окончательно затонет.
Время от времени он теперь обедал вместе с Бевингтоном — просто чтобы поделиться с ним своим богатым опытом. Но всегда докладывал об этих встречах своему боссу.
Он ни разу открыто не демонстрировал свою нелояльность по отношению к Александру Хейгу. Возможно, потому, что события приняли стремительный оборот и он просто не успел.
Госсекретарь уже было отчаялся доказать администрации Рейгана результативность своей работы, как весной 1982 года у него появилась редкая возможность это сделать.
Аргентинские войска высадились на Фолклендских островах. И для защиты своего крошечного аванпоста Британия направила туда огромную армаду военных кораблей, намереваясь вступить в вооруженное противостояние в Южной Атлантике.
Американский президент одобрил план Хейга по предотвращению кровопролития, для осуществления которого надо было совершить несколько полетов между Лондоном и Буэнос-Айресом — как это делал Киссинджер во время международных кризисов.
Хейг разбудил Джорджа среди ночи и велел в шесть ноль-ноль утра прибыть на военно-воздушную базу в Эндрюс.
С этого времени понятия «день» и «ночь» для двух дипломатов перестали существовать. Если удавалось, они спали урывками в самолете, который возил их по воздуху туда-сюда — из Англии в Аргентину и обратно, пересекая бесконечное количество часовых поясов, от одних тщетных переговоров к другим, не менее тщетным.
И вот, как раз перед нападением Британских вооруженных сил, Хейг чудесным образом убедил аргентинского генерала Гальтиери вывести войска и начать переговоры. Казалось, это был настоящий успех.
Когда они пристегивались ремнями, готовясь к длительному перелету домой, Джордж поздравил своего босса:
— Ал, думаю, ты одержал огромную победу.
И вдруг, как раз в тот момент, когда дверь самолета уже должна была закрыться, прибыл посланный с письмом от премьер-министра Косты Мендеса.
— Разве ты не станешь читать? — спросил Джордж.
— А зачем? — тяжко вздохнул Хейг. — Я и так знаю, что это мой смертный приговор.
В сущности, экзекуция Александра Хейга началась в то самое время, пока он был еще в воздухе.
Неназванный источник в Белом доме заявил, что администрация президента расценивает его бесплодную командировку лишь как попытку «пустить пыль в глаза». Журналисты намек поняли и стали наперебой приводить слова различных авторитетных источников о том, что «Хейг должен уйти, и как можно скорей».
Джордж Келлер стал чаще обедать с Дуайтом Бевингтоном.
Он сидел за своим письменным столом, тщательно шлифуя каждое слово в длинном телексе для Фила Хабиба, который мотался в это время между Дамаском и Иерусалимом, когда по громкой связи к нему обратилась его секретарша:
— Доктор Келлер, телефонный звонок от Томаса Лейтона.
— Вы имеете в виду журналиста из «Нью-Йорк таймс»?
— Думаю, да, сэр.
— Хорошо, соедините меня с ним.
Если это и в самом деле тот самый Томас Лейтон, известный своими журналистскими расследованиями и автор очень хорошей книги о России, то это благоприятный знак.
Возможно, журналиста уже проинформировали, что Джордж в любой момент готов занять место Хейга. И, подражая своему наставнику из Гарварда, Джордж намеревался подыграть прессе — как по нотам.
— Спасибо, что ответили на мой звонок, доктор Келлер. Мне хотелось бы попросить вас об одном одолжении. В «Таймс» мне предоставили отпуск, чтобы я написал книгу о вашем бывшем руководителе, Генри Киссинджере.
— Для чего: чтобы заморочить людям голову или просто опорочить Генри?
— Надеюсь, чтобы рассказать о нем правду, — ответил журналист. — Я не скажу, будто никогда не слышал о нем неприятных вещей. Вот почему мне надо с вами встретиться — если бы вы уделили мне пару часов своего времени, у меня сложилась бы более гармоничная картина.
— Я понимаю, о чем вы, — сказал Джордж, думая о том, как хорошо было бы иметь такого влиятельного журналиста в своей будущей команде. — Мы могли бы встретиться где-нибудь на следующей неделе и пообедать вместе. Среда вам подходит?
— Прекрасно, — сказал Лейтон.
— Встречаемся в «Сан-Суси» в двенадцать.
Первое, что бросилось в глаза и удивило, — юный возраст журналиста. Он скорее был похож на студента, пишущего для «Кримзон», чем на лауреата Пулитцеровской премии.
Когда Джордж сказал об этом Лейтону, тот признался:
— Вообще-то я действительно писал для «Крима». Когда учился в Гарварде, выпуск тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года.
Они дружески поболтали, вспоминая университетские годы. Затем журналист приступил к делу.
— Как вы, наверное, знаете, не все считают Киссинджера рыцарем в сияющих доспехах.
— Не все, — согласился Джордж. — Но такова цена, которую приходится платить, когда вы наделены властью. И какими же словами обзывают Генри?
— Всякими, начиная с «военного преступника» и заканчивая «безжалостным манипулятором», и в промежутке между ними еще много других эпитетов. Вы удивитесь, но даже в Гарварде у него была дурная слава.
— Да. — Джордж улыбнулся. — Я был его студентом.
— Это мне тоже известно. А еще я знаю, что вы заслужили прозвище «тень Киссинджера». Правда ли, будто вы были единственным человеком на свете, кого он посвящал во все свои важнейшие планы, когда принимал решение?
— Это некоторое преувеличение, — ответил Джордж, изображая скромность. А затем пошутил: — Видите ли, он не доверился мне, когда собрался жениться на Нэнси. И все же какова главная тема вашей книги?
— У меня сложилось впечатление, будто ваш босс был, как бы это выразиться, весьма безнравственным человеком. Он играл в игру под названием «мировая политика», а люди были для него как пешки.
— Довольно жестко, однако, — перебил Джордж.
— Именно поэтому я хотел послушать вашу версию тех событий, — сказал Лейтон. — Приведу несколько примеров. Некоторые хорошо осведомленные люди, у которых я брал интервью, говорят, будто он умышленно приостанавливал поставки оружия израильтянам во время войны Судного дня, чтобы заставить их смягчить позицию и вступить в переговоры.
— А ведь я знаю, кто вам это сказал, — раздраженно бросил Джордж.
— Без комментариев. Я никогда не выдаю своих источников. В любом случае, я и сам кое-что раскопал и обнаружил, что он был не прочь пойти на любые уступки, если это могло помочь ему добиться своей цели.
— А нельзя ли поконкретней?
— Видите ли, этот случай может показаться мелочью, но я считаю, что он типичен для его методов. Если вспомнить тысяча девятьсот семьдесят третий год — он тогда дал добро на продажу русским одного модернизированного фильтра для спутникового фотографирования. Мне сказали, что в Министерстве торговли были сильные сомнения по поводу того, продавать им это устройство или нет.
Джордж похолодел.
— Я думаю, Генри сделал это в обмен на что-то. И теперь мне бы хотелось, чтобы вы сказали, что он получил взамен.
Джордж Келлер часто давал показания перед сенатскими комиссиями. Он знал, когда кому-либо из свидетелей задают неожиданный вопрос, железное правило для отвечающего — выждать. А потом уже ответить — по возможности простодушно и откровенно.
— Я думаю, эта история заведет вас в тупик, Том, — сказал он негромко.
— А я думаю, не заведет.
— Что придает вам такую уверенность?
— Выражение вашего лица, доктор Келлер. — Лейтон помолчал немного, а потом вежливо произнес: — Не хотите об этом рассказать?
Джордж лихорадочно соображал. Надо замять эту историю, иначе вся жизнь пойдет прахом.
Что предложить этому парню? Выгодную сделку, быстро решил он.
Единственное, что ему надо сделать, чтобы спасти себя, это… предать Киссинджера.
— Послушай, Том, — произнес он как бы между прочим, — хороший денек сегодня. Может, пойдем прогуляемся?
Для начала Джордж стал вести переговоры, не подлежащие разглашению. Не объясняя причин, он просто предложил обменять незначительную историю с фильтром на любую другую информацию — по желанию Лейтона.
— Я могу тебе доверять, Том?
— У меня есть репутация, — ответил журналист. — Я ни разу никого из своих источников не выдал. И никогда не выдам.
— Я тебе верю, — сказал Джордж.
А что ему еще оставалось?
25 июня приговор был приведен в исполнение. Рональд Рейган вызвал Александра Хейга в Овальный кабинет и вручил ему конверт. В нем содержалось письмо, в котором принималась отставка госсекретаря. Теперь Хейгу осталось только официально покинуть пост.
В Вашингтоне ходили слухи, что Келлер собирается занять эту должность. В газете «Вашингтон пост» додумались до того, что написали о нем как о человеке, который «лучше всех подходит для такого назначения Рейганом».
Десятки репортеров постоянно дежурили возле его дома в ожидании момента, когда только что получивший назначение член правительства с супругой выйдут на улицу и можно будет сфотографировать их ликующие лица.
Главные телеграфные агентства провели свои изыскания и подготовили его биографию. Получилась сага о юноше, который бежал от коммунистического гнета и поднялся на самую вершину. Только в Америке… и так далее.
Джордж и Кэти не отходили от телефона. Друг с другом они разговаривать не смели. Кэти только повторяла весь вечер с небольшим перерывом, что она все равно будет любить его, даже если он не станет государственным секретарем.
Ему отчаянно хотелось выпить, но она запретила — нельзя ни капли.
— Тебе нужно иметь ясную голову, Джордж. Вот когда все закончится — так или иначе, — мы найдем с тобой время как следует клюкнуть.
Зазвонил телефон. Это был Генри Киссинджер.
— Скажите мне, господин госсекретарь, — весело произнес он, — когда вас утвердят, вы еще будете со мной разговаривать?
От волнения у Джорджа перехватило дыхание.
— Что тебе известно, Генри? — тут же спросил он.
— Только то, что пишут в газетах. Не забудь упомянуть обо мне, когда будешь выступать с речью, ладно?
В 23.50 снова раздался телефонный звонок.
— Вот оно, — сказал Джордж Кэти, подходя к телефону, затем сделал глубокий вдох и поднял трубку. — Да?
— Джордж?
Это был Каспар Вайнбергер, министр обороны — и гарвардец выпуска 1938 года. Хорошая примета.
— Привет, Кэп, — еле слышно произнес Джордж.
— Послушай, Джордж, президент очень много думал о Госдепе… — Он сделал небольшую паузу, а потом объявил как можно мягче: — Он решил взять Шульца.
— О.
Наблюдая за несчастным выражением лица мужа, Кэти взяла его под руку.
— Надеюсь, ты понимаешь: ничего лично против тебя он не имеет, — продолжал министр обороны. — Просто Рону приятнее вести дела с калифорнийскими ребятами — ты понимаешь, о чем я. И я знаю: Шульц хочет, чтобы ты оставался на своем месте в качестве помощника госсекретаря.