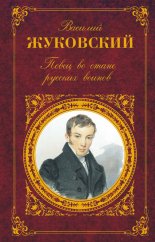Лев Толстой Шкловский Виктор

Поправляли при переизданиях «Азбуку» Толстой и другие за Толстого много раз. Приходилось добиваться официальной рекомендации книги в библиотеки и школы. 26 июля 1891 года Софья Андреевна записывала: «Поправляла весь день корректуру Азбуки. Ученый Комитет не одобрил ее ввиду разных слов, как: вши, блохи, черт, клоп, и потому, что ошибки есть, и еще предлагал выкинуть рассказы: О лисе и блохах, о глупом мужике и другие, на что Левочка не согласился».
Для Толстого это быт, который часто не нравится, но еще не переделан.
В книге третьей «Азбуки» (1872) напечатан рассказ о том, как мыши обгрызли внизу двести молодых яблонь, посаженных Толстым. Рядом написан рассказ «Клопы»: оба рассказа начинаются со слова – Я.
Про яблони написано совсем как про людей – жалко, что яблони росли четыре года, а потом все они погибли, кроме девяти, и все это очень хорошо объяснено: «Кора у деревьев – те же жилы у человека: через жилы кровь ходит по человеку, – и через кору сок ходит по дереву и поднимается в сучья, листья и цвет».
Про клопов рассказано почти без раздражения: человек вступает с ними в бесполезное единоборство. Толстой ставит кровать на постоялом дворе посредине комнаты и под каждую ножку кровати ставит деревянную чашку с водой и думает про клопов: «Перехитрил я вас». Но клопы прыгают на него с потолка. Барин надевает шубу и уходит на двор, решив: «Вас не перехитришь».
Эти рассказы огорчали критиков, уж очень жизнь простая и мало в ней случается: она бесхитростная и некрасивая. Кроме того, огорчало и удивляло критиков, что в «Азбуке» нет вещей других писателей – ни Гоголя, ни Тургенева. Про другую жизнь рассказано мало: есть рассказ про эскимосов, про негров, но про европейцев рассказов нет.
То, что происходит в книгах, самое простое и старое: взяты басни Эзопа и еще более упрощены. Из нового рассказано про железную дорогу и про электричество. Рассказ про железную дорогу очень интересен. Он как бы противоречит книге в ее целом – называется он «От скорости сила». Внизу подзаголовок – «Быль».
Дорога мимо Ясной Поляны пошла недавно, на паровозы люди еще дивились, паровозы были как бы худощавее, чем теперешние, и потому казались выше.
Рассказ начат так: «Один раз машина ехала очень скоро по железной дороге. А на самой дороге, на переезде стояла лошадь с тяжелым возом. Мужик гнал лошадь через дорогу, но лошадь не могла сдвинуть воз, потому что заднее колесо соскочило. Кондуктор закричал машинисту: „Держи“, – но машинист не послушался. Он смекнул, что мужик не может ни согнать лошадь с телегой, ни своротить ее и что машины сразу остановить нельзя. Он не стал останавливать, а самым скорым ходом пустил машину и во весь дух налетел на телегу. Мужик отбежал от телеги, а машина как щепку, сбросила с дороги телегу и лошадь, а сама не тряхнулась, пробежала дальше».
Машинист объясняет, что так убили лошадь и сломали телегу, а если бы послушались кондуктора, то сами бы убились и перебили всех пассажиров.
Мораль кондуктора напоминает разговор Толстого с Герценом о том, что если лед трещит, то единственное спасение – идти быстрее.
«От скорости сила» – написано против трусости и промедления.
Сам Толстой был смел. Из поместья в поместье, минуя мосты, ездили летом через раки бродом, зимой и весной переезжали по льду, иногда ненадежному, переправлялись и в ледоход на лодке.
Дело не только в смелости – дело в решении и в оценке быстроты. Когда говорят, что надо идти быстрее, то возникает вопрос:
Куда идти?
Куда торопиться?
Чего желать достигнуть?
Но тут начинается идиллия.
В «Азбуке» Толстого люди живут деревенской жизнью и идти им некуда, железная дорога с паровозом появляется неожиданно; без нее эти люди могли бы жить, пахать, заводить корову, плакать, когда корова умерла, стареть, растить детей.
Книга говорит о простой морали – неподвижной. Города в ней почти нет, есть только рассказ, мало переделанный Толстым из рассказа ученика яснополянской школы. Рассказ называется «Как меня не взяли в город».
Мальчик просился в город, а его не взяли, он заснул от огорчения, город ему приснился. Потом он пошел на улицу играть, а отец приехал из города.
Есть в «Азбуке» корабли; на одном корабле сын капитана, погнавшись за обезьяной, залез в такое место, что не мог вернуться, и отец под угрозой выстрела из ружья заставил сына прыгнуть в воду. В другом рассказе купаются дети, а к ним подобралась акула, и старый артиллерист, когда увидал акулий плавник рядом со своим сыном, сумел выстрелом из пушки убить акулу.
Это все рассказы о случаях поразительных, говорящих о людской смелости и об удаче.
Корабли, конечно, парусные, и все это почти басни, хотя все это быль.
Люди занимаются своей крестьянской работой, и примеры о строении вещества доходят, в сущности говоря, только до строения дерева – объясняется, почему втулка колеса делается из березы, а не из дуба.
Чтобы не кололась.
Деревня замкнута полями, и время как будто не движется. Есть рассказы из летописи, есть отрывки из Библии, есть рассказ про Ермака, про разговор Петра I с мужиком и про то, как мужики тащили брошенные вещи из сгоревшей Москвы.
История неподвижна, она делается где-то за полями и к полям не приходит.
Рассказ об артиллеристе, стреляющем из пушки, и былины, пересказанные Толстым, стоят в одном плане и произошли в каком-то общем времени.
В этом мире нет «машиниста».
Тут скорости нет.
Жизнь патриархальная, медленная и тем самым сильная. Толстой мог бы написать: «от неподвижности сила». Такого рассказа нет, но Толстой собирался к тому времени издавать журнал «Несовременник».
Есть еще рассказ про Пугачева: Пугачев пришел в деревню, господа убежали, маленькую господскую девочку переодели в крестьянку, она Пугачеву понравилась, и он ей дал гривенник.
Пугачев был, но что такое было с Пугачевым, из-за чего он воевал с господами, не говорится: сказано только, что были крестьяне, которые спрятали господское дитя от Пугачева.
Господа воюют, ездят на кораблях, разбивают сады и охотятся, дети их учатся ездить верхом, чтобы охотиться и воевать. Рассказано, как четверо братьев, а Толстых как раз столько и было, учились верховой езде, как били они старого коня, которого звали Вороном, показывая свою удаль, и как пристыдил дядька мальчика, который мучил старую лошадь.
Много рассказов про охоту. Семь рассказов подряд – про мордашку Бульку. Мордашками звали сильных собак, с которыми охотились на крупного зверя. Когда барин уезжал на Кавказ, то он запер Бульку, с которым ходил на медведя. Булька разбил окно и нагнал барина. Это очень хорошо описано: «На первой станции я хотел уже садиться на другую перекладную, как вдруг увидал, что по дороге катится что-то черное и блестящее. Это был Булька в своем медном ошейнике, он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой».
Потом рассказывается, как Булька сражался с кабаном. Рассказывается еще, как Булька сражался с волком, как дружил с другими собаками и ревновал хозяина к ним.
Рассказы о собаках подробны, по стилю отличаются от всех других рассказов: в них нет нравоучения; они полны точных деталей.
Казалось бы, что про Бульку Толстой должен был рассказать в «Казаках»: когда Оленин идет по лесу, то сказано, как бежит перед ним собака и как ее черная спина становится лиловой от бесчисленных комаров, которые на нее насели. Но Булька в «Казаках» не назван. В «Казаках» решаются большие вопросы. Булька показался в «Азбуке» как часть быта, обыкновенного быта Толстого. Барин в «Азбуке» вспоминает про Кавказ, вспоминает Бульку, чтобы не думать об Ерошке.
Кроме Бульки, есть еще рассказ про другую собаку – Дружка, который дрался с волком. Есть большой, очень медленный, спокойный рассказ «Охота пуще неволи». В нем говорится про охоту на медведя, про зимний лес, про ночевку в лесу на еловых ветках. «Я так крепко спал, что и забыл, где я заснул. Оглянулся я – что за чудо! Где я? Палаты какие-то белые надо мной, и столбы белые, и на всем блестки блестят. Глянул вверх – разводы белые, а промеж разводов свод какой-то вороненый, и огни разноцветные горят. Огляделся я, вспомнил, что мы в лесу и что это деревья в снегу и в инее мне за палаты показались, а огни – это звезды на небе промеж сучьев дрожат.
В ночь иней выпал: и на сучьях иней, и на шубе моей иней, и Демьян весь под инеем, и сыплется сверху иней».
В 1858 году зимой обошли медведицу – поехал Лев Николаевич на медвежью охоту. Стал Толстой на свое место с двумя ружьями ждать медведицу, но не отоптал вокруг себя места. Он всегда все делал по-своему и все заново решал.
Фет это рассказывает так: «Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте, чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрелянии в медведя, а не в ратоборстве с ним».
Пошли загонщики; медведица внезапно выбежала на Толстого; Лев Николаевич выстрелил; потом выстрелил второй раз, попал, но не смог схватить второе ружье, оступился в снегу, медведица навалилась на него, стала грызть голову. Толстой втягивал голову в плечи, подставляя меховую шапку в пасть зверя.
Вожак по медведям, Асташков, подбежал к медведице и, ударив ее хворостиной, закричал негромко: «Куда ты? Куда ты?»
Медведица испугалась, убежала: ее убили на другой день. У Толстого была порвана щека под левым глазом и сорвана кожа с левой стороны лба.
Фет уверяет, что Толстой, встав, когда его перевязывали, произнес: «Что-то скажет Фет?»
Фет – большой поэт, но случай под рождество 1859 года рассказан им себе в похвалу: как он все хорошо предвидел и как из-за того, что его не слушались, чуть не произошло несчастье.
Толстой через четырнадцать лет рассказывает все спокойно и страшно. У него главный герой Демьян – вожак, и главное не опасность, а охота: «А Демьян, как был без ружья, с одной хворостиной, пустился по дорожке, сам кричит: „Барина заел! Барина заел!“ Сам бежит и кричит на медведя: „Ах ты, баламутный! Что делает! Брось! Брось!“
Послушался медведь, бросил меня и побежал. Когда я поднялся, на снегу крови было, точно барана зарезали, и над глазами лохмотьями висело мясо, а сгоряча больно не было.
Прибежал товарищ, собрался народ, смотрят мою рану, снегом примачивают. А я забыл про рану, спрашиваю: «Где медведь, куда ушел?» Вдруг слышим: «Вот он! вот он!» Видим: медведь бежит опять к нам. Схватились мы за ружья, да не поспел никто выстрелить, – уж он пробежал». Дальше идет подробный рассказ, как взяли этого медведя.
Целый отдел из трех рассказов посвящен в «Азбуке» описанию того, как рубят деревья. Весь кусок написан слитно, вместе: помещик устраивает себе сад и невольно портит природу, он хочет вырубить сушь и дичь, видит большой тополь в два обхвата, тополь окружен порослью. Барину хочется, чтобы место было веселое, ему кажется, что старый тополь заглушен молодыми. Он вырубает молодые тополя, а старый тополь засыхает. Это были его дети, которые шли от его корня, и он уже собирался передать им свою силу; человек вмешался неумело, старик тополь засох даром.
Напрасно срубает помещик и черемуху. Подрубили дерево, навалились на него. «В то же время точно вскрикнуло что-то – хрустнуло в средине дерева; мы налегли, и как будто заплакало, – затрещало в средине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились.
«Эх штука-то важная! – сказал мужик. – Живо жалко!» А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим».
Третий рассказ называется «Как деревья ходят». Помещик опять вычищает около пруда сад, нашел черемуху и помнит, что сад был чищен, а черемуха большая, толстая. Оказывается, черемуха приползла сюда из-под липы, где глохла, но она успела уже отбросить старый корень и вцепилась «сучком за землю и сделала из сучка корень».
Получается так, что человек только путается в жизни, мешает жить деревьям.
Лев Николаевич любил патриархальную жизнь, любил ароматные самарские степи, уклоны холмов, травы, по которым ходили табуны коней, здоровый, спокойный народ башкирский, так же он любил и деревню. Для того чтобы понять башкирскую жизнь, он читал старые книги, решил, что башкирцы похожи на скифов, про которых рассказывал когда-то греческий историк и географ Геродот. Как-то получилось так, что и стремление писать проще, не украшеннее, о самом главном и простом, и знание сейчас живущих и не изменивших старый быт башкир привели Толстого к изучению греческого языка.
Греческая литература, простота старого рассказа помогли Толстому написать его «Азбуку».
Но Толстой, посмотревши на башкир, купил там землю, вернее, перекупил ее, и очень недорого – по десять рублей за десятину. (Это почти что гектар.)
Потом через год увидал, что все изменилось, что нет просторов, распахана степь, и живут там крестьяне, а потом пришел голод.
Толстой любил патриархальность, но сам как хозяин нес в себе ее разрушение, и поэтому «Азбука» это книга о старой деревне, которая исчезает.
Что будет после – неизвестно.
«Скорость есть сила», но Толстой против скорости, потому что он не знает, куда ехать и зачем ехать.
Самым большим рассказом в «Азбуке» оказался рассказ «Кавказский пленник». Толстой под крепостью Грозной чуть не попал в плен к чеченцам, русских офицеров в плен тогда попадало много, их с трудом и дорого выкупали семьи. Тема «русский среди чеченцев» – это тема «Кавказского пленника» Пушкина. Толстой взял то же название, но рассказал все по-другому. Пленник у него русский офицер из бедных дворян, такой человек, который все умеет делать своими руками. Он почти что не барин. Попадает он в плен потому, что другой, знатный офицер, ускакал с ружьем, не помог ему, а сам тоже попался.
Жилин – так зовут пленника – понимает, за что горцы не любят русских. Чеченцы люди чужие, но не враждебные ему, и они уважают его храбрость и умение починить часы. Пленника освобождает не женщина, которая в него влюблена, а девочка, которая его жалеет. Он пытается спасти и своего товарища, взял его с собой, но тот несмел, неэнергичен.
Жилин тащил Костылина на плечах, но попался с ним, а потом убежал один.
Этим рассказом Толстой гордится. Это прекрасная проза – спокойная, никаких украшений в ней нет и даже нет того, что называется психологическим анализом. Сталкиваются людские интересы, и мы сочувствуем Жилину – хорошему человеку, и того, что мы про него знаем, нам достаточно, да он и сам не хочет знать про себя многого.
Кроме упражнений в чтении и маленьких рассказов, в «Азбуке» была еще и арифметика, и наставления для учителя.
Вокруг этой книги пошел большой спор. Толстой в «Отечественных записках» сам выступил со статьей. Смысл статьи в том, что обычно педагоги предполагают, будто ребенок приходит в школу, не умея мыслить, и они его обучают мышлению и счету. Между тем ребята, уже играя друг с другом, умеют считать; они уже вступили в жизнь. Та книжная мудрость и книжные разговоры, которым их обучают педагоги, не дорога вперед, а дорога назад.
Толстой считал, что логическое рассуждение и выговаривание всего полными словами – это не главное и даже не только не самое нужное, но, вероятно, не нужное вообще. Лев Николаевич отстаивал другой тип человека. Поэтому в статье «О народном образовании» идет вопрос не только об азбуке, а о том типе цивилизации, которую хотели навязывать ребятам.
Толстой говорил, что главное – знание языка, живого языка и церковнославянского – мертвого языка для понимания живого, и арифметика как основание математики. В этом Толстой был прав.
Но он был неправ, когда считал весь прогресс жизни ложным, хотел остановить его, а нужна была скорость.
Лев Николаевич считал, что «Азбуку» затравили, и очень болезненно относился к отрицательным рецензиям. Но при жизни Толстого «Азбука», несмотря на свою дорогую цену, – она стоила двадцать копеек, – была переделана и издана двадцать восемь раз. Софья Андреевна сама торговала книжками.
Мне рассказывал старый книжник Миронов, как служил он мальчиком в книжном магазине на Никольской улице, где торговали главным образом книгами для народа. Мальчика посылали на Хамовники в дом Льва Николаевича. В темный сад выходили амбары, открывали амбарную дверь, выносили связки. Книги продавали не по счету, а по весу, зная, сколько экземпляров идет на пуд. С мальчиком присылали деньги за пуд «Азбуки».
Иногда Лев Николаевич, уже старый, помогал мальчику поднять «Азбуку» с земли и положить на голову: показывал, как ее легче будет нести.
От Хамовников до Никольской улицы дорога очень далекая, а конка дорога.
Снова в Самарской губернии
После усиленных занятий греческим языком Толстой в июне 1871 года поехал в старые, любимые им места, в башкирские степи; обосновался в селе на реке Каралыке (приток реки Иргиза), находящемся в ста пятидесяти двух верстах от уездного города Николаевска.
Приезд Льва Николаевича был нерадостен: «Пишу тебе несколько слов, потому что устал и нездоровится. Устал я потому, что только что проехал последние 130 верст до Каралыка. Башкирцы мои все меня узнали и приняли радостно; но, судя по тому, что я увидал с вечера, у них совсем не так хорошо, как было прежде. Землю у них отрезали лучшую, они стали пахать, и большая часть не выкочевывает из зимних квартир».
Что же изменилось в Башкирии за последние десять лет?
Башкирцы и прежде не были чистыми кочевниками; перед отправлением на кочевку они засеивали поля, но жили они скотом.
Постепенно башкирские степи заселялись, и земля от них отходила к русским помещикам.
С. Т. Аксаков в «Семейной хронике» рассказывает про своего деда, которого он в книге называет Багровым. Багрову надоело жить в Симбирской губернии: «С некоторого времени стал он часто слышать об Уфимском наместничестве, о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носились слухи, что стоило только позвать к себе в гости десяток родичей отчинников Картобынской или Кармалинской тюбы, дать им два-три жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина, да несколько ведер крепкого ставленного башкирского меду, да лагун корчажного крестьянского пива, так и дело в шляпе: неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две…»
Угощение стоило недорого. После него заключали договор. Землю не мерили, а определяли ее границу, например: «От устья речки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропе, а от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор» и т. д. В таких межах «заключалось иногда десять – двадцать и тридцать тысяч десятин земли. И за все это платилось каких-нибудь сто рублей (разумеется, целковыми), да на сто рублей подарками, не считая частных угощений».
В 1832 году башкирцы были признаны владельцами всех тех земель, «…кои ныне бесспорно им принадлежали». Правительственное это постановление было очень двусмысленно. В Башкирии жило много русских – крестьян, убежавших на новые земли, раскольников, вернувшихся из Польши, молокан, ушедших от религиозных гонений; появились помещики.
Башкирцам было разрешено продавать землю, но с тем, чтобы у них оставалось на душу от сорока до шестидесяти десятин.
В 1869 году были изданы правила о наделе припущенников в башкирских вотчинных землях. Припущенниками звались крестьяне, которые поселились на башкирских землях с разрешения местного населения. Припущенники в результате не получили почти ничего, а возникло знаменитое дело о хищении башкирских земель, которое закончилось в 1881 году бесполезной сенаторской ревизией.
Отзвуки о хищении башкирских земель есть в «Анне Карениной»; там Каренин разбирает документы, придавая отчету правильную и, по его мнению, строго законную, бюрократическую форму.
Земли были отмерены, и предполагалось, что припущенникам дадут по пятнадцати десятин в надел, а пятнадцать десятин останется в запасе. Кроме того, считалось, что будет образован фонд свободных вотчинных земель, которые башкирцы-вотчинники смогут продавать на основании приговоров сельских сходов. Предполагалось организовать также управление запасными землями, которые должны были находиться в распоряжении, но не в собственности министерства государственных имуществ.
Я пишу эту довольно длинную историю, потому что она имеет отношение, к счастью, не совсем прямое, к делам Льва Николаевича.
Запасные земли должны были обеспечить припущенников.
Но в 1871 году были изданы правила по продаже казенных земель без торгов. Покупать имели право отставные чиновники – от ста пятидесяти до пятисот десятин, а служащие чиновники имели право брать участки от пятисот до двух тысяч десятин.
Такие участки назначались для людей «наиболее заслуженных».
Но и эти правила о размерах владения не соблюдались. Земля не мерилась, границы ее по-прежнему определялись урочищами, а в указанных границах содержалось иногда и десять тысяч десятин. Расхищение земель охватило Оренбургский край, Уфимскую губернию и, как мы увидим, частично Самарскую.
Участки земли получили все, начиная от московского генерал-губернатора и самарского губернатора до казенной повивальной бабки.
Таким путем были распроданы все запасные земли в Оренбургской губернии и триста шестьдесят тысяч десятин в Уфимской губернии. Раскуплены были лучшие земли с пристанями по реке Белой, Уфе, Симе, в эти участки попадал и строевой лес.
Десятина богатейшей земли обходилась первоприобретателю в шестнадцать и восемь копеек; конечно, банки давали сразу ссуды, в десять раз превышающие покупную стоимость земель, но для удобства покупателей платежи были рассрочены на тридцать семь лет.
Так было распродано много больше миллиона десятин.
Покупщики спешили продать хотя бы часть земли, повышая цену. Происходил грабеж, неслыханный и невероятный. Некоторое представление об условиях продажи в смягченном виде можно увидать в рассказе Льва Толстого «Много ли человеку зели нужно»: там земля как раз обводится по урочищам, но покупатель не чиновник, а богатый мужик. Башкирцы потеряли в кратчайший срок всю землю, припущенники начали арендовать землю у новых помещиков, и в краю все изменилось.
Теперь переходим на письма Льва Николаевича: «С тех пор, как приехал сюда, каждый день в 6 часов вечера начинается тоска, как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстается».
Жил Толстой и Степан Берс в кочевке, нанятой у муллы, мулла переехал в юрту рядом, поменьше. Пол юрты по летнему времени был застелен ковылем, в степь вела деревянная расписная дверка вместо обычной кошмы, посредине было отверстие прямо в небо, отверстие это можно было затягивать при плохой погоде кошмой.
Пили много кумыса. Считалось, что во время лечения кумысом нельзя есть мучное и овощи, можно было есть мясо, но лучше без соли. Так питались кумысники, которых наехало туда много. Для самих башкир обычной пищей была салама – тесто, кусочками сваренное в воде, и ячменная и ржаная болтушка. Были и другие кушанья: бешбармак – вареное тесто с мясом, каймак – топленое молоко со сметаной, плов и т. д. Но даже салама в бедных юртах теперь встречалась мало.
Лев Николаевич постепенно привыкал к новой жизни; к новому положению всегда надо привыкать, и ясно было, что жизнь у людей меняется.
Толстой здесь отдыхал от книг, от греческого языка. Он писал в конце июня жене из Каралыка: «Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа. Я купил лошадь за 60 рублей, и мы ездим с Степой… Я стреляю уток, и мы ими кормимся. Сейчас ездили верхом за дрофами, как всегда, только спугнули, и на волчий выводок, где башкирец поймал волчонка. Я читаю по-гречески, но очень мало. Самому не хочется. Кумыс лучше никто не описал, как мужик, который на днях мне сказал, что мы на траве, – как лошади…
Я встаю в 6, в 7 часов, пью кумыс, иду на зимовку, там живут кумысники, поговорю с ними, прихожу, пью чай с Степой, потом читаю немного, хожу по степи в одной рубашке, все пью кумыс, съедаю кусок жареной баранины, и или идем на охоту, или едем, и вечером, почти с темнотой, ложимся спать…»
Утро. Над отверстием вверху юрты еще стоят звезды, небо вокруг них медленно светлеет.
В огромной кибитке на кровати лежит Лев Николаевич – ему мягко. На деревянную кровать наброшено сено, сверх сена войлок, и все. Степан Берс лежит на перине, брошенной на пол. Иван на кожане в углу.
Светлеет. В дальнем углу кибитки виден большой городской, резной ореховый буфет.
Первыми просыпаются куры – их три, потом встает Иван, выходит на улицу и на костре греет воду; в кибитке просыпается Лев Николаевич, вместе с ним черный сеттер по прозвищу Верный.
Иван вносит тульский самовар. Лев Николаевич пьет три чашки чаю с молоком – одну за другой и выходит с собакой на улицу. Горизонт розовеет. Звезда над восходом солнца синеет.
Лев Николаевич садится на буланую лошадь с деревянными башкирскими стременами и едет, держа дорогое ружье поперек седла. Черный сеттер спокойно и неторопливо нюхает утренний воздух.
С гор спускаются табуны – тысячи коней; разными кучками идут кобылы с жеребятами.
Тишина. Степь пахнет травой, цветами. Степь лежит кругом. Лев Николаевич едет медленно.
Здешние степи зеленые – это луговые степи, они идут дальше к реке Каме, Белой, рыжея, спускаются к югу вдоль Уральского хребта и вновь поднимаются до Ирбита и Ишима, Омска и Колывани.
Лев Николаевич едет на далекое озеро: впереди и позади него, правее и левее идут нескончаемыми тысячами верст степи до Черного моря – до Одессы, а по Крыму до Севастополя, знакомого давнего места.
Восходит солнце. Сразу теплеет. Косая тень ложится на степь. Степь кругом, идет она до Кавказа, идет к мутному Тереку.
Степь кругом – до Венгрии, как будто вся жизнь была в степи, как будто вся жизнь прошла на коне, проехала на телеге.
Кажется Толстому, что Ясная Поляка с перелесками, с дубравами, со старой засекой – это только опушка степи, а дальше там и нет ничего.
Какие могут быть революции, какие могут быть нигилисты – их двое или трое, а степи миллиарды десятин. И она идет дальше до Гоби.
Мягко ступает конь по нетоптаной траве; поднимается солнце, небо синее, ковыль серо-синий, седой, в ковыль широкими полосками вошла спеющая пшеница, под ногами коня чернозем по сорок вершков, и он идет на миллионы и миллионы десятин.
То бурее и светлее и, переходя в пустыню, темнее опять.
Ковыль и пшеница, а там, где нет уже седого ковыля и пшеница пошла на перелог, вырос другой ковыль – тырса.
И степь заращивает свои раны.
Хорошо тут купить землю… И Лев Николаевич возвращается в юрту, полную жаркой сухостью, передохнуть: ест баранину вместе с другими, руками из большой деревянной чашки, пьет кумыс и в широкой соломенной шляпе выезжает в степь.
Степь придавлена солнцем. Жара.
В такую жару дрофы залегают в траву и только прячут головы. Их можно объехать, можно взять, они заморены солнцем и подпускают собаку близко.
Нет добычи прекраснее дрофы. Весит она до пуда, голова у нее цвета золы, ушные отверстия открыты, ноги толсты, у петухов по обеим сторонам головы, как у стариков, висят хохлатые бороды, а около подбородка вдоль шеи косицы.
Дрофы сторожки, боятся людей, не любят распаханных полей. На что знаменит охотник Сергей Аксаков, а ни разу не убил дрофу.
К обеду привозит Лев Николаевич в юрту, в которой Иван уже переменил ковыль на полу, тяжелую дрофу. Он устал, он дописывает письмо.
Приятно в письме вспоминать то, что уже видел, и сообщать о своих намерениях. Земля здесь продается сыном московского генерал-губернатора Николаем Павловичем Тучковым, земля жалованная: «Длинно рассказывать, как и что, но эта покупка очень выгодна. При хорошем урожае может в два года окупиться имение. 2500 десятин, просят по 7 рублей за десятину, и, купивши, надо положить до 10 000 на устройство».
Лев Николаевич у самих башкир землю покупать не собирался и потому сильно переплачивал. Он писал, что «доход получается здесь в 10 раз против нашего, а хлопот и трудов в 10 раз меньше». «Для покупки здесь имения особенно соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа».
Потом сообщалось, что можно было поехать в оренбургскую степь – там земля по три рубля десятина, и поп знакомый рассказывает, что у него есть тоже земля. Но скоро пришло ответное письмо Софьи Андреевны. Она была за то, чтобы купить землю поближе к Ясной Поляне, и в то же время боялась: за землю спрашивают 90 тысяч и на уплату дают малые сроки.
Купить землю в Самарской губернии было заманчиво, но опасно, и все казалось, что этого мало.
Софья Андреевна писала в письме от 10 июля: «Что сказать тебе о покупке имения в тамошних краях? Если купить только 2500 десятин по 7 рублей, то ты ведь сам не хотел маленького, а хотел большого имения; а тут только на 17 500 р. Если выгодно, твое дело, я никакого мнения не имею. А жить в степях без одного дерева на сотни верст кругом может заставить только необходимость крайняя, а добровольно туда не поедешь никогда, особенно с пятью детьми».
Софью Андреевну уговаривал соглашаться покупать Сергей Арбузов, который расписывал степи как рай.
Так шли дни и недели, и дрофы уже стали все более сторожкими и собрались в большие стада, готовясь к отлету. И подули ветры, и раздвинулись ночи, и уже обозначилось, что урожай очень плох. Ночь ложилась над степями с несчастливыми звездами, доходящими до самой земли.
По звездам из киргизских степей в башкирские степи, из башкирских степей на Астрахань шли караваны.
Звезды были для них как вехи, которые никогда не заносит снегом.
Начиналась осень, собирались ярманки.
Лев Николаевич выходил на ярманку, его зазывали купцы, приехавшие торговать, раскатывали перед ним ковры, клали подушку, резали для него барана.
Он пил и ел, и давал подарки, и его одаривали конями. На ярманках, положивши на шею подушку, садился Лев Николаевич на землю перед сильным башкирцем, у того тоже подушка на потылице, перебрасывали веревку через затылки, упирались друг в друга ногами, брались за руки, и редко кто мог перетянуть на себя и поднять отставного поручика, крапивенского дворянина, великого писателя Льва Николаевича Толстого.
Он пил кумыс, никогда не был пьян. Ему было легко, как коню на воле. Кругом были степи.
Шли слухи о том, что просо и хлеб дорожают. И счет уже пошел весь на деньги, а не на головы молодых баранов.
Лев Николаевич землю решил купить: ему понравилось, что здесь, в степях, все медленно меняется, а хлеб и просо он собирался продавать, а не покупать.
Надо было ехать в Ясную Поляну, уговаривать жену на переезд, дописывать «Азбуку».
Новые планы
Мир отражается в искусстве не зеркально. Воображение осматривает, сопоставляет, оценивает. Вещь обдумывается, строится.
У Льва Николаевича тогда были не только разные замыслы – у него были разные направления замыслов, и в то же время замыслы эти сосуществуют, они не сменяют друг друга, а изменяют друг друга и находятся в одном потоке: писатель ищет систему выражения, новое художественное единство.
Лев Николаевич точно и строго отделяет искусство от науки. 21 февраля 1870 года в записной книжке он говорит:
«Разум выражает законы необходимости, т. е. самого себя. Сущность выразима только искусством, тоже сущностью. И потому не бывает разумного искусства».
Здесь не утверждается, что искусство бессмысленно, здесь утверждается, что сущность искусства своей структурой отражает сущность жизни. Впоследствии в письме к Н. Н. Страхову, говоря об «Анне Карениной» Толстой будет сердито удивляться на критиков, которые «теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать…».
«Анна Каренина» – сцепление картин и мыслей, и только этот лабиринт сцепления в искусстве выражает ту сущность жизни, которую хотел выразить художник.
Но понять сущность искусства можно из сущности жизни: тогда можно и определить направление корабля искусства.
У писателя пока ощущение полной свободы в выборе темы. Пушкинское «Куда ж нам плыть?» – осталось.
Сохранились свидетельства Софьи Андреевны, полные наивности, из тетради «Мои записи разные для справок». Тетрадка интересна тем, что здесь записывается «жизнь умственная» Льва Николаевича. Софья Андреевна пишет: «Теперь начать хорошо. „Война и мир“ кончено, и ничего еще серьезно не предпринято».
Многое занимает Толстого после «Войны и мира». Постоянная работа пока – «Азбука». Собирался он писать исторический роман о времени Петра I.
Исторический роман как бы продолжает опыт «Войны и мира» – опыт огромный, создавший новую форму.
Казалось бы, что нужно найти новую историческую тему, чтобы приложить опыт, – так думает Толстой.
Но написание исторического романа не единственный поиск Толстого. Он хочет на фольклорных характерах написать роман из современной ему жизни.
Толстой читает русские сказки и былины для «Азбуки»; это наводит на мысль написать роман, взяв для романа характеры русских богатырей. «Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик и учившийся в университете».
В замысле сразу дано столкновение: характер взят эпический, обстановка задумана современная, происхождение героя крестьянское, а работа интеллигентская.
После этого Толстой пытается заняться драматургией, хвалит Шекспира, говорит, что у Гете нет драматического таланта.
15 февраля 1870 года записано, что Толстой начал читать Устрялова, книгу об истории Петра Великого: «Типы Петра Великого и Меншикова очень его интересуют. О Меншикове он говорил, что чисто русский и сильный характер, только и мог быть такой из мужиков».
Илья Муромец оставлен: Меншикова в былинах мог напомнить только Алеша Попович. Но противоречия мужика, который входит в великую политическую жизнь, напоминая тему Ильи Муромца, получившего университетское образование, возвращают нас к законам противоречий, которыми часто пользовался Толстой в создании темы произведения.
Потом ненадолго появляется тема Мировича. Мирович – офицер, пытавшийся освободить Иоанна Антоновича. Младенцем назначенный Анной Иоанновной в свои наследники, Иоанн Антонович был объявлен императором и прожил всю жизнь в тюрьме. При попытке освободить его был убит.
24 февраля Толстой после разговора с Фетом, который доказывал ему, что драматический род несвойствен Толстому, оставил мысль о драме. Дальше запись Софьи Андреевны теряет свою отчетливость: «Сейчас, утром, он написал своим частым почерком целый лист кругом. Действие начинается в монастыре, где большое стечение народа и лица, которые потом будут главными».
Похоже, что эта запись о сцене в Троицко-Сергиевском монастыре: Петр убежал из села Измайлова, боясь покушения на свою жизнь. Противопоставлены Петр и Софья, показаны бояре. Развернуто сравнение с большими весами, чашки которых находятся почти в равновесии и вдруг начинают клониться в одну сторону. Сделана попытка показать, как накопления отдельных решений разных людей вдруг превращаются в историческую необходимость. Это мысли, которые не были договорены в «Войне и мире».
Кусок о молодом Петре в Троицко-Сергиевском монастыре написан был с необыкновенной силой и изобретательностью.
Пытают боярина Шакловитого, происходит это на монастырском дворе. Волы мычат у ворот: их не пускают в привычное место, и могучие мычания осмысливаются монахами как вопли пытаемых на дыбе.
Толстой не показывает прямо пытку, но он усиливает ее восприятие, вводя детали в новые связи. Он не говорит прямо про рост Петра, но он показывает нам, что перекошенное лицо Петра находится на одном уровне с лицом боярина, поднятого на дыбу. Он сопоставляет две эмоции, два чувства: страх и боль, страх, усиленный болью. Боль, поглощающую страх, и страх царя, который перерастает почти в безумие.
Рядом показана благостность быта царицы Натальи и жены Петра Евдокии; это существует не само по себе, а на фоне страха пыток и торжества.
Это начало будет оставлено.
Замыслов и разработок много, но не найдена основная коллизия. Коллизия, осуществленная несколько лет спустя, – это женщина из высшего общества, потерявшая себя. Коллизия позволяет сгруппировать вокруг ситуации людей, которые были давними знакомцами писателя.
Дальше идет 9 декабря запись «…о путешествующем по России человеке, была мысль о взятом из крестьян и образованном человеке», и тут же появляется почти автобиографическая запись: «А тут теперь в том начале, которое он мне нынче прочел, опять замысел о гениально умном человеке, гордом, хотящем учить других, искренно желающем приносить пользу, и потом после несколького времени путешествия по России, столкновения с людьми простыми, истинно приносящими существенную пользу, после разной борьбы, приходящем к заключению, что его желание приносить пользу, как он это понимал, – бесплодно, и потом переход к спокойствию ума и гордости, к пониманию простой, существенной жизни, и тогда – смерть».
Вероятно, эта тема связана с Ильей Муромцем, но теперь не указано происхождение человека, и тема, по-моему, звучит автобиографически. Толстой мучается тем, что ему хочется писать, он читает Четьи-Минеи и, вероятно, первый в России относится к ним как к художественным произведениям.
В начале января 1873 года, решив, что «Азбука» имеет «страшный неуспех», Толстой возвращается к сбору материала из эпохи Петра I; пока идет мозаичная работа подбора бытовых подробностей.
31 января 1873 года Толстой заявляет: «Машина вся готова, теперь ее привести в действие».
Перед нами новая попытка. Толстой начинает с описания Азовского похода. Все герои придуманы, найдены заново: нет теперь князей, нет и Натальи Кирилловны, нет описания боярской путаницы. Плывут из Воронежа к Черкасску на кораблях по Дону царские войска. Идут описания людей. Петр, засмеявшись, теряет шляпу – она упала в воду. Гребец Щепотев, который характеризован как человек из поповских сыновей, как бедный дворянин, прыгает в воду и в зубах приносит Петру шляпу. Он не отдает шляпу Меншикову, ведет с царем Петром шутейный, почти спокойный разговор, и судьба этого человека, которого можно назвать Алешей Поповичем в новом его осуществлении, изменяется. Он остается на царском корабле.
Щепотев как бы параллельный Меншикову человек. Получилась ситуация: полумужик рядом с царем. Эта коллизия, вероятно, была бы использована и подготовила бы восприятие другой, большой коллизии.
Почему Толстой оставил завязку в Троицко-Сергиевской лавре и перешел на завязку, развертывающуюся в Азовском походе?
То, что было написано в первом варианте, по существу, еще было не завязкой, а экспозицией: драматически рассказывалась ситуация, конфликт был в прошлом, конфликт намечался между группами бояр. Это подчеркивалось тем, что спущенный с дыбы Шакловитый с завистью смотрит на ссорившихся дворян. У Голицына есть свои сторонники и родственник-брат в лагере Петра. Переход на Азовский поход подымает вопрос о народе в очень острой форме. Народ появляется как войско и гребцы, а дальше появится как казаки. Валы Азовской крепости были взяты казаками-донцами. Петровский флот в море не вышел, турецкий флот был разбит казачьими лодками – донцами.
Предполагаемый роман должен был осуществиться как столкновение Петра с народом. Источники, которые были известны Толстому – дневник Гордона, книга Устрялова, давали для этого полный материал. Но главное, еще к 1870 году относятся записи Толстого, которые тему государства и казачества ставят прямо и точно.
Вопрос о казачестве тогда был очень остер, о казачестве и о Степане Разине писал Костомаров, который был за казаков. Против был Соловьев, который осуждал казаков, считая их виновниками так называемого Смутного времени, считая их за «людей, которые, ушедши от тяжкого труда, от надзора правительственного и общественного, начинают заниматься дурным промыслом» и «гулять, живя на чужой счет, т. е. грабя своих и чужих».
Читал о Петре Соловьев публичные лекции в 1872 году, но идеи чтения все выражены были в уже вышедших томах его истории, и с этими идеями Толстой спорил.
4 апреля 1870 года Толстой записывает: «Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. – И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.
Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?
Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю».
Правежом называли в старой России выбивание налогов из населения: неплательщиков на улице били по икрам батогами, били очень долго. Правительство было насильническое. Толстой спрашивал: ну, а кто же работал, кто ловил соболей и лисиц, которыми дарили послов? Кто делал парчи, сукна и кто вообще кормил это правительство?
Почему украинское казачество – Богдан Хмельницкий передались не Польше, не Турции, а России?
У Толстого другой счет истории, и ему есть с кем столкнуть Петра в Азовском походе.
2 апреля 1870 года в записной книжке Толстой кратко записывает: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть. Голицын при Софии ходил в Крым, острамился, а от Палея просили пардона крымцы, и Азов взяли 4000 казаков и удержали, – тот Азов, который с таким трудом взял Петр и потерял».
Тут возникает коллизия самого Толстого. Он писал в 65-м году, что русский народ отрицает собственность на землю и что фраза «собственность – это кража» (Прудон) – истина:
«La proprit c'est le vol» останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. – Это истина абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные – приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта – она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый и русский мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана».
Лев Николаевич казачество знал превосходно, для него это не утопия, и он не верит в то, что это прошлое. Коллизия же его состоит в том, что человек, который писал «Казаков» и был против земельной собственности, купил в два приема – сперва у Тучкова, потом у Бистрома в Самарской губернии больше шести тысяч десятин земли.
«Анна Каренина»
Трудно по черновикам, много раз переделывавшимся, определять последовательность написания вариантов художественного произведения, хотя это единственно верный путь изучения.
Нельзя рукописные варианты располагать в последовательности законченного произведения. Этим самым еще не существующее будущее художественное произведение как бы постулируется, считается уже существующим.
Между тем жизнь художественного произведения – явление очень сложное и не целиком заключенное в жизни, в жизненных знаниях и даже в намерении художника.
Поэты и прозаики употребляют выражение «муза». О музах писал Лев Николаевич другу Фету.
Фет делец, скупающий и меняющий имения; его имение Степановка – как тарелка, полная всякого добра. Посредине тарелки сидит маленькое плотное здание: в нем живет хозяин – толстый, отставной военный, с коротким кавалерийским шагом.