Русский полицейский рассказ (сборник) Коллектив авторов
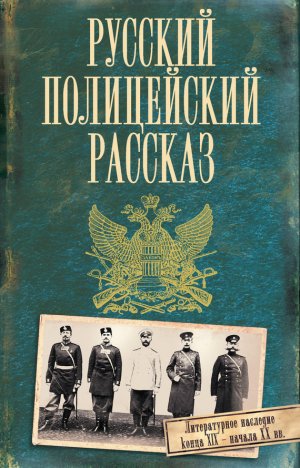
В моем стане протекала речонка Муша с живописными берегами, на которых зеленой лентой расположены пашни и приютились образцово устроенные фермы, отчасти поляков, а преимущественно немцев-помещиков. Все береговые поселения носили одно и то же название Помуш, лишь с прибавлением какого-нибудь имени прилагательного, как, например, синий, дубовый и т. д.
Как-то ночью на шоссе, вблизи имения Красный Помуш, довольно зажиточного помещика и владельца паровой мельницы Мейера, засела шайка из 7 вооруженных бандитов, в ожидании почтальона, имевшего перевозить с почтою крупную сумму денег. Между грабителями были даже распределены роли в предстоящем деле: то есть одни имели остановить лошадей, другие расстреливать почтальона, третьи ямщика и т. д. Но о готовящемся нападении своевременно узнали власти, и злоумышленники попали в руки правосудия. В преследовании и поимке их, частью из-за любви к искусству, отчасти и в видах обеспечения собственной безопасности в будущем, принимали деятельное участие некоторые окрестные помещики, а также сам Мейер и его два взрослых сына – Артур и Альберт. Все трое, под перекрестным огнем злодеев, проявляли чудеса храбрости и энергии.
Через несколько дней все участники погони, а в том числе и Мейеры, получили анонимами письма с изображением браунинга, кинжала и адамовой головы, за подписью партии социал-революционеров, в которых сообщалось, что адресаты осуждены на смерть, за вмешательство не в свое дело в виде оказания содействия полиции при аресте их 7-ми собратий. Письма эти, конечно, попали в мои руки, и за окрестностями было установлено бдительное наблюдение.
Мейер жил в красивом двухэтажном домике, занимая нижнюю половину сам, а сверху помещались остальные члены его семьи, как-то: пожилая сестра-вдова, названные выше два сына и прислуга.
Не придавая слишком большого значения мандату, он все-таки поместил рядом со своей комнатой несколько шоссейных рабочих и на всякий случай снабдил обоих сыновей револьверами, сам же, как охотник, держал всегда заряженную, висевшую над его кроватью дробовую двустволку. Я лично вручал ему свидетельство на приобретение револьверных патронов, которых он купил ограниченное количество и вел им строгий счет при практической стрельбе. Он был вообще аккуратен, как немец, но и скуп же при том, как Кощей.
Наступили Рождественские праздники. Рабочие – охранники Мейера разъехались, и единственными обитателями домика остались лишь его владельцы да прислуга, между которою выделялась миловидная горничная Маша. Сразу старик несколько тревожился, но вскорости успокоился, и жизнь в имении потекла обычной колеей. Об угрозах постепенно все забыли.
Большие стенные часы в моей канцелярии пробили 3 ночи с 30 на 31 декабря. Заканчивая некоторые новогодние отчеты, я еще занимался, но уже собирался уйти к себе, как вдруг раздался дребезжащий звонок телефона. Надо вам сказать, что у нас были включены в телефонную сеть даже квартиры сельских старост и полицейских урядников.
– Это становая квартира? – слышу я в трубке.
– Да, – отвечаю. – Я пристав, что угодно?
– Старик Мейер убит революционерами в собственной постели. Поспешите на место происшествия.
Если бы меня окатили целой бадьей холодной воды, и то не произвело бы на меня такого впечатления, как это сообщение. Переспросив еще раз, я приказал тотчас же закладывать лошадей, а сам стал наскоро собираться в дорогу.
Через несколько часов я уже ехал в Красный Помуш, отстоящий в 25 верстах, и, прибыв туда в 8 утра, немедленно приступил к осмотру места преступления. Перед моими глазами раскрылась такая картина.
Просторная светлая комната, меблированная, хотя и прилично, но с некоторым беспорядком, что было последствием продолжительной холостяцкой жизни после вдовства обитателя ее; на окнах горшки с неизменной геранью и другими комнатными растениями, в углу кровать, над нею давно не выбивавшийся ковер, на котором, в свою очередь, красуются сумка, ягдтдаш и другие принадлежности охоты. Однако ружья не было видно. Дверь комнаты выходила в большие сени. Одно из окон разбито, и сброшенные с подоконника цветы валялись тут же на полу. Окровавленный труп старика в нижнем белье лежал на кровати, в неестественном положении. Было очевидно, что покойный убит во время сна и умер не сразу, а боролся со смертью. Судебно-медицинским осмотром трупа установлено, что Мейер убит из револьвера, причем одна пуля засела в голове, другая в груди, третья пробила навылет кисть левой руки и найдена в кровати, а четвертая застряла в стенке, по-видимому не попав в цель. Вещи все были на местах, и даже карманы платья остались нетронутыми, так что о грабеже не могло быть и речи.
Хотя вазоны с разбитого окошка и были сброшены, но следов на подоконнике, при самом тщательном исследовании, никаких не замечалось. Это обстоятельство показалось мне немного странным. Однако я никому ничего не сказал, а принялся за окольные расспросы и агентуру в ожидании судебного следователя, которому послал телеграмму.
От сестры покойного я узнал, что приблизительно в 1 часу ночи ее разбудил старший племянник Артур и объяснил, что в нижнем этаже хозяйничают революционеры. Он слыхал выстрелы и крик. Очевидно, отца убили. Вскочив с постели, она бросилась к лестнице, ведущей в нижний этаж, но Артур удержал ее за руку, говоря, что, если старик уже убит, то бесцельно рисковать собственною жизнью, так как ему уже помощь не нужна. Он советовал лучше немного подождать. В это время на улице раздался выстрел, будто ружейный. Через минуты 2–3 в комнате появился Альберт, отсутствие которого она до сих пор не замечала, и сообщил, что дом окружен революционерами. Когда все успокоилось, они втроем спустились вниз и нашли старика в своей постели уже мертвым, а на полу, около кровати, лежало письмо от имени революционной партии, в котором говорилось, что отца уже постигла месть, осталась очередь за сыновьями. При дальнейшем исследовании местности они на улице подняли ружье покойного, очевидно унесенное убийцами, но брошенное как громоздкий и уличающий предмет. Заряженным оказался лишь один из стволов, другой же был пустой и носил свежие следы выстрела.
Внимательно осмотрев переданное мне письмо, я нашел его очень похожим на первое, с угрозами. Тот же конверт, те же знаки, тот же почерк, но… была маленькая, еле памятная разница.
Оба брата Мейеры рассказ своей тети дословно подтвердили. При этом Альберт на вопрос, где он был, когда проснулась тетя, бойко ответил о виденных им революционерах, но от меня не укрылось его волнение и усиленное мигание глазами.
Отсутствие следов на подоконнике, оставление на улице похищенного ружья после бесцельного выстрела, отлучка Альберта при пробуждении тети, его некоторое смущение затем в разговоре со мною зародили во мне смутные подозрения, в которые я и сам отказывался верить. Однако внутренний голос подсказывал, что за разгадкой таинственного происшествия мне, пожалуй, не придется далеко ходить.
Соседние помещики, к которым я обратился за некоторыми сведениями, рассказали, что покойный был сердитого, ворчливого характера и притеснял сыновей, отказывая им в средствах, а между тем молодые Мейеры любили кутнуть и погулять. На этой почве происходили частые, серьезные столкновения. Вообще, между стариком и молодыми Мейерами установились враждебные отношения; братья же между собою были связаны тесной дружбой, которой не мешало даже то обстоятельство, что оба они состояли в интимной связи с хорошенькой Машей. Вражда в сыновьих сердцах заклокотала еще с большей силой, когда они узнали, что покойный отец по отношению к Маше также не безгрешен и, как человек со средствами, пользовался предпочтением.
Возвратившись в усадьбу, я собрал точные справки, сколько было стариком приобретено патронов, сколько израсходовано на практическую стрельбу и сколько должно было оставаться. Цифры получились точные. Недоставало 10 штук, находившихся в пятизарядных «смитах» 320 калибра обоих братьев. При осмотре оружия у Артура все 5 патронов оказались налицо, зато в барабане револьвера Альберта четыре гнезда были пусты с еще не засохшей гарью от недавних выстрелов и лишь одно чистое заряжено. Надо отдать справедливость, что револьверы содержались в образцовой чистоте. Найденные около трупа и извлеченные из оного при вскрытии пули оказались также 320 калибра.
После этого не оставалось никакого сомнения, что убийство Мейера было делом рук его же собственных сыновей. Но как все это произошло? Где улики и доказательства?
После этого я резко переменил тактику и повел игру с Мейерами в открытую, направив атаку против младшего, по моему мнению более виновного. Запершись с ним в особой комнате, я ему без обиняков поставил вопрос: «За что вы убили отца?» При этом он почувствовал на себе тот испытующий взгляд, который приобретается долголетней полицейской практикой и зачастую выуживает из глубины даже самых закоренелых преступников сокровенные мысли.
Надо было видеть, что сталось с молодцом! Вся кровь сразу прилила ему к голове, и я испугался возможности апоплексического удара, но через 10 секунд он был уже бледен как мертвец и дрожал от волнения. Я продолжал молча созерцать его, ожидая реакции.
Грудь его высоко вздымалась, горло душили спазмы, губы моментально высохли, и, пробормотав что-то невнятное о своей невиновности, он, наконец, задыхаясь, чуть слышно, произнес: «А что мне будет, если я во всем сознаюсь?»
Само собою разумеется, я поспешил объяснить ему, что чистосердечное сознание по закону является уменьшающим вину обстоятельством, да и суд присяжных за правдивое освещение всего происшествия может дать снисхождение. После этого он рассказал, в присутствии приглашенных мною понятых, что у него и его старшего брата Артура давно затаилась злоба против жестоко обращавшегося с ними отца. Собственными средствами они не располагали, отец же их был непомерно скуп, и они оба крайне нуждались, а молодость своего требовала – хотелось погулять, поразвлечься. Искра исподволь тлела, постепенно разгораясь, и, наконец, превратилась в пожар, не дававший им ни минуты покоя. С одной стороны, жажда мести, а с другой – желание зажить самостоятельной жизнью зародили в них мысль как-нибудь отделаться от ненавистного старика. Сначала подобная идея их пугала, затем с нею свыклись и стали смотреть как на что-то необходимое, неизбежное.
Как ни придумывали они способа убийства, но долго ни на чем определенном не могли остановиться. Как и всегда, на выручку явился случай – погоня за грабителями и получение смертного приговора в письме, которое они решили утилизировать в свою пользу. Таким образом, план убийства выработался сам собою. Пришлось лишь выжидать случай для приведения его в исполнение. Вся помеха теперь заключалась в том, что у отца за стенкой ночевали рабочие, напасть же днем без риска не было никакой возможности. Дождавшись праздников Р. X., когда рабочие все разъехались, они, вдвоем с братом, выбрали ночь потемнее и, удостоверившись, что все в доме спят, приступили к делу. Он, Альберт, обладавший более крепкими нервами, взял на себя роль палача. С револьвером в руке он спустился вниз, вошел в комнату отца. Старика он застал безмятежно спавшим на кровати. Дрожа всем телом, он произвел в сонного выстрел, но промахнулся. Звук разбудил отца, и он приподнялся, но встать ему не удалось, так как обезумевший убийца выстрелил еще трижды и успокоился только тогда, когда жертва перестала шевелиться. Придя в себя, он занялся симуляциею постороннего нападения революционерами. Для этого он посбрасывал с окна вазоны, разбил само окно, затем схватил висевшее на стене ружье и выбежал на улицу, где произвел выстрел. Сообразив, что ружье унес напрасно, он бросил его на улице и возвратился в дом. Здесь он застал уже переполох. О связи покойного отца с Машей и ревности Альберт, однако, умолчал; да я на этом и не настаивал, так как дело ясно и без того. Что касается найденного у кровати убитого письма, то таковое сфабриковано его братом Артуром.
Старший Мейер, узнав, что брат рассказал всю правду, также не стал запираться и тут же, в присутствии понятых, написал точную копию письма, полученного якобы от революционной партии.
В заключение остается сказать, что братья-отцеубийцы немедленно были задержаны, и я лично привез их в становую квартиру, а оттуда на другой день доставил в уездный город, где водворил в местной тюрьме.
На обратном пути с места происшествия я взглянул на свои карманные часы. Было начало 1-го часа ночи.
– С Новым годом, – обратился я к своим узникам, но не со злой целью, а просто как к людям, с которыми до того был в хороших отношениях.
– И с новыми кандалами, – ответил глухо Артур, заливаясь слезами.
Мне сделалось не по себе, и к горлу также стали подступать слезы.
Рассказчик вздохнул, помолчал минуту и снова продолжал:
– Что сталось с Мейерами в дальнейшем, я не знаю, так как вскорости был переведен на службу в одну из южных губерний и об участи их ничего не слыхал.
Однако, – добавил он, – мы подъезжаем к станции, снабженной буфетом, а у меня уже начинаются спазмы в пустом желудке. Не поддержите ли компании. Благо поезд простоит здесь 20 минут, и мы успеем закусить. А если вы такой охотник слушать, то, возвратившись в вагон, расскажу еще кое-что, так как спать еще рано.
– И то правда, – согласился я, и мы оба вышли на площадку вагона, все еще находясь под впечатлением рассказанного. Поезд подходил к перрону и, наконец, остановился.
Пролейский
Не быть бы счастью, да несчастье помогло
Была темная осенняя ночь. Сильный дождь и холодный октябрьский ветер пронизывали стоявшего на посту в одной из окраин города С. городового Нестерова. Нестеров происходил из бедных крестьян одной пригородной деревушки; поступил в С-кую полицию в 1904 году, по окончании военной службы в саперном батальоне, и слыл за исполнительного служаку. Боже мой! Как скучно стоять в такую ночь, да и в казарме одному-то не отраднее, подумал Нестеров. Дождь лил как из ведра. Нестеров прошел по окраине, остановился у угольного домика, привалился к забору и задумался. Нет, не быть Тане моей, да и как же можно – она девушка богатой семьи, а я-то что? И в полиции-то за три года ничего не нажил, а все честность, да греха боишься, а то ведь вот на днях пьяного-то поднял на Петропавловской, почитай, сотни четыре было, – взять бы да и зажить домком, тогда, глядь, и Таню посватать можно, а нет, видно, Бог не велит.
Таня, о которой рассуждал Нестеров, была дочерью богатого крестьянина той же деревни, из которой происходил Нестеров; она была стройная, красивая брюнетка; не один только Нестеров засматривался на нее, а сватались даже женихи и из других сел, да не хотела Таня бросать родного крова и своих родителей, а только говорила отцу: не судьба, знать, мне, торопиться замуж, женихи все не по мне.
Какой-то звук заставил Нестерова вскочить с места. Что это? Никак «караул» кричат! Так и есть – надо бежать. Ощупав на ходу револьвер, прошептав молитву, Нестеров побежал к оврагу, проходившему окраиной города, откуда слышался крик: «Караул, помогите!» Добежав до оврага, Нестеров остановился и стал прислушиваться; из оврага доносился храп и шепот нескольких голосов, у оврага стояла лошадь, запряженная в тарантас, но, что делалось в овраге, было не видно. Нестеров окрикнул и дал свисток, в это время из оврага выбежали несколько грабителей и начали стрелять в Нестерова, а затем уселись на лошадь и думали ускакать, но лошадь свернула в канаву и упала. Нестеров продолжал стрелять в грабителей, которые, в свою очередь, отстреливались. Добежав до лошади, Нестеров почувствовал боль в боку и упал, он был ранен двумя пулями. На выстрелы приехал наряд ночного обхода и обнаружил убитым одного грабителя и раненными на месте грабителя и Нестерова, а на дне оврага неизвестного мужчину, у которого были завязаны руки и ноги, а из кармана похищено около тысячи рублей, которыми, однако, грабителям воспользоваться не удалось, так как они попали грабителю, которого убил Нестеров. Нестерова в бессознательном состоянии отвезли в больницу, где он пробыл около 2-х месяцев, находясь между жизнью и смертью. В больнице Нестерова посетил полицмейстер и, объявив ему благодарность губернатора за его доблестную службу, выдал денежную награду и поздравил с назначением его урядником в N-ский уезд. Деревня, в которой жила Таня, была расположена в участке Нестерова; тут-то Нестеров, не задумываясь, и решил посватать Таню. Я теперь урядник, ношу мундир со светлыми пуговицами, в селе меня принимают за начальника, не откажет же мне отец Тани, рассуждал Нестеров и, оседлав лошадь, поехал в деревню к отцу Тани сделать предложение. При входе в дом на крыльце встретилась ему Таня и просила войти в дом, где отец ее сидел за чаем.
– Добро пожаловать, господин урядник, чайку не хотите ли, аль закусить, чем Господь послал, а потом уж о деле будем говорить.
Нестеров сел за стол и не упустил заметить, как Таня заглядывала на него в дверь из другой комнаты. Выпив стакан чаю, Нестеров решил прямо говорить о деле и, обратившись к отцу Тани, сказал:
– Петр Никитич! Я к вам по личному делу; один я, а у вас дочка есть, скажите прямо, могу ли я быть вашим зятем?
Петр Никитич опустил голову, немного подумал и сказал:
– Дочь свою я за вас отдам, если она пойдет, я люблю полицию, полиция мне жизнь и деньги спасла, – и рассказал историю нападения на него в городе.
Тут только Нестеров узнал, что он, в ту темную ночь, спас жизнь отца Тани, и рассказал также о себе. Петр Никитич, выслушав о том, как был ранен и страдал Нестеров, заплакал и, обняв Нестерова, позвал Таню и сказал:
– Вот мой спаситель, а твой жених; он любит тебя; его нам Бог послал.
Таня слышала в дверь весь разговор отца с Нестеровым и, подойдя к отцу, упала на колени и сказала:
– Тятенька, благослови нас!
Е. С. Пясецкий
Случай
Рождественский Рассказ
Канун Рождества
Ночь уже наступила, но не светлая праздничная ночь, полная радости и ожиданий, а темная, угрюмая, как душа разбойника. Только изредка, когда ветер, набегая порывами, разгонял черные тучи, серебряный серп месяца, словно крадучись, бросал на землю волны бледного, обманчивого света. И этот свет, сливаясь с отблеском снежной пелены, придавал всему окружающему странный фантастический характер.
По дороге с Панасюковой мельницы в село Вовчок ехал урядник Яковенко в небольших санках, запряженных шустрой лошадкой.
Мелодично позвякивали бубенчики, лошадка привычно бежала бодрой рысью, и санки, словно пьяные, качались то в ту, то в другую сторону по скользкой дороге. Урядник был погружен в глубокое раздумье и только от поры до времени повторял вполголоса:
– Вот так история!..
Действительно, «история»: сгорела Панасюкова мельница, и, как удалось установить Яковенко, сгорела от поджога. Но кто поджег мельницу?..
Мысль об этом не давала Яковенко покоя, и он постепенно приходил к убеждению, что поджог совершил сам владелец, чтобы получить страховую премию и построить новую мельницу, – сгоревшая была очень ветха, требовала частого ремонта и связанных с ним расходов. А Панасюк не любил тратить лишнюю копейку и нередко хвалился помольщикам, что он выстроит лучшую мельницу, чем у жида Авербуха. Постепенно мысль о виновности Панасюка крепла, стремясь найти к этому реальные основания. Как хорошо будет, когда он, Яковенко, откроет поджигателя! И в глазах начальства выдвинется, и получит от страхового общества денежную награду. Пожалуй – скоро очутится и на должности надзирателя: начальство – он знает – ценит его полицейскую сметку, расторопность, энергию… Хорошо будет!..
Но набежал порыв ветра, схватил горсть снега, бросил уряднику в лицо и сразу потушил искры его приятных мечтаний…
И Яковенко стал думать о том, как скверно быть полицейским, какая это тяжелая служба. Мало того: прямо каторжная служба! Вот, например, попадись ему навстречу исправник, так, пожалуй, уволил бы за то, что он, урядник, едет в санках, а не верхом: «Урядник всегда должен быть на коне», – при всяком случае говорит исправник. Хорошо, что становой пристав не обращает на это внимания, а то путайся в такую погоду верхом… Или вот теперь, в сочельник, все люди как люди, и бедные, и богатые встречают дома, в кругу семьи, радостный праздник, а он едет одинокий, словно отрезанный от всего живущего… Что-то теперь у него дома?.. Жена, вероятно, уже давно приготовила ужин и ожидает его возвращения, а детишки возятся возле елочки… Не все: маленький Коля, вероятно, спит, как суслик.
И мысли о семье, о домашнем уюте, о святом празднике теплом повеяли в его душу…
До Вовчка оставалось ужо версты две, когда Яковенко вдруг наехал на одинокого путника, медленно шагавшего по дороге.
Эта неожиданная встреча в такое время, как сочельник, когда все люди сидят по домам, сразу заставила урядника подтянуться, и он крикнул:
– Кто идет?
Ответа не последовало. Путник зашагал быстрее.
Урядник окликнул его вторично, но опять безрезультатно. Наконец, урядник пригрозил стрелять и вынул из кобуры револьвер; однако путник невозмутимо продолжал шагать.
«Что он, глухонемой, что ли?» – подумал урядник и, сунув револьвер за борт шинели, подъехал к нему и строго сказал:
– Стой. Ты кто же будешь?
Путник остановился, показал рукою на свой рот и отрицательно покачал головою.
«Ишь ты, бедный немой, – подумал урядник, но тотчас в нем заговорил здоровый полицейский скептицизм, – притворяется, каналья!»
Урядник жестами показал ему предъявить паспорт, но глухонемой пожал плечами и сделал попытку двинуться дальше.
«Ты, братец, весьма подозрительная птица», – подумал урядник, задержал его и настойчиво указал садиться в санки. Глухонемой несколько мгновений раздумывал, колебался и затем грузно опустился рядом с урядником.
Луна выглянула из-за туч, и Яковенко успел несколько разглядеть своего неожиданного спутника.
Это был высокий крупный мужчина с толстым лицом, обросшим темной бородой, с большими усами, одетый в старое ватное пальто и подпоясанный домодельным поясом. На голове его была хорошая меховая шапка с наушниками, а ноги обвиты онучами. Он тяжело дышал – видно, притомился с дороги.
Лошадка продолжала быстро бежать, и скоро блеснули приветливые огоньки в хатах села. Вдруг на косогоре санки накренились в сторону Яковенко, и он почувствовал, как спутник крепко двинул его плечом и выбросил из санок.
– Шнель, шнель! – раздался голос немого.
Но лошадка остановилась, придержанная вожжами, которые неизвестный пытался вырвать из рук урядника. Однако это ему не удавалось, так как Яковенко имел привычку во время езды закладывать вожжи за ногу и теперь навалился на них всем туловищем. Борьба длилась недолго: Яковенко успел стащить неизвестного с санок, выхватил револьвер, который так предусмотрительно держал наверху, и ударил несколько раз по голове противника, пытавшегося сдавить ему горло. Противник лежал на снегу, огромный, как туша убитого медведя, молчаливый, как мертвец.
«Так, пленный немец», – решил Яковенко и стал осторожно поднимать лежащего. Последний медленно поднялся и, словно лунатик, с закрытыми глазами, сделал несколько заплетающихся шагов.
Урядник схватил его за бока и усадил в передок саней, а сам прыгнул на сиденье, почему-то задорно свистнул и ударил лошадь.
Пленник сидел в неудобной позе, голова его опиралась на колени, и весь он представлял собою большой ком ветоши.
– Вероятно, обессилел от голода, – думал урядник, но все от поры до времени хватался за ручку револьвера.
Но вот показались крайние хаты села, вот уже церковь, училище, а там и его квартира. Круто повернув лошадь, Яковенко подъехал к крыльцу, быстро спрыгнул с санок и нервно постучал в дверь.
Вышла урядничиха и радостно сказала:
– Слава Богу, что ты приехал. А мы ждем-ждем с ужином!..
– Да не сам приехал, а с гостем, – так же радостно отозвался Яковенко.
– Ну что ж, в святой вечер каждый гость дорог, – ответила урядничиха и подошла к санкам.
Но вид неподвижной туши, видимо, встревожил ее, и она недоуменно спросила мужа:
– Кто это?..
– После расскажу, – ответил Яковенко и стал тормошить пленного.
Пленный поднялся, как во сне, и урядник бережно повел его в хату, дверь которой предупредительно открыла урядничиха. Как только пленный переступил порог и увидел на столе хлеб, рыбу, оладьи, кутью, так показал, что он голоден.
– Ничего, потерпи малость, – добродушно, похлопав его по плечу, сказал урядник и вышел убрать лошадь.
Через несколько минут за столом сидел урядник с женою, их детишками и пленный, который с такой жадностью уплетал малорусский борщ с ушками, что хозяйское сердце урядничихи просто прыгало от удовольствия. А когда после ужина пленного уложили на диван, и он уснул, Яковенко долго стоял у его изголовья, смотрел на спящего, и новые странные мысли бродили в его голове…
Утром урядник отвез пленного в становую квартиру.
Е. С. Пясецкий
32 доноса
Когда я получил место пристава в Н-ске, одном из крупных южных центров, и приступил к исполнению своих обязанностей, у меня руки опустились, так был запущен мой участок. Дело в том, что предместник мой, служака старого типа, больше обращал внимания на «молодцеватый вид» городовых, чем на порядки в участке, и интересовался только новогодними, праздничными и – в исключительных случаях – экстраординарными подношениями со стороны обывателей. Понятно, что все мои требования и распоряжения встретили дружный отпор и на меня посыпались жалобы полицмейстеру, особенно со стороны еврейского населения. Полицмейстер пытался было поприжать меня, но, так как сам был не безгрешен и встретил, в связи с этим, должный отпор с моей стороны, стал направлять жалобщиков к губернатору, которые предусмотрительно уклонялись от этого.
Между тем наш добродушный старичок-губернатор вышел в отставку, а на его место был переведен из Х-ской губернии граф Т. Еще задолго до приезда губернатора в среде местного чиновничества циркулировали слухи о его строгости, энергии и требовательности в отношении подчиненных. Особенно – говорили – преследовал взяточничество, и достаточно было малейшего повода, чтобы виновный немедленно увольнялся со службы.
Наконец, прибыл новый губернатор. Когда мы, полицейские чины, представлялись ему, и пришла моя очередь, губернатор окинул меня быстрым сверлящим взглядом и отрывисто спросил, давно ли я служу приставом? Я ответил, что около полугода. Губернатор вновь окинул меня таким же взглядом, нервно мотнул головою и, отвернувшись, стал о чем-то тихо говорить с правителем канцелярии. Когда прием окончился, ко мне подошел правитель и, шутя, поздравил, что губернатором получено около тридцати анонимных доносов, обвиняющих меня во взяточничестве. Доносы эти посыпались, как мак из дырявого мешка, и губернатор решил произвести по ним самое строгое дознание. Нельзя сказать, чтобы я был благодарен правителю за его поздравление, потому что, хотя я не чувствовал за собой никакой вины, но дело предвиделось грязное. И я стал ожидать производства дознания.
Прошло около трех недель. Однажды, идя домой обедать, я встретил губернатора, который медленно шел мне навстречу. Поравнявшись со мной, губернатор остановился и спросил, куда я иду? Я ответил. Губернатор немного задумался и затем сказал, что он напрашивается на обед ко мне. Мне показалось, что я ослышался, и потому молча остался стоять навытяжку. Губернатор повторил свои слова. «Э, мой милый, – непочтительно подумал я, – ты хочешь посмотреть, как я живу, и лично убедиться, насколько доносы на меня имеют серьезную подкладку», – и я самым непринужденным образом поблагодарил губернатора за честь и доставляемое мне удовольствие…
Мы пошли рядом. Нужно заметить, что за всю мою долголетнюю службу я никогда не трепетал перед начальством и не требовал искусственного почтения от подчиненных; кажется, был одинаково ровен в моих отношениях и к губернатору, и к городовому, и считаю такую выдержку одним из лучших качеств полицейского. Граф Т., как человек большого света, был безукоризненно вежлив и прост тою сдержанной простотой, которая исключает всякую возможность близких соприкосновений. И вот я, полицейский пристав, и губернатор, граф и камергер, шли рядом, разговаривая о новостях городской жизни.
Пришли. Звякнул звонок, и жена, по обыкновению, вышла сама отворить мне дверь. Губернатор тут же, в прихожей, представился ей и извинился, что сам себя пригласил на обед к нам; и вышло все это у него так просто и мило, что жена, казалось, нашла это в порядке вещей. Впрочем, жена за время моей полицейской службы так привыкла к всякого рода неожиданностям, что нарушить ее душевное равновесие было трудно.
Мы вошли в гостиную. Квартира у меня была довольно обширная, а обстановка более чем скромная, потому что не было средств сразу обзавестись приличной обстановкой и приходилось необходимую мебель приобретать по случаю. С первых же слов губернатор обратил внимание на скромность обстановки и спросил о причине этого. Я ответил.
– Так почему же не взять в рассрочку платежа, как это теперь широко практикуется? – словно испытывая, спросил губернатор.
Я ответил, что принципиально никогда ничего не беру в долг, как это и было в действительности.
Между тем в комнату вошел мой трехлетний сынишка, таща за собою небольшую лошадку из папье-маше с оторванной задней ногой, – свою любимую игрушку. Губернатор спросил его имя, поманил к себе и, глядя на игрушку, сказал попросить папу, чтобы купил большую лошадку на колесиках, такую, на которой можно было бы верхом ездить.
– Я просил папу купить лошадку, – пролепетал сынишка, – только у папы денег нет.
Ах, милый мой мальчик! Словно бы кто подсказал ему ответ – так кстати это было сказано!..
Вошла жена и сказала, что обед уже подан. Мы уселись за стол. Оказалось, что ни губернатор, ни я никогда не пьем водки, а потому мы сразу принялись за малорусский борщ с грибами и сметаной, который – кстати сказать – жена так вкусно готовит. За борщом последовали вареники – обед случайно был настоящий малорусский. Губернатор все хвалил стряпню жены и обещал прислать своего повара поучиться готовить такой вкусный борщ. Закончился обед мороженым, взятым из ближайшей кондитерской.
Вскоре после обеда губернатор распрощался с моей семьей и, уходя, предложил мне сопровождать его. Мы шли молча. Вдруг губернатор резко обратился ко мне:
– Вы знаете, что я получил тридцать два доноса по обвинению вас во взяточничестве и вымогательстве?
– Знаю, ваше сиятельство: мне говорил правитель канцелярии.
– Ну, что вы скажете на это?
– Ничего, ваше сиятельство.
– Как, ничего?..
– Очень просто, ваше сиятельство; я никогда не брал взяток, не беру и не буду брать.
Наступило молчание. Через несколько минут губернатор снова обратился ко мне:
– Вы знаете, почему я обедал у вас?
– Знаю, ваше сиятельство.
– Знаете?.. Почему же?..
– Вы, ваше сиятельство, хотели по условиям моей домашней жизни судить, насколько справедливы доносы на меня.
Снова молчание, которое длилось до прихода нашего к губернаторскому дому. У подъезда губернатор остановился и, глядя мне в лицо, медленно проговорил:
– Я думаю, вы не берете взяток.
На другой день один из дежурных при губернаторе городовых принес ко мне на дом большой тюк и сказал, что губернатор велел передать его моему сыну; в тюке оказалась прекрасная лошадка на колесиках. В тот же день состоялось постановление о переводе меня в первый участок, лучший в городе. Но учиться готовить малорусский борщ губернатор так-таки не прислал повара, к великому огорчению моей жены.
Понятно, никакого дознания по всем тридцати двум доносам не было, но ведь губернатор видел, как я живу: так жить взяточник не будет.
Е. С. Пясецкий
Мой друг Матренка
Случилось это в «освободительные годы», когда я служил приставом в N-ске, одном из крупнейших центров юга России.
Дело было под вечер. Я, по обыкновению, обходил свой участок, как вдруг на углу двух оживленных улиц заметил небольшую, лет пяти-шести, бедно одетую девочку, которая горько плакала. Я подошел ближе и увидел у ног ее, на тротуаре, разбитую бутылку и большое пятно разлитого масла. Несомненно, разбитая бутылка была причиною слез девочки. Мне бесконечно стало жаль эту плачущую девочку, у которой капли слез так трогательно смешно висели на кончике вздернутого носика и которая была так беспомощно одинока в кипящей оживленной уличной жизни. Она имела свое горе – разбитую бутылку, я – свое – перспективу быть на каждом шагу убитым «товарищами», которые так злобились в это «освободительное время» на каждый полицейский мундир. Эта отдаленная, но равноценная общность положения моего и девочки как-то невольно влекла меня к ней, и я ласково спросил девочку, чего она плачет?
– Мамка бить будет, – и девочка еще сильнее залилась слезами.
– Не плачь, не плачь, мамка бить не будет, – как умел, успокаивал я ее. А что ты разлила?
– Олей. Мамка велела купить на целую гривну… подсолнуховый…
– Ну перестань же плакать, пойдем, купим олею, и ты отнесешь мамке.
Девочка на миг успокоилась, но, взглянув на мелкие осколки бутылки, снова заплакала. Вероятно, она не могла представить возможности «купить олею», раз не было бутылки.
– Ну пойдем. А где ты покупала олей?
– Вон там, – и девочка указала на ближайшую лавку.
Я взял девочку за руку, и, мы пошли в лавку. У хозяина нашлась пустая бутылка, и, когда он влил в нее на гривенник олею и дал девочке, милое личико ее, еще омоченное слезами, так и осветилось радостной улыбкой. Детская радость тихим довольством отозвалась в моей измученной тревожной душе, а потому неудивительно, что я предложил девочке взять сластей, которые так заманчиво выглядывали из ящиков у прилавка. Девочка взяла несколько пряников и каких-то красных, липких конфект, разорив меня еще на гривенник. Пока я расплачивался, получая сдачу, плутовка, словно мышь, шмыгнула в дверь и была такова. Вероятно, она подумала, что я, чего доброго, отниму у нее обратно и олей, и пряники, и красные липкие конфекты…
На другой день, проходя той же улицей, я увидел мою вчерашнюю случайную знакомку: она стояла в воротах большого дома и пристально глядела на меня своими голубыми глазенками, видимо стараясь обратить на себя мое внимание; широкая улыбка так и разливалась по ее милому личику.
– Ну что, вчера не била тебя мамка? – спросил я у девочки, поравнявшись с нею.
– Нет, не била, – продолжая улыбаться, ответила она.
Мы перекинулись еще несколькими словами, и я узнал, что мою маленькую знакомую зовут Матренкой, что отец ее – рабочий и живет в подвале этого дома и что конфекты, которые я дал ей вчера, были очень сладки…
Так началась наша дружба с Матренкой.
С этого дня, когда бы я ни проходил возле дома, в котором жила Матренка, она неизменно встречала меня со своей неизменной широкой улыбкой. Иногда она бежала мне навстречу к углу улицы, иногда провожала меня, без умолку болтая о своих детских интересах. Она изучила время, когда я шел в управление полицмейстера, когда возвращался домой на обед, каким-то чутьем угадывала часы, когда я проверял посты, и – повторяю, неизменно встречала меня. Признаться откровенно, я всегда был рад встрече с Матренкой. Я видел, я чувствовал, что девочка искренно привязана ко мне, и ее милое личико с голубыми глазенками и широкой улыбкой светлым лучом блистало в окружающей меня кроваво-туманной атмосфере, сглаживая горечь моего положения. Особенно привязанность девочки усилилась после того, как в кругу семьи я рассказал о моей дружбе с нею и моя дочка – ровесница Матренки – стала передавать ей то конфекты, то ленточку, то надоевшую игрушку.
Время шло, а кровавый туман революции не только не рассеивался, но, казалось, еще более сгущался. Редкий день проходил без того, чтобы по городу не расклеивались прокламации самого возмутительного содержания, но, где и кем они печатались, оставалось для полиции тайною…
Однажды, когда я проходил по улице, городовой дал мне только что сорванную им с афишной витрины прокламацию, доложив при этом – комик этакий – что – «самая свежая». Не знаю, как в других городах, но у нас в N-ске прокламации нередко печатались на красной бумаге, вероятно, чтобы более бросались в глаза, а, быть может, потому, что красный цвет – партийный цвет «товарищей».
Я вошел в ворота первого попавшегося дома и стал читать эту, «самую свежую», прокламацию. Не успел я прочесть прокламацию, как Матренка вертелась уже около мена. Увидя в руках у меня прокламацию, девочка хвастливо заметила:
– А у меня таких красных бумажек целых три было.
– Где ты их взяла? – невольно спросил я.
– Где? А у Микитки-слесаря из-под полы пальто выпали, когда он шел по двору. У него, у Микитки-слесаря, под пальтом много таких красных бумажек было – я заприметила. А из бумажек я лошадок вырезала.
– Ну, Матренка, пойдем, и ты покажешь мне своих лошадок.
– По-ойдем, по-ойдем, – запела девочка и запрыгала на одной ножке, видимо довольная моим предложением.
Через несколько минут Матренка сунула мне в руку три красных лошадки, уродливо вырезанных из прокламаций…
Я знал Микиту-слесаря, который служил на одном из крупнейших местных заводов, и давно подозревал его в партийной работе, но улик никаких не было, и я не думал о нем: слишком уже много в то время развелось таких Микиток-слесарей. Лошадки Матренки повернули иначе дело: я установил за ним самое строгое агентурное наблюдение и с нетерпением ожидал результатов, которые не замедлили явиться. Скажу коротко – слежка за Микиткой-слесарем привела меня к обнаружению прекрасно оборудованной типографии «эсдеков». Были захвачены шрифты, бостонка, кипы прокламаций, конспиративные списки и арестованы главари партии… Удар был нанесен решительный.
И никто в мире не мог бы догадаться, что первопричиной всего этого послужила разбитая бутылка моего друга Матренки…
Е. С. Пясецкий
Сотский сагачок
Хотя в посемейных списках Голодецкой волости сотский Сагачок значился – «крестьянин – собственник селения Стручкы Исакий Тимофеев Варыкрупа», но это мало кому из стручан было известно. Зато кто в Стручках не знал сотского Сагачка? Малые ребята, и те знали. Пожалуй, он был более популярным, чем становой пристав, батюшка, дьячок, учителя и пан эконом, и пасовал только пред шинкарем Лейбой. Но это неудивительно: шинкарь в малорусском селе всегда был первым лицом. Популярности сотского Сагачка способствовало то обстоятельство, что свою полицейскую карьеру он начал еще безусым парнем, – пример, неслыханный не только в волости, но, может, во всем свете. А случилось это так.
Опанас Вывюрка, первый стручанский богач, задумал взять в аренду общественный выгон. Перед подписанием договора Вывюрка, как водится, обещал поставить обществу «могарыч» – пять ведер водки, а когда договор был подписан – поставил только два. Стручане решили жестоко отомстить своему коварному односельцу и, когда производили выборы сотского и десятских, единогласно избрали Вывюрку сотским. Вывюрка, как говорится, взвыл волком. Как он, первый стручанский богач, несший два трехлетия почетную обязанность «тытаря» и не раз пивший чай у самого благочинного, чем он любил похвастаться, будет служить сотским, словно какой-нибудь бедняк, бегать всюду с пакетами, выносить из кухни станового помои?.. А хозяйство?.. Все прахом пойдет без его труда и досмотра. И Вывюрка Христом Богом стал молить общество освободить его от должности сотского. Но стручане, как истые малороссы, уперлись на своем, и даже готовность Вывюрки тотчас поставить шикарный «могарыч» не могла сломить их упрямства. Тогда Вывюрка, по совету Лейбы, обратился к приставу с просьбой позволить ему нанять заместителя. Пристав сначала разразился бранью, но, когда Вывюрка посулил ему к Рождеству и Пасхе по паре поросят и две копны сена, смягчился и изъявил согласие на его просьбу. Вывюрка воспрянул духом и стал раздумывать, кто бы согласился быть за недорогую плату его заместителем? Тут ему пришел на ум Сагачок, единственный сын бедной вдовы, только что женившийся и чуть не умирающий с голоду вместе с молодой женой и матерью. Вывюрка из становой квартиры зашел к вдове и предложил ей отпустить на год сына послужить сотским вместо него, Вывюрки, обещая за это шестьдесят рублей, столько, сколько в экономии платят батракам. Старуха согласилась и выторговала еще пять рублей, которые Вывюрка надбавил охотно. Сагачок, привыкший во всем слушаться матери, не стал возражать и только спросил Вывюрку:
– Скажите, дядьку, а часто пристав бьет в морду сотских?
Вывюрка на этот счет не мог дать ему определенного ответа, но заметил в виде утешения, что теперешний пристав больше любит бить в ухо, чем в морду. Затем Вывюрка принес штоф водки, дал пять рублей задатка, и дело было покончено.
Так Сагачок, хотя неофициально, стал стручанским сотским. Было ему в это время девятнадцать лет.
Накануне Нового года, под вечер, Вывюрка зашел к Сагачку и вместе с ним отправился в становую квартиру, чтобы представить его приставу как своего заместителя. Пристав собирался к соседнему батюшке встречать Новый год и сразиться в преферанс «по десятой», а потому не стал с ними долго разговаривать и велел Сагачку прийти завтра.
Не успел прогудеть на ветхой стручанской колокольне призывный звон ко всенощной, как Сагачок торопливо направился в становую квартиру. Он шел и думал, что ему велит делать пристав, часто ли будет бить его и сажать в холодную, не сошлет ли его в Сибирь, если он случайно потеряет какое-нибудь письмо с большой красной печатью, и много других невеселых мыслей пробегало в его голове. На душе было тяжело, и только одно утешало его: за год службы он получит шестьдесят пять рублей, а это – большие деньги, на которые много можно сделать в его бедном хозяйстве.
Сагачок боязливо вошел в кухню станового. На столе горела небольшая лампа. Кухарка Мотра – «покрытка», с высоко подоткнутой юбкой, возилась у ярко пылающей печи, а няня, девушка-подросток, свернувшись калачиком, спала на полатях. Сагачок, вынув из-за пазухи рукавицу со смешанным зерном – пшеницей, овсом, горохом, гречихой, – стал «посиваты» – бросать горстью зерно, приговаривая обычное новогоднее пожелание:
- Сейся, родыся,
- Жыто, пшеныця,
- Всиляка пашныця,
- А с колоска – жминька,
- А с снопыка – мирка,
- На счастья, на здоровье, на довгий вик…
После этого Сагачок, стоя у двери, робко спросил Мотру:
– Скажите, будьте ласковы, пан становой уже встали?
– О-то, дурень, – фыркнула Мотра, – становой только что с последними петухами вернулся из гостей, так, наверно, будет спать до полудня.
Сагачок оторопел – спать до полудня! – и поспешил спросить Мотру, что ему делать?
Мотра распорядилась, чтобы он приготовил корм свиньям и коровам. Сагачок охотно принялся за это знакомое ему легкое дело.
Между тем в кухню пришел десятский, который, хотя в иерархической лестнице занимает ступеньку ниже сотского, однако с обидным высокомерием отнесся к Сагачку, давая ему наставление во всем слушаться его, десятского, как человека опытного, умудренного трехлетней полицейской службой. Сагачок почтительно выслушал десятского и робко спросил:
– А становой… того… здорово лупит?
Десятский почему-то долго думал, разглаживая пряди длинных усов, пока, наконец, лаконически ответил:
– Бывает.
В кухню вошла приставша, толстая, обрюзгшая, заспанная, в бумазейном грязноватом капоте. Сагачок едва узнал в ней ту пани приставшу, которую он привык видеть разодетой в бархат впереди всех молящихся в стручанской церкви.
Приставша уставилась на него мутными глазами и отрывисто, словно гневаясь, спросила:
– Тебе что?
Пока Сагачок открыл рот, чтобы ответить, Мотра успела отрекомендовать его и заметила, что он уже накормил и свиней, и коров.
– А-гa, хорошо, пусть пообедает с вами.
Сагачок в жизни своей не едал такого вкусного обеда – борщ со свиным салом, пироги с горохом, вареники и узвар, а перед обедом сама приставша вынесла бутылку водки и из собственных рук дала ему и десятскому по две рюмки, а Мотре и няньке – по одной. Сагачок чувствовал себя превосходно, и только мысль о становом от поры до времени беспокоила его. Но, по крайней мере, в этот день ему даже не пришлось видеть станового, который, как предрекла Мотра, проснулся около полудня, пообедал и уехал в гости к богатому мельнику в Кривую Долину.
Для Сагачка началась новая жизнь, гораздо лучшая, чем была дома. Дома ему приходилось тяжело работать, часто голодать и еще чаще слушать воркотню старухи-матери и жалобы ее на беспросветное житье.
А тут вся его работа как сотского сводилась к тому, чтобы пойти раза два-три в неделю с казенными письмами на почту. Теперь он не боялся, что потеряет казенный пакет и попадет за это в Сибирь, и тащил на перевязи почтовую сумку так же равнодушно, как пастух торбочку с хлебом. Все остальное свободное время Сагачок находился в распоряжении приставши и – главным образом – Мотры. Он носил воду, колол дрова, давал корм свиньям и коровам – словом, исполнял обязанности батрака. Трудился он старательно, а потому заслужил расположение приставши и Мотры. Это расположение выражалось в том, что на кухне его ежедневно кормили и обедами, и ужинами. Сагачок редко стал бывать дома, несмотря на молодую жену, а если и бывал, то, ссылаясь на неотложные дела, старался поскорее улизнуть в становую квартиру, где он чувствовал себя прекрасно. Полученные от Вывюрки деньги он отдал в распоряжение матери и жены, которые засеяли поля и купили четыре овцы. Таким образом, Сагачок стал понемногу, как говорится, выходить в люди. Отношения к нему пристава – с точки зрения Сагачка – не заставляли желать ничего лучшего. Пристав, при более близком знакомстве с ним, оказался простым и добродушным, а не свирепым, сокрушающим скулы начальством, как воображал Сагачок. Пристав больше ездил в гости и играл в карты, чем «водворял порядок», и нередко бывало, что Сагачок по несколько дней не видел в глаза своего начальства. Понятно, такое положение Сагачка много зависело от того, что официально стручанским сотским числился Вывюрка, а он в глазах пристава был лишь на линии батрака при становой квартире, но – это только в глазах пристава, ибо и Сагачок, и все окружающие придерживались на этот счет иного мнения. Как бы там ни было, но Сагачок чувствовал себя прекрасно.
Время шло, наступила осень, и стручанам нужно было выбрать новых должностных лиц – сотского и двух десятских. С этой целью собрались они на площади у шинка Лейбы, и, когда был поднят вопрос – кого избрать сотским? – выступил Иван Бараболька, первый стручанский оратор, и сказал, что, по его мнению, сотского и десятских следует нанимать на общественные средства, потому что каждый порядочный хозяин, выбранный в эти должности, поступит как Вывюрка, то есть найдет заместителя. Стручане охотно согласились на предложение Барабольки, ибо каждый из них считал себя порядочным хозяином, и каждому не хотелось быть ни сотским, ни десятским. На наем сотского и десятских решили ассигновать двести рублей, получаемых от аренды общественного выгона, а то, что остается от этой суммы, затратить на «могарыч». Тотчас в становую квартиру был командирован один из обывателей с предложением Сагачку и десятским, не согласятся ли они оставаться в своих должностях и на будущий год, и какую потребуют за это плату. Десятские отказались, а Сагачок согласился за ту же плату, что получал от Вывюрки.
Так Сагачок остался «настоящим» сотским.
Сагачок сталь замечать, что, с момента избрания его сотским, отношение к нему пристава значительно изменилось. Раньше пристав как будто не замечал его существования, теперь же начал давать ему разные поручения, порой довольно трудные и неприятные. Так, ему приходилось возиться с арестантами, разгонять озорничавшие банды пьяных парней, выколачивать разные денежные сборы и т. п. Сагачок видел, что во всех случаях его служебной практики начальственный авторитет очень много значит, а потому почти не снимал «знака» с борта свитки, завел кленовую загнутую палку, как непременный атрибут каждого сельского должностного лица, и старался придать своему голосу, виду и манерам известную внушительность.
Стручане, слушая, как он ругает какого-нибудь подвыпившего парня, вспоминая и его отца, и деда, и всех родственников, одобрительно покачивали головами и говорили:
– Бравый наш сотский, хотя молодой, а бравый: так отчитывает, что за ушами трещит.
Сагачок постепенно входил в круг прямых своих обязанностей, незаметно ускользая из-под власти приставши и Мотры, но в то же время стараясь подлаживаться так, чтобы и та и другая были им довольны.
И это ему удавалось, потому что, если он не мог или не хотел выполнить какую-нибудь работу, поручал десятскому, а иногда просто зазывал для этой первого, кто проходил у ворот становой квартиры. И никто в таких случаях не отказывался, так как – кто его знает? – всяко бывает в жизни: откажешься, а потом каяться будешь…
Одну из незаменимых прелестей полицейской службы Сагачок находил в том, что стручане при всякой «оказии» угощали его водкой. Он сразу оценил удобство своего положения и всегда старался выискать какой-нибудь предлог зайти к тому хозяину, у которого была свадьба, крестины, поминки. Понятно, его угощали водкой, предлагали пироги, вареники и другие лакомые блюда. Сагачок сначала отказывался от угощения, ссылаясь на неотложные дела и недостаток времени, но затем выпивал рюмку-другую водки, брал в руки пирог или вареник и уходил, поблагодарив хозяев. Стручанам очень нравилась такая «политичность» Сагачка, которую они приписывали его скромности, на самом же деле он руководствовался в этом отношении пословицей – «кусай поменьше, стане надовше», то есть пользуйся благами жизни понемногу, исподволь, и хватит их на долгие годы… А Сагачок решил пользоваться этими благами.
Пустячный случай открыл перед Сагачком новые перспективы. А случай был таков. Однажды, когда Сагачок объявлял очередным хозяевам выход на «шарварковые работы», один из хозяев, которому необходимо было поехать на мельницу, стал просить отменить его очередь, предлагая взять за это бесплатно и смолоть ему мешок-два зерна. Сагачок воспользовался этим предложением, и с той поры, оказывая кому-либо послабление в отбывании «шарварковой» повинности, в льготной уплате денежных сборов и т. п., всегда старался извлечь какую-нибудь пользу. Таким образом, Сагачок, не имея лошадей, умудрялся даровым трудом (или за небольшую плату) обязанных ему стручан обработать свои поля, привезти, когда нужно, дров из леса, съездить на мельницу или на ярмарку. Понятно, при таких условиях хозяйство его налаживалось, в хлеву появилась коровенка, мать купила новую белую «свитку», а жена стала щеголять в цветных шерстяных платках. Но, заботясь о хозяйстве, Сагачок все же редко бывал дома, откуда его что-то тянуло в становую квартиру, словно пьяницу чарка.
Осенью в жизни Сагачка произошли три события: рождение дочери, вторичное избрание его сотским и приезд нового пристава.
Новый пристав оказался далеко не таким покладистым, как его предшественник, и очень любил «наводить порядок и проявлять энергию». Так как обычная жизнь стана текла очень спокойно, то приставу приходилось тратить свою энергию по пустякам: смотреть, чтобы стручане не вывозили на общественный выгон навоза и тем не заражали воздуха, чтобы не курили по улицам во избежание пожара, не нарушали песнями тишину и спокойствие и т. п. Исполнителем приставских распоряжений являлся Сагачок, который неизменно следовал за приставом, когда тот, с юпитерской миной, расхаживал по улицам села. Это обстоятельство – так сказать – воочию убеждало стручан в благорасположении пристава к Сагачку, авторитет которого, благодаря этому, значительно повысился. Правда, стручане не раз видели Сагачка с подвязанной щекой или подбитым глазом, но находили это в порядке вещей: известно, полицейская служба без рукоприкладства никак не возможна!.. Но и на опухоли щек Сагачок сумел подогреть свой авторитет. Он при всяком удобном случае проводил ту мысль, что если с него, сотского, начальство требует так строго, строго до опухоли щек, то он вправе и от других требовать так же строго. Постепенно его, как лицо известного положения, все чаще и чаще стали приглашать на «оказии», так что Сагачку не приходилось выискивать для этой цели никаких предлогов. Хозяйство его ширилось и улучшалось – словом, звезда сотского Сагачка всходила ярко.
Прошло два года, Сагачок все продолжал служить «вольнонаемным» сотским. К концу второго года в Стручкы прибыл новый пристав, который оказался горьким пьяницей, и если держался на службе, то лишь благодаря тому, что был родственником жены советника губернского правления и имел в лице его поддержку. Пристав пил с утра до вечера, причем по странной привычке никогда не держал в запасе водки и не покупал больше того количества, что вмещалось в любимой им охотничьей фляжке. Покупку водки пристав возложил на обязанность сотского, а так как фляжка была очень не велика, то Сагачку то и дело приходилось бегать из становой квартиры к Лейбе и обратно с фляжкой в руках.
Перед праздниками Рождества умерла старая мать Сагачка. Смерть матери имела решающее значение в дальнейшей судьбе Сагачка, так как порвала последние тонкие нити, связывающие его с родным домом. Он все хозяйственные работы бросил на руки жене, не стал и копейки давать на хозяйственные надобности из получаемого жалованья и лишь аккуратно платил казенные подати и общественные сборы, ибо в противном случае ему пришлось бы самого себя подвергать экзекуционным мерам.
Жена Сагачка махнула на него рукой и стала сама хозяйничать с умением и энергией, присущими крестьянке, тем не менее, наладившееся было хозяйство быстро стало клониться к упадку. А Сагачок все бегал с пустой фляжкой из становой квартиры к Лейбе и с полной – от Лейбы в становую квартиру, стал выпивать все чаще и чаще, следуя примеру своего начальства, и, к великому соблазну стручан, завел любовные шашни с кухаркой пристава, купив ей сапоги с медными подковками…
Когда я прибыл в Стручкы на место пристава, Сагачку было за сорок лет. Он прослужил сотским уже четверть века, но выглядел очень молодо, так как не занимался тяжелым крестьянским трудом, который преждевременно старит человека. И вообще по внешности он выгодно выделялся из среды своих односельцев. Последние обычно носили опущенные вниз по-казацки усы, молодежь – длинные волосы, а старики – чубы, одевались в серые расшитые красным или зеленым гарусом свитки и ходили в сапогах величиною с небольшие челноки. Сагачок, напротив, усы подкручивал по-московски, стриг волосы «под польку», носил черного сукна бекешу, а сапоги его с длинными голенищами и медными подковами служили предметом зависти всех стручанских парней.
В первые дни моего пребывания в Стручках Сагачок старался во всем быть мне полезным и суетился немилосердно. Но в то же время я видел, как он не раз не то испытующе, не то иронически посматривал на меня своими плутоватыми карими глазами, которые, казалось, спрашивали: «А ну-ка, покажись, что ты за птица?..» Но, по-видимому, изучение моей личности приносило ему разочарование, так как лицо его с каждым днем вытягивалось и становилось серьезнее. Особенно он остался недоволен, когда узнал, что я не пью ни водки, ни вина, ни даже пива. При этом, словно невзначай, он бросил замечание, что все мои предместники пили, и хорошо пили, но все они были прекрасным начальством. Я оборвал его и высказал на этот счет мой взгляд и требования, что заставило Сагачка озабоченно почесать затылок. Вообще, было видно, что мои предместники избаловали Сагачка, и он в своих отношениях ко мне не мог уловить чувства меры: то низкопоклонничал до приторности, то чуть ли не фамильярничал.
Не успел я порядком оглядеться по приезде в Стручкы, как мне пришлось столкнуться с самостоятельной полицейской распорядительностью Сагачка.
Вышел я глубоким вечером во двор своей квартиры подышать свежим воздухом. Село уже спало, и только кое-где в окнах хат мелькали огоньки, да слышно было, как по пыльной дороге глухо отдавался мерный шаг лошадей, как они фыркали и звенели повешенными на шеи железными путами, как гнавшие лошадей в ночное парни мурлыкали песенки или играли на «сопилках». В это время из одной боковой улицы вышла кучка парней, тихо и стройно напевающих какую-то песню, и направилась по дороге возле становой квартиры. Вдруг послышался грозный оклик Сагачка:






