Бархатный диктатор (сборник) Гроссман Леонид
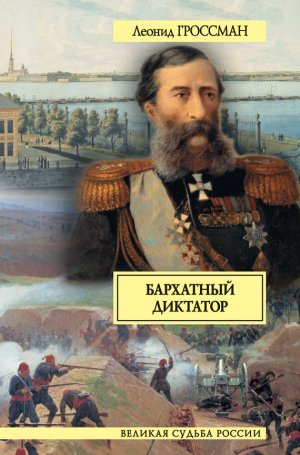
Кривоколенными закоулками они вышли на полукруглую площадь окраины. Старые, заплесневелые дома тесно обступили ее. Это была площадь святого Иакова у старой заставы, где в Июльскую монархию казнили преступников.
На одном из почернелых зданий можно было прочесть сквозь завесу дикого винограда:
...
«Погребок Вдовы Капет».
– Не пообедать ли нам в этом кабачке?
Мысль несколько экстравагантная, как многие предложения Полины. А впрочем, любопытно: парижская трущоба.
И пока в маленьком садике под сквозным туннелем они распивали бутылку бордо, закусывая ее лапками кролика под белым соусом, старый балагур-хозяин развлекал иностранцев рассказами о своем заведении.
– О, я превосходно помню, как император Александр въезжал на белом коне в Париж. Статный был мужчина! Я служил тогда поваренком у Прокопа. Русские офицеры поражали всех своей щедростью, – и девок и трактирщиков. Ну и повесы же у вас на родине, скажу вам! Иногда ко мне и теперь заглядывают ваши соотечественники. В последнее время особенно. А то при Луи-Филиппе их было что-то мало в Париже. Изредка какой-нибудь знатный ваш боярин заглядывал сюда в день казни. Ведь перед самыми моими окнами воздвигали гильотину. Так прямо и воздевала вдоль той кирпичной стены свои длинные красные лапы. Да, славные, славные времена! Дело наше процветало. Не то что теперь – глушь, затишье… Ведь ко мне собирались, как в королевскую оперу. Ведь вся-то казнь подготовлялась здесь, в погребке. Палач уж обязательно проводил у меня два дня. С трех часов ночи приходилось устанавливать машину. Здесь, вон перед той конторкой, исполнитель обряда опрокидывал последний стакан, прежде чем идти на работу, сюда же возвращался подкрепить свои силы после труда. Да, кстати, и закончить прерванную партию в пикет. Хороший был игрок, всегда меня обыгрывал. А народу-то сколько набивалось сюда во время зрелища – вы себе представить не можете! По луидору за стул платили. Один англичанин заплатил десять фунтов стерлингов золотом за столик у окна во время казни Фиески. Славные, славные времена! А когда рубили голову Алибо, яблоку негде было упасть… Сбор архиполный. А вот когда гильотинировали Ласенера…
– Ласенера?
Имя поразило его. Недавно он поместил в своем журнале в серии уголовных дел Франции большую статью о знаменитом убийце.
– Вы видели Ласенера?
– Так же, как вижу вас или мадам. Красивый парень! Благородная осанка, свежее лицо, маленькие усики, подстриженные по последней моде. Красавчик! Когда повозка подъехала почти к самым моим дверям и он сошел с подножки, все женщины так и ахнули. Вот так молодчик!
– Ну как же он себя держал перед казнью?
– А спокойно. Совершенно, знаете, невозмутимо. Первым обезглавили его сообщника Авриля. Наблюдал весьма внимательно. Словно бы даже удивился, как мгновенно отскочила голова. Но самому-то пришлось повозиться. После первого удара что-то в машине испортилось. И вот спускают нож уже весь окровавленный, а он еле падает, вяло царапает затылок, а пользы никакой. Несколько раз пришлось повторять, и все безрезультатно. Целую минутку лишнюю прожил Ласенер. Наконец оттяпали. Преинтереснейшее вышло зрелище…
– А за что казнили Ласенера? – спросила Полина.
Достоевский встрепенулся.
– Это и я могу рассказать вам. Вы не помните статью о нем во «Времени»? Это был самый чудовищный и самый опасный тип убийцы. Представьте себе красивого юношу, талантливого и нищего, которому предстоит изучать право. Аппетиты и соблазны огромные: нужен сразу весь капитал, а тут приходится усидчивым трудом и строгой бережью создавать себе копейку. Общество, как всегда, равнодушно. И вот молодая душа ожесточается и отвечает ему презрением и ненавистью. Ласенер решает стать обличительным поэтом, сатирическим писателем, гневным публицистом. Он выпускает сборник негодующих стихов и пишет статьи о современной тюрьме – ряд пощечин правительству и столько же оправданий погибающим преступникам. Слава не приходит, жажда золота и наслаждений растет. Чем жить? Пять франков за статью. Высший месячный заработок двадцать франков. Так нужно же преступить через законы! Воровство и подлоги обходятся очень дорого, нечего белоручничать, пойдем путем крови. Грабежи, убийства терпугом, зверские преступления становятся практикой литератора. «Вид трупа, агонии не производит на меня никакого впечатления, – говорил он на суде, – убить человека для меня то же, что выпить стакан вина…» Прокурор и судьи были ошеломлены этой дерзостью. «Я избрал систему поголовного убийства как средство самосохранения и упрочения собственного существования». – «Но вы убивали с равнодушием коммерсанта, заключающего сделку, чтоб ценою крови устраивать оргии». – «Конечно. Я не жесток, но средства должны соответствовать цели. Сделавшись убийцей по системе, я должен был отречься от всякой чувствительности». Он произнес блестящую заключительную речь, отнюдь не в оправдание свое и даже не прося помилования – но как бы в обоснование своей теории. Он до конца считал себя писателем и философом: «Господин Гюго написал прекрасную книгу «Последний день приговоренного к смерти». Но если б дали мне сроку, я перещеголял бы его».
– Но как удалось ему совершить столько преступлений и остаться безнаказанным?
– Изумительное хладнокровие и редкое присутствие духа. Вот вам пример. Он убил и ограбил какого-то старика, некоего Шардона, на его квартире. Только что он отворил входную дверь, чтоб скрыться, как двое неизвестных спросили Шардона. Ласенер спокойно отвечал, что тут его нет, и в то же время держался за дверь, которая не запиралась из-за сбившегося на пороге половика. Последовали расспросы – куда пошел, когда вернется, словом, разговор длился несколько минут. Если б посетители заглянули в эту растворенную дверь, они бы увидели труп Шардона. Вы представляете себе, с каким самообладанием нужно вести беседу в такую минуту и в таких условиях?
– А знаешь, тебя невольно, вопреки твоему желанию, увлекает этот образ…
– Не думаю… Нет, конечно. Но, с одной стороны, он, пожалуй, любопытен для романиста. Ласенер выработал философию убийства, в своих статьях он оправдал и возвеличил преступника, он не просто грабил, он разрешал кровь по соображениям какой-то особой, пусть чудовищной морали. Право поэта, призвание писателя, литературную гениальность он превращал в аргумент своих кровопролитий. Это неслыханно, это напоминает вызов Клеопатры, это головокружительно страшно, но в это стоит всмотреться и вдуматься… Кровь по совести, – подумай только, куда это может завести!
Они расплатились с трактирщиком «Вдовы Капет» и снова вышли на уродливую площадь, обильно политую кровью жертв короля-буржуа.
По Италии
Я не видел ни Венеции, ни Золотого Рога, но ведь наверно там давно уже умерла жизнь, хоть камни все еще говорят, все еще вопиют доселе.
Из черновиков «Преступления и наказания»
Путешествие вдвоем вдоль извилистых побережий южных морей. Мраморные дворцы и тесные улицы Генуи, недвижная гладь лагуны Ливорно, белоснежный амфитеатр Неаполя под курящимся конусом Везувия. А по пути каменные чудеса древности – Капитолий и Форум Романум. И всюду, несмотря на полуденную красочность пейзажей и легендарную насыщенность городов, тихий и напряженный поединок, глухая и жестокая борьба, упорное взаимное мучительство до острой ненависти и подчас почти до исступления. Вспоминая эти беседы, он записал впоследствии: «Бывали минуты (а именно каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее».
В Турине, в густых аллеях Джардино-Публико, она почти оскорбила его своим вызывающим равнодушием к его наболевшей жалобе. Он весь содрогнулся, как от удара.
– Как ты высокомерна, Полина. Ты не допускаешь равенства в наших отношениях…
– Слишком уж я покланялась тебе когда-то. Это было тоже неравенство, однако ты очень легко переносил его.
– Ты мстишь мне за то, что прежде любила?
– Ведь ты сам говорил, что любовь – это право на мученье, дарованное нами другому существу. Ну, и люби и терпи, если любишь… Ведь сам в жизни немало истерзал душ. Всегда любил лакомиться чужими слезами.
В Ливорно перед мраморной статуей воителя с четырьмя бронзовыми рабами по углам он с горечью вспомнил свой приезд в Париж и всю историю с Сальвадором.
– Разве можно диктовать чувству? – небрежно уронила она. – Разве не высший закон – влечение сердца, влюбленность и страсть?
– Но есть ведь и обязательства, моральный долг, совесть, наконец необходимость считаться с чужой душою. Ведь я стремился к тебе, полный веры в тебя, и вдруг это – «ты немножко опоздал»… Что? Как? Возникла новая интрижка. Этого достаточно. Можешь вешаться на первом крюке…
– А по-твоему, я должна была отказаться от счастья во имя твоих дорожных удобств или, там, надежд? Так вот что я тебе скажу: ты, может быть, и великий писатель и необыкновенно изобразил всех этих угнетенных и нищих, но только ты отчаянный мещанин. Да, именно не простолюдин, а мещанин, мещанин! И опрятность-то у тебя мещанская, и вся эта чистота и аккуратность, и модный твой костюм при этой безобразной обуви, и эта подозрительность, и эта обидчивость, и эта сварливость. Ничего аристократического, ничего смелого, доверчивого, широкого, приветливого. Так и видно, что твой дедушка сукном торговал. Все в тебе купеческое, аршинное. Я даже думаю, что ты не велик как писатель. Гении – совсем иные. Взгляни на Герцена, Тургенева – небось бы хотел на них походить? Только не удастся… Мелок ты в своем безмерном самолюбии…
Эта неожиданная характеристика показалась ему самому ужасающе меткой. Он попробовал робко отвести удар.
– Ты всегда в крайностях, Полина: людей ты считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же подлецами и пошляками.
– Нет, тебя не считала ни тем, ни другим.
– Однако там, в Петербурге, в зале Руадзе, я казался тебе героем… А разве твой Сальвадор не был уже для тебя и богом и подлецом?
– Нет, нет, он всегда был для меня горд и прекрасен.
– Даже когда ты хотела убить его?
– Даже и тогда…
Он был так поглощен борьбой с Полиной, что даже Рим был воспринят им сквозь непрекращающиеся схватки этой напряженной внутренней битвы. Город лишь по временам захватывал его своими историческими обломками. Он особенно ощущал здесь то, что всегда ценил в памятниках древности – живое ощущение минувшего героизма, дыхание горячих жизней и страстных подвигов. Его прогулки по холмам сопровождались звоном любимых строк:
Я ждал, – она пройдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные…
Великое, древнее поле, усеянное мраморными руинами, глубоко взволновало его. Вот целла Сената, где Цицерон громил Каталину, вот место трибуны, с которой Марк-Антоний оплакивал Цезаря. Эти камни европейскому человечеству постоянно напоминали о каких-то неугасимых образцах героизма, силы мысли, духовного мужества. А там, в огромном, пустынном, безмолвном Колизее, среди каменных глыб и висячих трав, он ощутил другую стихию древности. Чернь цирка – в ней было нечто от Клеопатры, ожесточенной развратом и пресыщенной сладострастием. Он с ужасом понимал эту хищность гиены, жадно лизнувшей крови, это изощренное наслаждение убийством и видом предсмертных страданий. Он почти с испугом озирал гигантскую арену, где некогда стаи диких зверей пожирали разноплеменных пленников под распаленными взглядами многотысячной толпы утонченнейших палачей-артистов, топящих с бесстрастным изяществом свою скуку в потоках гладиаторской крови.
Полина равнодушно осматривала колоннады и обломки, ее влекла к себе современность, археология наводила на нее скуку. Она словно утомилась и, казалось, была менее раздражена. Как-то на террасе кафе Греко в толпе иностранцев он, невольно любуясь ее усталой и прекрасной головой, заговорил с грустью об их ушедших прежних отношениях. Полина вышла из задумчивости и почти содрогнулась.
– Ты стыдишься своей любви ко мне?
– Нет, не любви, но, знаешь, в отношениях наших… (она не договорила). Ведь ты, Федор Михайлович, великий циник.
– В тебе я видел всегда прежде всего духовного друга…
– О, ты вел себя как человек серьезный, который, впрочем, не забывает и наслаждаться, на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно встряхиваться раз в месяц.
– В чем же ты усматриваешь мой цинизм?
– Вспомни все. Ты ведь так любишь подробности…
Жесткие слова Полины странно контрастировали с легким, прозрачным воздухом Рима и миротворной гармонией его архитектурных линий. Купы свежих цветов темными кустарниками распускались по нижним ступеням могучей лестницы мастера Бернини. Сверкающим султаном пены и брызг возносился торжественный фонтан великого зодчего. Пьяца ди Спанья открывала перспективы переулков и площадей старинного квартала туристов с лавками букинистов и антикваров, с потемневшими от времени локандами, где жили Монтень, Гете и Гоголь… Но Полина почти не замечала этого. Она по-прежнему ожесточалась и враждовала.
– Ты и в писаниях своих бываешь циничен, – настойчиво продолжала она свои укоризны.
– Где это?
– Да вот, хотя бы этот твой Валковский. Или его любовница-графиня, от которой веет крещенским холодом и грозной добродетелью, а на самом-то деле похуже маркиза де Сада.
– Она так не нравится тебе, потому что ты сама на нее поразительно похожа.
– Может быть. Только не люблю, когда ты пишешь цинические вещи, это к тебе не идет; не идет к тебе такому, каким я тебя воображала прежде.
* * *
Только в Неаполе она, казалось, загрустила и словно смягчилась. Она даже осуждала себя за охватывающее ее подчас желание всех растерзать, все растоптать, отъединиться от людей. В такие минуты она охотно вспоминала Лермонтова, своего любимого поэта.
Они сидели как-то вечером на балконе гостиницы. Внизу возбужденно и весело клокотала своей пестрой толпой Ривьера ди Киайя. Чуть в стороне покачивались за волнорезом бесчисленные торговые суда. По овалу залива выступали очертания Портачи, Торре дель Греко, Помпеи. Она молча и равнодушно смотрела на белые виллы побережья, не удивляясь и не любуясь. Он попытался увлечь ее знаменитой панорамой, рассказом о Тиверии и о пытке Кампанеллы. Она еле слушала его.
– Бежать бы от всего этого, – безразлично уронила она.
– Куда?
– В леса, к Белому морю, в Америку, куда глаза глядят. Но только бежать, скрываться, таиться, уйти от этого самодовлеющего и непереносимого людского сброда, от Петербурга, Парижа, Италии, Иваново-Вознесенска…
– В подполье? В революцию?
– Нет, в странничество, в скитальчество по лесам, по галичским, олонецким и пошехонским чащам, в Керженец, в Боровск, на Выгу, в Великоречку. Освежать себя пространствами, опьяняться просторами, ширью рек, бескрайностью снежных равнин, пустынным холодом Поморья.
– В раскольничьи скиты?
– В секту бегунов.
От удивления он откинулся на спинку скамьи. Полина же нараспев читала заунывный стих:
Кто бы мне поставил прекрасную пустыню,
Кто бы мне построил не на жительном тихом месте,
Чтобы мне не слышать человеческого гласа,
Чтобы мне не видеть прелестного сего мира,
Дабы мне не зрети суету-прелесть света сего,
Дабы мне не жалети человеческие славы?..
Начал бы горько плакать грехов своих тяжких ради?..
Эти мотивы были знакомы ему. Он любил бродить в Петербурге по тусклым улицам – Разъезжей или Ямской, где безмолвно и угрюмо осела староверческая, раскольничья и скопческая Россия, заброшенная в царскую столицу. Там веяло на него какими-то преданиями и тайнами, заговорами и фанатизмом, той особой жестокой поэзией еретического бунтарства, которою он так любил упиваться, находя в ней обильную пищу для своих образов и видений. Там вспоминал он голубей татариновской секты и рассказы придворных лакеев Павловского дворца.
– С каких пор у тебя эта тяга к божественному?
– О нет, ошибаешься. Я по-прежнему в Бога не верую. А только наши сектанты живут вольной жизнью и в великой тайне готовят грядущую, всеобщую свободу.
– Так ли? Я уже в этом изверился. Они за старину, а не за фурьеризм.
– А все же зверь апокалипсичный для них есть царская власть. И поверь – не ты с приятелями свергнете царя – ведь в одно утро вас всех разметали по сибирским острогам за одни только разговоры, – а эти безмолвные, невидимые, безвестные массы лесных келий и снежных побережий. Вот кто повергнет зверя в бездну.
Когда-то в молодости он описал в одной повести, осмеянной и непонятой, но до сих пор болезненно любимой им, русскую простонародную красавицу. Ему удалось передать тогда прелесть этой чудесной раскольничьей задумчивости, словно разлитой по всей фигуре молодой большеглазой женщины и так печально отраженной на кротких контурах ее полудетского страстного лица. Облик этой начетчицы тяжеловесных книг в дощатых кожаных переплетах, писанных поморской скорописью с киноварью в начальных буквах и золотом в заглавиях, с цветистыми обрамлениями и крючковатыми нотами, казалось, ожил теперь в Полине, бесконечно волнуя сходством его раннего творческого видения с этой крепкой поволжской крестьянкой с горящим взглядом еретички под легким брюссельским кружевом ее модной косынки.
– Друг мой, – ласково возразил он, – в прошлое царствование с ними боролись нещадно, и никто из них и не помыслил о восстании на Николая.
– А в пугачевщину все они приняли участие в движении. И опять восстанут! В прошлом году они просили защиты у Наполеона Третьего, даже в Париж приезжали…
Ей, видимо, не хотелось длить спор. Она как-то быстро утомлялась от их бесед.
Он вообще замечал, что она становится задумчивой, сосредоточенной, грустной, словно тоскующей в своих метаниях и бесплодной раздраженности. Не предвещало ли это перелома к лучшему? Он уже не раз прежде был свидетелем этих непонятных переходов от гордости и презрения к участию, доверчивости и состраданию.
* * *
Как-то вечером он раскрыл свою дорожную тетрадь и прочел ей наброски одной странной короткой повести. Собственно, даже не повести, а какой-то беззаконной и отвратительной исповеди. Что легло в основу ее? Не то воспоминание, из тех мучительных и позорных, о которых самому себе признаться совестно, не то чудовищный опыт обнажения своих душевных гнойников, не то, может быть, потребность безжалостного суда и казни над самим собою. «Это уже не литература, а какое-то исправительное наказание» – так казалось ему самому, когда он записывал свое давнишнее впечатление от одной девушки с Невского, покорно принявшей на свои худенькие плечики груз обиды, полученной им как-то от холодной и равнодушной красавицы.
Чтение взволновало его. Записи были прорезаны особой мучительной, внутренней болью, но ему казалось, что он не передал в них всей глубины духовного падения обидчика и сердечного отчаяния его неповинной жертвы. В выражении взаимного сострадания еще было нечто случайное, описанию еще не хватало той непререкаемой убедительности и окончательной бесспорности, какими запечатлены великие страницы гениев (и какие впоследствии ему удалось придать этим страшным запискам). Художник еще тосковал в нем по недостигнутому совершенству и словно искал других подъемов и высших степеней выразительности. Даже сцена, когда измученная, униженная, опозоренная девушка вдруг понимает своим любящим сердцем, что истязатель ее сам глубоко несчастлив и в ответ на обиду радостно и примиренно протягивает ему обе руки, казалась ему теперь еще недостаточно жизненной и заразительной. Разве всю мучительную силу внутреннего напряжения удалось ему передать в этой записи:
...
…Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало…
– Мне не дают… Я не могу быть… добрым! – едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии…
Он еще сомневался в убедительности и драматизме этого эпизода. Дочитав страницу, он вопросительно и с тревогой взглянул на свою слушательницу. Она смотрела на него светящимся, почти обжигающим взглядом. Огромные глаза ее, горящие и страдальческие, с благодарностью и восторгом смотрели на него, и две крупные слезы катились, сверкая, по ее побледневшим щекам. Он содрогнулся.
– Поля, что с тобою?
Молча привлекла она его к себе, ласково прислонила к своему плечу его изможденную скуластую голову и начала тихо, чуть касаясь, гладить его обеими руками по мягким редеющим волосам, по высокому и прекрасному лбу с глубокими и страдальческими впадинами висков. Слеза ее обожгла его впалую щеку. Сердце заныло от смертельно-сладостной боли. Он прощал ей всю муку, все унижения, всю истерзавшую его пытку парижской недели. Он снова чувствовал в ней великую нежность и сострадание к себе, глубокое благородство этой истомленной, мятущейся, негодующей и все же великодушной натуры. Ему начинало казаться, что счастье, в котором так упорно отказывала ему жизнь, наконец исходило на него щедро и радостно.
* * *
Он сохранил у себя листок из ее итальянского дневника, написанный бегло, неправильно, но с той открытостью сердца, которую он так ценил в ней.
...
На меня опять нежность к Федору Михайловичу. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что неправа: мне хотелось загладить эту вину, я стала нежна с ним. Он отозвался с такой радостью, что это меня тронуло, я стала вдвойне нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: «вот это знакомый взгляд, давно я его не видал». Я склонилась к нему на грудь и заплакала.
Из Неаполя они уехали примиренными. И пока скрывались в синей дымке белоснежные виллы Кастелламаре и вырастал над сверкающим амфитеатром города усеченный конус Везувия с белым дыханием обожженного кратера, он чувствовал себя в этом легком дыхании и блистании моря безмятежно и окончательно счастливым, как первобытные люди в утопиях о золотом веке, как Ацис и Галатея в блаженных полях солнечного Клавдия Желлэ, Лотарингца.
Красное и черное
…это наживание денег даром, как здесь (не совсем даром: платишь мукой), имеет что-то раздражительное и одуряющее.
Письма жене
Евгений Растиньяк у Бальзака беспечно бросает в игорном доме сто франков на цифру своего возраста – двадцать один – и через мгновенье загребает лопатой три тысячи шестьсот франков. Скажут – ведь это роман, а разве жизнь не фантастичнее всех писательских выдумок? Разве биография Бальзака не сказочнее всех его писаний?
И разделив весь свой капиталец на две ставки, он решительно опустил тридцать талеров на цифру тридцать шесть и двадцать талеров на восемь. Сумма цифр давала сорок четыре. Он родился осенью 1821 года.
– Красное, пасс, тридцать шесть! – выкрикнул через десять секунд крупье.
«Бальзак ничего невероятного не выдумывал», – с гордостью за любимого автора подумал Достоевский. Это чувство заслонило в нем даже радость от крупного выигрыша. Крупье подбросил ему своей длинной лопаточкой сверкающую кучку фридрихсдоров. Он выиграл одним безрассуднейшим ходом свыше тысячи талеров. Впрочем, уже не в первый раз он по необъяснимому внутреннему подсказу безошибочно угадывал номер.
«Ну, а теперь по системе, без риска, расчетливо, осторожно, хладнокровно, не поддаваясь соблазнам, гоня увлеченья… Вот как этот банкир… Не человек – гранит!»
Он внимательно всматривался в тяжелое лицо богача, прорезанное у жирных губ складкой презрительной горечи, столь характерной для семитов. Ему вспоминались озабоченные и скорбные физиономии иноплеменных обитателей петербургского гетто – Подьяческих улиц и шумной округи Обухова моста, где уныло мелькали однополые камлотовые сюртуки и неизменные котиковые шапки затерянных в царской столице иудеев.
Утренний спутник Селесты Могадор непрерывно и методично ставил свои маленькие ставки на большие квадраты. Вот у кого нужно учиться выдержке. Сколько? Опять только пять талеров на пасс. Что за дьявольская выдержка! Он снова унесет сегодня свою тысячу гульденов – пустяки, но ведь так каждый вечер! Ну, конечно: четная, красное, пасс. Выиграл. Снова пять талеров. А теперь верхом на две цифры?.. Что за ужасающее хладнокровие! Но только какая мелкая игра, какая безобразная боязнь проигрыша. Так и видно – банкир, ростовщик, франкфуртский жид… – Вон рядом с ним этот лорд с широким лицом и короткими бакенбардами Пальмерстона – тот смелее, щедрее, а тоже ведь все по строжайшей системе. Но принцип разумнее: прогрессия Мартингала! Нарастающее повышение ставки. Беспрерывное удвоение. Здесь уже не талеры, а фридрихсдоры, дублоны, целые колонки золотых. Перед ним пачки хрустящих ассигнаций, кучи рассыпанных монет. Вот это настоящая добыча! Сотня тысяч в вечер! Банк трещит от его обдуманного и неуклонного азарта. Говорят, администрация казино ждет не дождется, чтоб этот флегматик переплыл обратно Ламанш…
Крупье опять пододвинул англичанину кучку монет и ловким жестом метнул ему пачку кредиток. Тот небрежно присоединил новый выигрыш к своему капиталу.
«Но на первых порах будем следовать примеру франкфуртца. Малыми ставками, терпеливой системой. Ведь если играть хладнокровно, спокойно и с расчетом, то нет никакой возможности проиграть. Там слепой случай, а у меня расчет, следовательно, у меня перед ним шанс».
– Мосье, назначайте игру, – раздался протяжно-звонкий голос банкомета.
Игроки засуетились. Вслед за другими он поставил один гульден на квадрат из четырех и два на красное. «Игра назначена!» – пропел голос. Номер проиграл, красное выиграло. Комбинация дала выигрышу один гульден. Он повторил прием. Тот же результат. Он увеличил ставку на цвет и поставил серебряную монету уже только верхом на два номера. Цвет проиграл, один из номеров выпал. Он был в выигрыше на восемнадцать гульденов. Система требовала продолжения малыми ставками. «Но ведь везет – грех не воспользоваться удачей…» Он поставил двадцать гульденов на чет и один на зеро. Выпало 28. «Решительно фортуна за меня. Не положить ли весь куш в бумажник и уйти? Перед закрытием казино повторить опыт и даже чуть-чуть превысить его. В случае удачи довести выигрыш до 500 гульденов, но ни под каким видом не переходить эту черту. За неделю выиграть десять тысяч – и уехать. Расчет безошибочен – затем спокойствие, возможность работы, тщательного обдумывания, медленной отделки огромного замысла. Какое наслаждение! Не торопиться, дать всего себя и снова вызвать фурор. Как в 1846 году. Как недавно с «Мертвым Домом». Ведь могу сделать больше, сильнее и лучше…»
Голос крупье снова напевно призывал к игре. Банкир опускал свой червонец на красный ромб. Что-то повелительно подсказало: выиграет красная. Он бросил туда же свой фридрихсдор. Ставка удвоилась. Он осмелел и оставил ее на том же месте. Тот же результат. С молодой дерзостью он не снимал своего нарастающего выигрыша. Шла серия одинакового цвета – вот уже пять, шесть, семь раз, ведь может и двадцать раз повториться, нужно смело следовать за ней, не боясь интермитанса. И он не трогал своей нарастающей кучки, пока самые смелые понтеры начинали снимать вокруг свои ставки, опасаясь неизбежного перерыва в этом непонятном и упрямом течении случая.
Он подсчитал свою груду. У него уже было свыше 120 фридрихсдоров, или двух тысяч талеров. Явно везет, нельзя уходить, нужно исчерпать благоприятную полосу.
«Неподвижность в процессе игры, как и в политике, – ложное правило. Нужно уметь видоизменять взятые принципы в зависимости от хода обстоятельств. Повышение ставок пропорционально выигрышу – ведь это тоже принцип. Нужно оставить систему еврея и перейти к принципу лорда. Риск – непременное условие крупного выигрыша».
Он бросил империал на зеро. Вышло 19. «А, красное! Это указание». И он смело поставил колонку золотых на руж. Вышло черное. Счастье начинало изменять. Нужно поскорее вернуть выигрыш. Снижая шанс, повысить выдачу – не бояться повышения риска, это в конце концов – единственный путь к настоящему выигрышу. Десять фридрихсдоров на первую дюжину, уплатят втрое… Семнадцать. Не угадал. Ту же сумму верхом на две последние трансверсали. Это даст сразу пятьдесят золотых… Одиннадцать! Проигрыш. Только не отступать. Те же сто талеров на верхнее каре: 2–6, ведь восьмикратная выплата. (Что-то неудержимо несло его, сметая все принципы, теории и решения.)
Голос крупье:
– Пасс, красное, тридцать два!
«Черт! Ну так трансверсаль-плэн 28–30. Это даст сразу 110 фридрихсдоров».
Выпало 12. Он почувствовал, что покатился по наклонной плоскости и уже не сможет остановиться, пока не докатится до полного крушения. Но в это время произошел неожиданный эпизод.
Лорд, похожий на Пальмерстона, продолжал с поразительным счастьем ронять на сукно свои крупные ставки. Он словно приказывал своею игрою шарику скатываться в определенную лузу. Стая мелких, трусливых и жадных игроков, уже не рассуждая, бросалась со своими гульденами и разменным серебром на квадраты, отмеченные банкнотами англичанина. Они получали свои смиренные талеры, пока банк неизменно выбрасывал лорду после каждого оборота колеса львиную добычу в ответ на его максимальные ставки. Уже прошел какой-то тревожный шепот среди крупье, и шеф партии, наклонясь с высокого стула, как дирижер оркестра, отдавал какие-то спешные распоряжения банкомету. В толпе игроков прошел возбужденный ропот: банк трещал. Подорванная безошибочными ударами англичанина касса начинала истощаться. Но невозмутимо и упорно двойник Пальмерстона продолжал сыпать свои тысячи на дюжины, квадраты, трансверсали и цифры, неизменно вырывая из недр банка свою королевскую добычу. Не обращая внимания на возбуждение понтеров и смущение крупье, он бросил пять тысяч на зеро.
– Ваша ставка слишком сильна по состоянию кассы, – любезно сообщил крупье, – банк в настоящую минуту может отвечать лишь ста девятнадцатью тысячами.
Англичанин на мгновение задумался и молниеносно вычислил предельную ставку.
– Ставлю три тысячи триста на зеро.
Крупье мягким жестом привел в движение рулетку и одновременно бросил с высоты в лакированную чашку маленький бледный шарик, который с сухим, отрывистым треском заметался в центробежном вихре по цифровым гнездам и неподвижному ободу игорного аппарата, пока наконец, ослабив энергию полета, не скатился в одну из ячеек. Диск продолжал, замедляя, вращаться.
– Зеро! – выкрикнул крупье.
Поднялся шумный говор. «Невероятно!» «Это какой-то ясновидец!» «Ему бы угадывать местонахождение золотоносных россыпей…» Крупье перебрасывал через стол последние пачки кредиток и метал золотою кометою остаток своих суверендоров. Лорд спокойно раскладывал по карманам свой выигрыш.
– Просим господ и дам перейти к другому столу. Наша рулетка на сегодня выбывает из игры.
Согласно уставу казино, сорванный банк не возобновлялся до следующего дня. Проигравшая рулетка закрывалась.
Шеф партии с инспектором зала и маленьким штабом своих крупье замыкал чашку аппарата в деревянный футляр и ставил печать. Длинный стол был весь перекрыт цельным черным покрывалом.
Группа игроков перешла в соседний зал. Быть может, здесь улыбнется счастье… Крупье суетились у кассы. Публика располагалась за столом, подсчитывая деньги и распределяя ставки. Он тяжело опустился в кресло.
«Всю мою жизнь я брел путем казней. Гибель отца, мозговая болезнь, прерывающая творчество, каземат, эшафот, острог, измены любимых… Жизнь пронеслась вихрем бедствий. Оглянешься назад: «Мчатся бесы рой за роем…» Но не самая ли мучительная из всех пыток – это изнурительная лихорадка у игорного стола, это взлеты и крушения, это мучительная надежда и гибель всего?..»
Франкфуртский банкир выложил перед собою свою добычу – на взгляд тысяч двадцать. Кора Перль села рядом. Лорд оставил казино. Селеста Могадор прошла с вкрадчивым взглядом мимо Достоевского.
– Вам не везет сегодня, – шепнула она на ходу, – остерегайтесь риска…
– Только риск еще может спасти меня, – с признательностью за участие отвечал он ей, ставя один из последних червонцев верхом на два номера.
Но благожелательность рулетки окончательно изменила ему. Лопатка крупье легко и уверенно загребла его монету.
Не вернуться ли к системе еврея?
Банкир стал играть смелее. Он стал изменять простым шансам, ставил на номера, угадывал квадраты и сикстены. Каждые полчаса он проверял свой выигрыш и отправлял в бумажник очередную партию кредиток. В Достоевском поднималось к нему чувство вражды и ненависти. Сам он дошел до последнего флорина.
«Как быть? Три раза подряд вышло красное… Ставлю на черное». Он бросил свой золотой на траурный ромбик раздела. Банкир в четвертый раз кряду опустил запечатанную пачку на красное.
Через десять секунд монета с черного ромба, подхваченная лопаткой крупье, неслась в банк, пока тяжелая пачка кредиток летела к месту франкфуртца.
Итак, игра кончена… Да, кончена! Все кончено. Он почувствовал легкую слабость в голове и направился к выходу.
Треск шарика, хрустенье и тонкий мелодический звон. Мелькают лица, словно сквозь желтое стекло. Золотится алебастр. Мучительно жужжат газовые рожки. Зеркала похожи на двери, в которых стоит он, господин Достоевский первый, Федор Михайлович старший, бледный игрок, потерявший последний цванцигер, опозоренный и раздавленный, как в Петербурге когда-то в пивной, на бильярде. Двойник бледнолицый опять издевается над автором «Бедных людей» и «Записок из Мертвого Дома»? Философ, страдалец, поэт? А штаны заложить не желаешь в ломбарде? Российский Бальзак… О, убожество… нет – Поль де Кок петербургский!
С какой-то особенной легкостью непоправимого горя вышел он в атриум. С такой же воздушной прозрачной какой-то безнадежностью (освобождение от всех земных тягот) шагают обреченные к смерти, легко донося свой траур до предельной черты.
И бодрой походкой последнего отчаяния прошел он под колоннаду.
Наполеон или нет?
Что вы, один, что ли, на свете? Для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? Что вы? Кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?.. Говорите же, сударь! Наполеон или нет?
«Господин Прохарчин»
Он опустился в плетеное кресло из ивовых прутьев у крайнего столика. Было свежо и сыро. Пока он играл, прошел легкий дождик. Пахло мокрой листвой и размытой землей. Запах, чем-то всегда напоминавший ему тульские ливни, луга за Каширой. Великая мать-сыра земля… «Дети должны родиться на земле, а не на мостовой – да, на земле, откуда хлеб и деревья растут…» Вдруг вспомнились здесь, у подножия Таунуса, в Рейнской долине, пустоши Зарайского уезда, где он бегал мальчишкой по мокрым дорогам. Запах дождя и земли всегда возбуждал в нем эти впечатления ранних лет. И глядя на ель, освещенную газом и всю унизанную, словно бисером, мельчайшими капельками дождя, он вспомнил вдруг где-то в овраге под Чермашней огромный куст, облитый летним дождем, зыбкий, трепетный, весь блестящий и веющий свежей прохладой. «Чуть-чуть плечом задеть, и миллионы брызг обдадут голову…» Хорошо после угарных ночей, вобрав до краев сердца горечь жизни, боря тошноту и отвращение к людям, сжечь себе мозг под этой влажной лаской листвы…
Самоубийцы… Иные из покушавшихся не раз беседовали с ним об этом. Поэт Шидловский, мечтавший броситься с цепного моста в Фонтанку и камнем пойти сквозь ласковую пресную воду на мягкое нежное дно. Молоденький арестантик в Омске, затосковавший в рекрутах и однажды в карауле глухой осенней ночью отомкнувший штык, скинувший сапог и спустивший пальцем ноги курок ружья. Вспомнились слова Петрашевского: «Три месяца лежал подле меня заряженный пистолет… Я принужден был холодным размышлением признать ничтожность своей личности перед лицом природы, я должен был отвергнуть в себе то, что называется свободою произвола… Тогда мне показалось, что единственный выход из этого тупика – заявить своеволие и уничтожить себя».
В тот белый петербургский вечер Достоевскому неясно обозначился образ романа: странный мыслитель, косноязычный какой-нибудь философ, формулирующий безумную, но в системе своей жутко логическую мысль: я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить самого себя. И уже мерещились вокруг авантюристы, которые хотят использовать этого философа-самоубийцу в своих грязных политических интересах и кровавых подпольных комбинациях.
И вот теперь сам он стоял перед этим неожиданным и грозным велением. Подумать только – один легкий, еле заметный жест, короткий нажим пальца, и ты отодвигаешь от себя мир. Весь мир со всем человечеством, с врагами и самыми дорогими сердцу людьми, весь земной шар с его городами, степями, снегами, закатами, ветрами, белыми ночами, Сириусом… Кажется, это у Гете Вертер, застреливаясь, жалеет, что больше не увидит прекрасного созвездия Большой Медведицы… Да, об этом можно жалеть умирая – прочное алмазное семизвездие, неведомая колесница, мы навсегда расстаемся с тобою… Да, отодвинуть мир – бесстрашно и решительно. Там – великая вселенная, отвергнутая твоей волей, здесь ты, единственный и уже победивший жизнь. И вот свинцовый толчок в сердечную сумку – и мир отпал от тебя, ты несешься в черноту, в неизвестность и, может быть, где-то там, далеко-далеко, в бесконечных глубинах, в бескрайних пространствах замечаешь мерцание, маленький зеленый лучик, затерянную звезду, зовущую своим переливным и чистым огоньком. Это – Земля, навеки оставленная тобою, окровавленная, изъязвленная, болящая, но бросающая в страшную черноту междупланетных пространств свой чистый изумрудный лучик. Да, жаль покидать тебя, маленькая планета…
На Семеновском плацу он мог гадать, мечтать, надеяться, оглядываться в надвигающуюся пустоту, еще ожидая от нее какого-то ответа. Новая природа? Лучи?.. Перерождение?.. Теперь он знал: пустота. Ничего. Конец. Разрыхленная могилка, полная какой-то мутной зеленой жидкости – недавно он видел такую на петербургском кладбище – могильщики черпаком выкачивали воду. И в эту лужу, шлепая и плеская, опускается гроб с полуразложившимся телом. Мокрыми комьями засыпают шестигранник с трупом, буквально грязью заваливают. «Кладбища наши весьма необдуманно расположены в местах болотистых», – вдруг вспомнилась ему фраза из описания столичного града империи, которую он намеревался поставить эпиграфом к одному фантастическому рассказу.
Вдоль колоннады, об руку с рыжекудрой Корой, выступал с павлиньей гордостью франкфуртский банкир. Несмотря на неизменную брезгливую складку у губ, он выглядел победителем. Торжественно и тучно опустился он на стул у одного из столиков. Мягко прошуршал кринолин знаменитой куртизанки. Кельнер уже откупоривал бутылку в белой салфетке и наполнял из золотого горла вином и пеной бокал завоевателя.
«И так каждый вечер. Где-то там, во Франкфурте, кассы ломятся от золота, а он неутомимо и упорно ежедневно набивает свой бумажник ставками неудачников… Что ему эти тысячи, сотни? Лишний подарок Коре Перль? Так ведь и без того хватит ему на подарки всем висбаденским бишам и парижским камелиям… А ведь рядом гибнет огромный замысел, срывается труд, нужный людям, заглушается навсегда, умирает неведомая новая истина. (В нем поднималась острая ненависть к банкирам, ростовщикам, всем этим расчетливым капиталистам, Ротшильдам, Гоппе и Комп.) Так неужели же правда в том, чтобы я вышел из жизни и унес с собой эти безмерные замыслы, а этот хищник, хитросплетенными операциями высасывающий все соки у своих бессильных клиентов, продолжал бы блаженствовать в обществе первых красавиц? Самоубийство или убийство? Что здесь справедливее? Убить себя или его? Быть может, Ласенер был прав?..»
Он вздрогнул.
Нечего ставить такие вопросы. Все равно не посмеешь… В страсти труслив и беспомощен, в борьбе робок и жалок.
Мастера жизни не так делали. Они сотнями тысяч голов, как по шахматной доске, ходили… Далеко тебе до этих могучих преобразователей человечества, омывающих потоками крови новый закон!.. Проверяющих свою гениальность убийством. Блюхер, Веллингтон, Бисмарк… Пирамиды, Кремль, Ватерлоо…
И вдруг перед ним с мучительной ясностью выступил образ неведомой драмы: гениальный юноша, понявший, что высшие героические натуры получают право переступить через запрет кровопролития во имя осуществления великого замысла и раскрытия человечеству новых путей для всеобщего счастья. Убийство дряхлого мандарина во имя торжества неведомой, могучей мысли… Какой замысел для романа с кровоточащими страницами преступлений и головокружительными взлетами гениальных умозрений!..
Юный философ с окровавленными руками…
Шуршание шелка где-то рядом, совсем близко, вывело его из глубокого раздумья. На соседний стул у его столика грациозно и медленно опускалась, блистая в зеленоватом излучении газа золотом своей прически, Селеста Могадор. Она не улыбалась и не дразнила взглядом. Она смотрела на него с участием.
– Вы так взволнованы, что разговариваете сами с собою и даже жестикулируете. Полно! Проигрались – что за беда? Из этого всегда можно найти выход…
Неожиданный привет тронул его. Он ответил благодарным взглядом.
– К сожалению, не для меня. Отыграться я уже не могу. Ростовщики заедят меня…
– Вы можете отыграться. (Он покачал головою.) Я знаю здесь одну безошибочную предсказательницу. Она сообщит вам верную систему. Заложите ваши часы – и вы сегодня же отыграетесь.
Предсказательница? Достоевский вздрогнул. Он верил в чутье ясновидящих и даже хаживал в прежние времена к гадалкам. В Семипалатинске, в самый разгар романа с Машей, ходил к древней старухе, гадавшей на бобах. Узнавал, не слабеет ли чувство к нему его милой, не угрожает ли измена?
– Предсказательница выигрыша? Что ж, прекрасно. Верю… Хочу верить! Ведите меня к ней.
Вундерфрау
– Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш единственный исход и спасение? – спросила она насмешливо. Я отвечал очень серьезно, что да…
«Игрок»
Она быстрыми легкими шагами повела его за собою. Прошли колоннаду, клумбы, фонтаны, вышли на театральную площадь. В отсветах огромных окон поблескивал бронзой плаща на высоком цоколе кудрявый певец «Дон Карлоса».
«А, прекрасное и высокое? Поборник чистого разума, жрец духовной свободы – так, кажется, говорил о тебе этот чахоточный энтузиаст с Лиговки? – Так это ты – враг костров и бичей, разделяющих людей и заставляющих их забывать, что они братья друг другу? Гляди, гляди в эти окна игорного притона, учись всечеловеческой любви в этой фабрике самоубийц, лови здесь всемирное лобзание…»
Он гневно сжал кулаки, но быстро опустил их в карманы. Бронзовый Шиллер, вздымая орлиную голову, продолжал с восторженной думой, слегка улыбаясь, смотреть на темную листву курортного парка.
Спутница ускорила шаг. Они прошли каштановую аллею, торговую площадь, узенькие извилистые переулки, ведущие к синагоге. В одном из них остановились у темного старинного дома с нависающими этажами и высокой черепичной кровлей. «Как на эстампах в биографиях Шиллера», – вспыхнуло зарницей воспоминание. Расшатанной и скрипучей лестницей поднялись на третий этаж. Долго стучали бронзовым молотком в медную дощечку. Наконец после продолжительных расспросов сквозь закрытую дверь и прерывистое мелькание света в дверном глазке зазвенели ключи, заверещал запор, их впустили.
Нагоревшая свеча в плоском шандале еле давала возможность рассмотреть жилье и его обитательницу. Только в третьей комнате сгорбленная хозяйка выпрямилась, зажгла канделябр и усадила посетителей.
Это была женщина лет шестидесяти, с дряблыми, висячими щеками, увядшим кадыком и болезненно опущенными веками. Она причесывалась по моде тридцатых годов – с гладким пробором и гребнем. «Совсем тетка Куманина невестой…» Видимо, она хорошо знала Селесту Могадор и относилась к ней с полным доверием.
Та быстро изложила дело, отрекомендовала господина иностранца и предложила в залог его золотые часы.
– Вам известны мои условия? – чуть приподняла веки и даже слегка запрокинув голову, чтоб взглянуть на посетителя, произнесла деловым тоном пророчица из Юденгассе, беглым и уверенным взглядом осмотрев и оценив часы.
– Кажется, не вполне…
– Итак, я берусь сообщить вам безошибочную систему выигрыша некоторой суммы. Строго следуя моим указаниям, вы можете сегодня же отыграться и заработать себе на отъезд вполне приличный капиталец. Я выдам вам сейчас сверх того одну тысячу гульденов в кредитных билетах герцогского банка – под залог этой суммы я и согласна принять ваш полухронометр – и словесно десять процентов с вашего чистого выигрыша по собственному вашему заявлению. Как видите, я широко доверяю вам, – скривила она свой увядший рот ужасающей усмешкой любезности. – Вы обязуетесь только распиской уплатить мне три тысячи золотом не позже пятнадцатого.
Он нервно кивнул головой.
– Эти условия для меня приемлемы.
– В таком случае, пишите расписку.
Она пододвинула к нему чернильницу.
– Ваш точный адрес, прошу вас, отель, номер комнаты…
– Быть может, мою профессию и семейное положение?
В нем начинало подниматься раздражение. Еще немного, и оно зальет его волной возмущения. Он бросит все и уйдет – и будь что будет, хоть гибель…
Было душно и тягостно. Зарницы раздирали небо и трепыхались где-то за Рейном. Видимо, надвигалась гроза…
«Как бы не приключилось припадка», – думал он, пока старуха, любезно отклонив его сарказм, протягивала ему листок вексельной бумаги:
«Я, нижеподписавшийся, Теодор (вот еще выдумали парикмахерское имя!) Достоевский (дубль-ве, ипсилон… черт), обязуюсь…»
Между тем, старуха тщательно просматривала какие-то записки, таблицы, схемы разграфленных цифр. Она что-то соображала, постукивала пальцами по столу и даже шевелила губами.
– Итак, майн герр, – она в одно мгновение проверила расписку и энергично промокнула ее, – совершенно правильно! – Итак, по сводкам последней недели, в том числе и вчерашнего дня, на сегодняшний вечер следует ждать – на крайнем левом столе центрального зала – перевеса черной, нечетной и пасса. Держитесь этих обозначений. Зеро выходил довольно часто и, стало быть, истощил себя. Хотя по статистике он и выходит каждые тридцать ударов, все же не рискуйте сегодня ставить на него. Избегайте также цифр: девять, семнадцать, восемнадцать, двадцать три и тридцать один, – быстро просматривала она таблички, – напротив, смело ставьте на семь, двадцать восемь и тридцать шесть – за ними огромное количество шансов. Впрочем, будьте осторожны и не очень возвышайте ставку… Это – текущая практика. Что же касается принципа…
– «Тройка, семерка, туз», – начинало стучать в виски назойливо и мучительно. Курортная пиковая дама! Зловещая старуха, открывающая тайну выигрыша… Уж не было ли у нее своего Сен-Жермена и Калиостро? Уж не суждено ли мне сойти с ума? Герман без пистолета…
Становилось невыносимо душно. Кровь пульсировала в виски: семь, двадцать восемь, тридцать шесть…
– Что же касается принципа, то я сообщу вам один из самых верных способов приобрести не очень головокружительную, но весьма приятную сумму. Особенно если вы не хотите рисковать преследованием всегда неверного номера. Вас устраивают двадцать – двадцать пять тысяч?.. В таком случае рекомендую вам выждать серию, скажем, красных пять раз подряд. Тогда ставьте на черную один фридрихсдор. Если снова выпадет красная – два золотых на черную. И так далее, пока хватит ваших ресурсов. Серия обыкновенно прекращается на шестом, седьмом ударе, вы же пять пропускаете и только с шестого начнете играть, вы можете выдержать десять, двенадцать ударов. Этим путем, не отклоняясь ни на йоту от принятого принципа, не увлекаясь и не повышая ставок, строго держась поставленных границ, вы несомненно и безусловно выиграете в несколько вечеров нужную вам сумму.
Он быстро записывал указания предсказательницы в свой блокнот рядом с перечнем припадков за последнее полугодие, режимом доктора Труссо и косо занесенной на поля неожиданной записью: «Большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы».
– Но помните – спокойствие, обдуманность, внимание и непреклонная верность принципу.
С легким звоном массивной цепи она опустила часы в ящик и защелкнула замок. Из соседней комнаты она вынесла пачку кредитных билетов, заклеенных бандеролью.
Через двадцать минут он снова был в курзале.
Било десять. Оставалось еще три часа до закрытия казино. Он подошел к крайнему столу слева, развернул записную книжку и бросил на стол свою пачку. «Сядьте рядом со мной, – почти шепотом произнес Селесте, – я верю, вы принесете мне счастье…»
Серия шла. Три, четыре… пять черных. Десять гульденов на красную! Шарик заметался, прострекотал и с тонким коротеньким звоном упал на металлический диск. – «Руж, месье!» Он продолжал. Случай подчинялся расчету, фридрихсдоры росли. Набрав солидную кучу, бросил два червонца на номера. Снова шла для него полоса удач. Он смелее стал разбрасывать деньги, избегая отвергнутые цифры. Хрупкая линия счастья держалась. «Последние три удара, месье!» Три заключительных спокойных хода (проиграться уже он не мог), и, выходя из казино, он неловко и суетливо раскладывал по карманам пачки кредиток и свертки золота.






