Бархатный диктатор (сборник) Гроссман Леонид
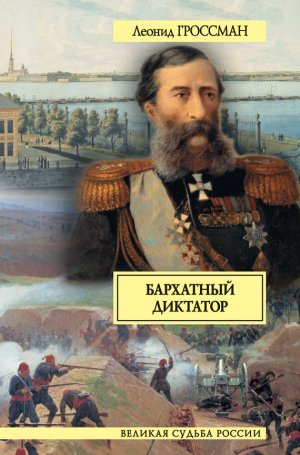
* * *
На днях в Висбадене, набрасывая отдельные эпизоды и сценки для своего будущего романа о «пьяненьких», он вспомнил одну такую давнюю беседу. Как-то летом в Парголове к нему подошел отставной чиновник, видно из писарей, горький пропойца, пухлый, облезлый, в ободранном сивом мундирчике, почти без сапог. От него несло сивухой. С вычурными жестами, страстно прижимая руку к сердцу и эффектно откидывая фуражку, с расшаркиваниями и широкими кавалерственными поклонами, льстя слушателю и стремясь себя поднять на степень высокой добропорядочности, фиглярничая и вдруг спадая с этого театрально приподнятого тона в откровенное жалобное попрошайничанье, он стал витиеватым языком излагать Достоевскому, быть может, преувеличивая и клевеща на себя, ужасающую повесть падений и низостей. И вдруг, с мелким, дребезжащим хихиканьем, обнажая остатки выщербленных черных зубов, лукаво и мерзко подмигивая, он дрожащими руками стал отстегивать у пояса ремешок.
– Да что вы это?
– А посечь себя предлагаю, милостивый государь, недорого, право. Всего рубль серебром – и всласть, сколько душе угодно, хоть колючими прутьями, согласен, извольте… Секите вовсю! Заслужил. Достоин. Аксиос! Казните, казните нечестивца…
Достоевский в ужасе оглядывал пьяного.
– Страшитесь? Гнушаетесь? Полноте – дело житейское! Кому же не лестно посечь своего ближнего? Ведь не у всякого же собственные ревизские души, да конюшни, да старосты… А ведь каждому пытка над ближним сладостна, слаже сладчайшей похоти… Вот и нужны вольнонаемные… для истязания… Рубль серебром уплатил и наслаждайся, и хлещи до бесчувствия! На прошлой неделе отставной полковник Словоерсов, – не изволите знать? – дал заработать зелененькую.
Достоевский вынул деньги.
– Я еще соберу вам среди знакомых, чтоб вам не приходись прибегать к этому… способу… (Он еле пересиливал-подступающее отвращение.)
– Презирать изволите? – не без ехидства спросил чиновник быстро пряча кредитку в карман. – Что же, ваше право… Да только напрасно лишаете меня заслуженной кары, публичной казни, всесветного пригвождения к позорному столбу! Этим грехи искупаю, и в этом, сударь, есть еще капля меду для души моей изъязвленной… Казнью великой, позором питаю ненасытную гложущую совесть.
Он снова запрятал клочья грязного белья и затянул ремешок под ужасной жилеткой. Глаза опять лукаво поблескивали из-под вспухших багровых век.
– А ведь верно уж мыслите: «Ишь шельмец, недурно придумал: и покаянье публичное и тут же барыш. И спасенье души и прирост капитала». Ведь так, – не может ведь быть, чтобы так не изволили думать?..
И заливаясь мелким, издевательски хитрым смешком, он уж без всяких приличий, с циничной бесцеремонностью хлопнул коротким шлепком собеседника по плечу и опустился на скамью. Достоевский невольно отшатнулся. Это неожиданно поразило старика – мрачное раздумье нашло на него. Он заговорил надрывно и выспренне:
– Да, милостивый государь мой, была в мире однажды грозная казнь. Гора – и на ней лобное место. И повисли на древе три пригвожденных тела. И три дня и три ночи висели, корчась и мучась, и века, и тысячелетья помним об этой трехдневной муке, и поем о ней хорами церковными, и вещаем проповедями с амвонов, и гласим медными языками колоколен… Я же, грешный, ежедневно, вот уже семь лет, со дня праведной смерти супруги моей, всхожу на свою плаху, и не трое суток, а две тысячи дней, пригвожденный к участи своей позорной, медленно корчусь в мучениях несказанных. Легко ли, вникните, ежедневно умирать от отчаяния и все же не умереть? Кажется, испил уже до дна чашу, а дно все уходит, и снова до краев полна чаша горечи неизреченной… Господи, когда же конец моей муке безмерной?..
Через двадцать лет беседа эта вспомнилась Достоевскому в тесном нумере отеля «Виктория» над листами первых набросков к задуманному роману. По обыкновению он стал свободно разрабатывать воспоминание, как бы выполняя вольные и широкие вариации на случайную тему, подлинного жизненного эпизода. Давнишний пьяный разговор, быть может, любопытный для наблюдателя столичных трущоб, для автора физиологических очерков, разрастался теперь под его пером в щемящий монолог какой-то безвестной современной трагедии, где сквозь выспренность славянизмов и торжественность церковных текстов проглядывала гнетущая и отталкивающая история падений, пороков и несчастий…
* * *
Достоевскому запомнились навсегда иные посетители «Кытая». Они жили в памяти, дремлющие, но готовые воспрянуть по первому вызову, как наброски и эскизы из подготовительных тетрадей художника, выступающие во всей полноте и свежести красок в окончательной группировке картины. Он словно берег их для какого-то большого будущего полотна…
Но Бутков водил его не только в перекусочные подвалы и кухмистерские. Они бродили по окраинам, мимо огромных фабричных зданий, уродливых, почернелых, с длинными трубами. Они скитались по трущобам, по бедным углам, по ночлежным приютам, заходили в знаменитую Сухаревскую лавру, в извозчичьи заведения, бродили по большим доходным домам, густо заселенным всяким ремесленным людом. Из надворных флигелей, занятых медниками и башмачниками, неслись в тесный двор заунывные и отчаянные песни под беспрерывное постукивание и поколачивание. Ему навсегда запомнились эти узкие и глубокие дворы с проломанными вывесками лудильщиков, гробовщиков, повивальных бабок и кухмистеров; на гнутой заржавленной жести – ножницы, окорок в лаврах, гражданский мундир. И тут же вывалившиеся кирпичи, низкие окошки с прогнившими рамами, подворотные подвалы с прокисшим и протухший воздухом. Здесь – на Песках, у Садовой, в округе Вознесенского проспекта, в этих серединных улицах и переулках столицы, кишащих полуголодным цеховым населением, отставными солдатами и пьяными женщинами, он видел каморки, высокие и узкие, как шкаф, длинные и низкие, как гроб, заплесневелые и темные, как колодец. Иное жилое помещение было образовано нелепейшим пересечением стен, образуя неправильный и несуразный многогранник с убегающим в сырость и мрак ужасающим острым углом, где, казалось, только и можно что повеситься.
К этим ужасающим трущобам вели грязные, затхлые лестницы с бездной всякого жилецкого хлама на всех поворотах, со скользкими ступенями, облитыми помоями, покрытыми отбросами кухонь, яичной скорлупой, раздавленными потрохами, обрывками кишок. Казалось, сама жизнь и мысль, и душа человеческая здесь были искажены и обезображены, как эти кривые закоулки и смрадные ходы.
Он и на улицах стал замечать какие-то новые лица, фигуры. Потертые, порыжелые шинели и салопы, костыли, деревяшки. Обширное столичное сословие, вышедшее на свой промысел – собирать христарадные гроши. Чем-то были они в Петербурге страшнее калек и убогих с Божедомки. Раз как-то у Глазова кабака на Лиговке он увидел бледную, тощую девочку… Подняв закутанную холщовою тряпкой голову прямо к солнцу, она молча, с тупою покорностью держала в руке рваный картуз, лишь по временам чуть-чуть встряхивая им без слов, без просьб, без причитаний. Как могла она так упорно часами смотреть на солнце? Подойдя к ней, он понял: она обращала к небу пустые глазницы, с вытекшими яблоками, с провалившимися веками в струпьях, подтеках и запекшемся гное. Ей чем-то выжгли глаза… А вздернутый носик и бледные щеки как-то жалко тянулись к скудным и бледным лучам петербургского солнца.
Так раскрывался ему в нищете, болезнях и грязи весь мир столичных отверженцев. Он знал: когда-нибудь он покажет его целиком в одной гневной и скорбной книге со всеми его язвами: пьянством, чахоткой, проституцией, худосочными детьми, хиреющими женщинами, спившимися старцами, но одновременно и с его великими пролетами в будущее – с этими неведомыми юношами, бросающими с высоты затхлых чердаков всему благополучному человечеству свои сокрушительные и взрывчатые замыслы, которым суждено круто менять на ходу вековое направление истории.
Современная история
Кстати, получаете ли вы какие-нибудь газеты? Читайте ради бога, нынче нельзя иначе, не для моды, а для того, что видимая связь всех дел, общих и частных, становится все сильнее и явственнее.
Письмо к С. А. Ивановой
Обелиск вонзался в небо. Чехол лежал у цоколя. Оркестры играли марш. Трибуны пустели. Горожане и обитатели лечебного места, возблагодарив творца за посрамление Наполеона и умилившись героизмом бесстрашных нассаусцев, освободивших Европу от Бонапарта, нарядною и чинною толпою понемногу оставляли площадь.
Шурша воздушной бронзой своего одеяния, мимо него легко и величаво прошла Селеста Могадор, облив его призывным и насмешливым взглядом своих газельих глаз.
Он зашел в кафе Кристман. Здесь можно было читать за общим столом газеты, не заказывая порции. Он решил на голодный желудок развлечься политическими известиями. Мраморный столик был усыпан листами газет, прикрепленными к древкам – бумажные знамена партий, сословий, правительств, банков и фирм. Он пристрастился к чтению этих печатных флажков всех цветов и оттенков еще в петербургских кофейнях. Он любил в те дни откладывать у своей кружки пива целый сноп этих печатных штандартов с их курьезами и сенсациями: «В Париже новый вид вальса с шампанским. Танцор с наполненным бокалом должен проделать свой тур, не пролив ни капли вина…»
С тех пор, правда, темы изменились. Европа после 1848 года не переставала метаться и лихорадить. Каждый день приносил новую тревогу, возвещал новую опасность. Прусский министр-президент держал настороже все правительства и штабы. Что нового приносит сегодняшняя жатва этих легких, хрупких, тряпичных листов, покрытых густой сетью тонкого набора с его паутинным обличьем и взрывчатым смыслом?
Он берет со стола пачку знакомых органов. «Газета прений», «Бельгийская независимость», «Новая свободная печать», «Крестовая газета», «Голос», «Петербургские ведомости»… Он предчувствует легкое и волнующее наслаждение от просмотра этих высоких и тесных столбцов, прорезанных жирными заголовками и отмеченных точными датами телеграфных отправлений. Из мелькающих фактов, эпизодов, событий, министерских совещаний, королевских маневров, морских празднеств, высочайших наград, стройки новых крепостей, спуска новых броненосцев, убийств, приговоров и казней, из биржевых сводок, статистики самоубийств, судебных отчетов и полицейской хроники, – из всех этих толков, слухов и происшествий постепенно, мучительно и медленно, словно с острою гримасою боли, тщательно скрытой под маской казенной учтивости, выступало лицо сегодняшнего человечества, очерчивался неуловимый облик протекающего часа мировой истории. Тонкие листки убористой печати, казалось, фиксировали поворот нашей планеты в этот жаркий августовский день года от Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят пятого.
Но в мире было тихо, или казалось, что царила тишина. «Политика везде отдыхает», – сообщали публицисты. «Все парламенты закрыты, государи большей частью выехали из своих столиц, министры на водах, но европейская жизнь все же полна животрепещущих новостей». И газеты резво и бойко сообщали, что Аделина Патти выходит замуж, в Петербурге дозволено курить табак на улицах, прусский король со свитой выехал из Зальцбурга в Гастейн, а Оффенбах пишет новую комическую оперу на сюжет Мольера. Он быстро просматривал заголовки и конспекты фельетонов: «Зонтик императора Наполеона в Пломбьере», «Письмо Прудона к наезднице цирка», «Космополитический ресторан на Парижской всемирной выставке», «Параллель между господином Бисмарком и примадонной Луккой»… Так вот они, эти животрепещущие новости! Создали же эпитет! Вероятно, в надежде, что петербургский читатель так и затрепещет от известия, что Женни Линд едет в Лондон…
Больше всего газеты шумели о всемогущем прусском министре-президенте: чувствовалось, что именно он сосредоточил в своих руках все судьбы текущей европейской политики. Корреспонденты немецких газет сообщали, что король решил даровать ему графский титул. Французские журналисты оповещали о предстоящем свидании Луи-Наполеона с прусским премьером в Биаррице. Парижские иллюстрации помещали портреты господина фон Бисмарка-Шенгаузена: крупное лицо с тяжелым подбородком, узкими и пронзительными глазами, жесткой тенью усов. Вот кто отторгнул Шлезвиг-Гольштейн от Дании, вызывающе соперничает с Австрией, ненавидит Польшу, угрожает императорской Франции.
Достоевский задумался. Газетная иллюстрация напомнила ему одну встречу. Не так давно, года три назад, утомленный и доведенный почти до обморока ночной работой, он с легким головокружением бродил весенним ветреным утром по улицам и площадям Петербурга. На набережной возле здания прусского посольства теснились кучки зевак. Пять карет стояло у подъезда. Несколько конных стражников гарцевало на мостовой. В чем дело? Отъезд прусского посланника на родину. В толпе гуторили: «Говорят – с важными поручениями от государя. Довольно интриговать Англии с Францией». Толки смолкли. Со ступеней подъезда в сопровождении своей свиты сходил весь в черном бритый широкоплечий гигант с густыми взъерошенными бровями, светло-рыжими и пышными усами, острым взглядом насмешливых глаз и бодрым выражением крепкого круглого лица, в двух-трех местах изрезанного веселыми шрамами немецкого бурша. Широкий, несколько плоский нос, могучая, но короткая шея вместе с тяжелой энергией черт придавали его облику львиное выражение. Весеннее пальто сидело на нем, как панцирь, нарядная трость в его руке казалась фельдмаршальским жезлом, преображенным в невинную подробность ежедневного костюма, и четким жестом командира он, отвечая на поклоны, любезно поднимал к сверкающей башенке своего цилиндра плотную перчатку с тремя густыми артериями черных шнуров. Так вот он, любимец Николая I, друг Горчакова, враг Франции, восходящее светило европейской дипломатии, беззаконная комета новой политики, господин фон Бисмарк-Шенгаузен, «бешеный Бисмарк», «лучший ученик Маккиавели», о котором начинают с благоговейным любопытством говорить во всех посольствах, министерствах, парламентах и редакциях. Со времени Крымской кампании, когда он удержал Пруссию от присоединения к союзникам, он приобрел европейскую известность и огромный вес в Петербурге. Его меткие политические афоризмы уже стали достоянием международной прессы, а в журналах и публике стали слагаться о нем остроумные и забавные анекдоты. Через три месяца он произнес свою знаменитую фразу, облетевшую грозным предвестьем всю Европу: «Не речами и не постановлениями большинства разрешатся великие вопросы нашей эпохи, а железом и кровью».
Незадолго перед тем в «Голосе» была напечатана большая статья о прусском после. Газетчик переплел в ней почтительную информацию министерства с живыми эпизодами политической биографии, любезно сообщенными секретариатом берлинской миссии для вящей популярности ее главы. Петербургские читатели могли узнать, что прусский представитель – несравненный фехтовальщик, наездник, пловец, охотник, дуэлист, страстный путешественник, знаток и поклонник чуждых расовых кровей, любитель шампанского, портвейна и сигар. Он известен также как почитатель Спинозы, Библии и Шекспира. Императрица Евгения признала его самым блестящим собеседником в Париже. Его разительные сарказмы доставили ему прозвище европейского Мефистофеля. Он славится новым, неслыханным методом ведения дипломатических переговоров – ошеломляющей откровенностью, требующей от политика максимальной умственной изощренности и присутствия духа.
Уверенность в силах и воля к власти, казалось, рвались из каждой поры его лица. И утомленный петербургский литератор, больной, загнанный нуждою и невзгодами, только что оставивший постель чахоточной жены, с изумлением и невольным восхищением смотрел на этого колосса в черном пальто, небрежно и легко опускавшего свое грузное тело на стеганые подушки открытого экипажа. Казалось, живой монумент, крепко сплавленный и мощно отточенный, прихотливо воздвиг себя в открытой коляске, любезно и мерно кивая, подобно Каменному гостю, своей пудовой головою.
Это был один из той расы людей, на которых не тело, а бронза. Это они ставят батареи поперек улиц, играют великими армиями, перекраивают карты материков, разламывают государства и строят империи. Они бестрепетно шагают через потоки крови и пирамиды человеческих голов во имя сильной власти и новой, могучей организации народов. И глубокое преклонение перед этими законодателями и строителями человечества снова поднимало в его душе великие исторические вопросы о достижении железом и кровью золотого века и всеобщего счастья…
* * *
Но столбцы газет не давали возможности долго обдумывать возникающие проблемы. Они звали к новым событиям и фактам, вопросам и сообщениям. Он пробегал глазами объявления, стремясь здесь зацепиться за какой-то еле видимый штрих, незаметный факт, бытовую черточку, за которыми скрываются подчас истоки страстей, событий, борьбы, преступлений. Но и здесь все казалось благополучным.
...
Титулярная советница О. Е. Захарова ссужает деньги под залог золотых, серебряных и иных вещей с вычетом, законных процентов за месяц вперед.
Он задумался. Невидимо нащупывалась пружина для завязки романа. Кто такая эта О. Е. Захарова? Старая ростовщица из разряда петербургских салопниц, копит деньги, обирая всех нуждающихся в них, жизнеспособных, юных и сильных. Паук благоденствует, великие замыслы гибнут… Взгляд его как раз упал на стенографический отчет полевого военного суда над купеческим сыном Герасимом Чистовым, убившим топором двух женщин и похитившим имущества и денег на сумму 11 260 рублей.
...
Чистова изобличают в убийстве двух старух. Орудие, которым это преступление совершено, – пропавший топор, чрезвычайно острый, насаженный на короткую ручку, удобный для совершения убийства.
Мысли роились, слагались кровавые сцены, из столбцов «Московских ведомостей» вырастали заманчивые и опасные ситуации.
Но вот, наконец, крупное событие и в политической сфере: «Казнь сообщников Бута, убийцы президента Линкольна».
Газета вкратце напоминала о событии: 9 апреля 1865 года закончилась война Северных и Южных штатов, а 14 апреля президент Авраам Линкольн был убит из пистолета в театре в Вашингтоне бывшим актером Уильксом Бутом. Из ложи президента Бут, соскочив на сцену, закричал: «Свобода! Юг отомщен!» Вскоре он был убит солдатами.
Актер, ставший политическим убийцей. Трагик, взявший на себя осуществление террористического акта. В таких фигурах есть нечто привлекательное. Убийца Линкольна – сын знаменитого актера Люция-Юния Бута, соперника Эдмунда Кина. И сам Бут-младший готовился стать великим артистом. Он потряс в Нью-Йорке театр исполнением Ричарда III. Журналисты много писали о том, с какой потрясающей силой он в сцене битвы сорвал со стены две шпаги. Но и в жизни был он бойцом шекспировского размаха. Исступленный приверженец Юга, он составил заговор для умерщвления президента и статс-секретаря. Первое убийство он взял на себя и осуществил его с поразительным хладнокровием и ловкостью. С пистолетом в одной руке и кинжалом в другой он притаился в двойной ложе президента. В одно мгновение план был осуществлен.
Убийство лиц, стоявших у власти… Парижские газеты с возмущением вспоминали три покушения на императора французов – снаряды и выстрелы Пионори, Белламаре и Орсини. Убийство суверенов – это все та же вечная проблема: право на смерть ничтожных, но захвативших в свои руки власть, во имя блага всех подавленных и поверженных, молча таящих, быть может, великие скрытые силы. Право на кровь во имя всеобщего блага!
Кодексы были неумолимы.
Процесс сообщников Бута отличался крайней строгостью, а приговор беспощадностью. Все подсудимые осуждены. Соучастники убийцы – Пейн, Гарольд, Ацерот, так же как госпожа Сорат, укрывшая их, приговорены к виселице. Даже доктор Мод, перевязавший ногу Бута, присужден к пожизненному тюремному заключению.
Приговор взбудоражил общественное мнение в Соединенных Штатах. Газеты сообщали:
...
Общее мнение, что госпожу Сорат, как женщину, вешать гнусно… Усилия колумбийского верховного суда спасти ее от казни оказались тщетны. Президент Джонсон отказал во всех просьбах и назначил день публичной казни. Во дворе арсенала был воздвигнут эшафот. Пасторы прочли осужденным напутственные молитвы. После этого приговоренных подняли со стульев и повели под петли. Им связали руки и ноги белым полотном. Ацерот весь дрожал, Гарольд глядел бессмысленно, госпожа Сорат была бледна, но, по-видимому, спокойна. Пейн продолжал глядеть на плывшие по небу облака…
На шеи осужденных накинули петли. Пейн грациозно наклонил при этом голову.
После того им накинули на головы особенные колпаки, закрывшие лицо. В это время Ацерот стал кричать: «Джентльмены, помогите!»
Ровно в половине второго роковая доска, поддерживавшая осужденных, упала, и они повисли.
Госпожа Сорат повисла сразу и осталась без движения. Ацерот бился довольно долго. Гарольд, по-видимому, силился выпутаться из петли, Пейна корчили медленные судороги, сгибавшие все его тело…
Казненные провисели уже шесть минут, как вдруг в теле Пейна обнаружились снова спазматические судороги, он все еще не умер.
«Если убийцу уже необходимо казнить смертью, – замечал корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд», – если этого действительно требует общественная безопасность, то для чести цивилизации следовало бы придумать более мгновенную и не столь ужасную смерть…»
Перед глазами белое полотно, которым связывали руки и ноги приговоренных. Белое полотно, цвет невинности, знак незапятнанности, приданое невест, одеяние медиков, ряса бенедиктинцев, мантия папы римского. Белое полотно… Саваны, колпаки, надвинутые на глаза, руки, скрученные канатами…
Да, так было в один морозный и снежный день на огромной, унылой и белой площади, перед сомкнутым строем войск, собранных на место казни.
* * *
Это было 22 декабря 1849 года в восьмом часу утра.
Черная карета подвезла его к неведомому месту. «Выходите», – сказал солдат, сидевший с ним рядом.
Он вышел и увидел их всех… Эшафот чернел на снежной поляне огромного плаца, а у самого вала, дико обросший, с взъерошенной гривой, в легком весеннем плаще и без шапки стоял Петрашевский.
Итальянчик Антонелли
…он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек, для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наклонностям…
«Записки из Мертвого Дома»
Он следил за ведомостями. У Вольфа и Беранже, у Излера и Доминика, во всех кофейнях и ресторациях на Невском, получались немецкие, польские, даже французские листки. Он мог, не читая, отбрасывать «Инвалид», закапанный ликерами отставных гвардейцев, и бегло пробегать «Пчелку», всю залитую шоколадом департаментских юнцов. «Газета прений» сообщала ему все политические известия. За чашкою кофе, за тарелкою бульона узнавал он о всех треволнениях в Париже, Берлине и Вене.
В тот день, зайдя пообедать в известный трактир у Полицейского моста, он с жадностью прочитывал сообщение о восстании в Генуе. Революция в Италии продолжалась. Правительственные войска отступили перед народной гвардией инсургентов, занявших три главных форта городских укреплений. Новый отряд королевских войск под начальством генерала Ла-Мармора начинал вытеснять вооруженные отряды мятежника Авеццаны. Достоевский с волнением следил по телеграфическим депешам за этой отчаянной борьбой старой власти с народной революцией.
Вдруг овладело им неприятное ощущение, – словно стеснение какое-то, как-то не по себе, неудобно и даже тревожно стало, словно что-то хотелось с себя сбросить, как гусеницу, проползающую по шее. Он сделал невольное движение, приподнял глаза, и… все разъяснилось.
Прямо напротив, за тем же столом, не читая и даже не завтракая, неподвижно и очень прямо сидел перед ним в красном своем плюшевом жилете с широчайшими отворотами «а la юная Франция», с пышным у горла фуляром модного цвета апельсинной корки и крупными перстнями (тонкие профили женщин в агате и яшме, подернутых жилками) беспокойный и странный гость Петрашевского, сожитель этого безбожника Феликса Толля, бывший филолог, теперь канцелярский чиновник – Петр Дмитриевич Антонелли.
Низкий, заросший и поразительно плоский лоб лоснился, как масленка фонарщика, а пухлая и влажная нижняя губа, тяжело отвисая, придавала лицу его алчный, почти ростовщичий вид. Не мигая смотрел он на Достоевского, но, заметив его удивление, преобразился, нагнулся, расплылся улыбкой, салютовал взмахом руки, и, сияя вспотевшим лицом, наклонился к столу, пробегая мышьими глазками по газетным столбцам.
– Интересуетесь бунтами на Западе? Генуэзским восстанием? Следите за европейской революцией?
И носом своим, острым и длинным, как бритва, уткнулся в шуршащий инфолио газеты.
– А с чего вы заключаете? – равнодушно уронил Достоевский. – В газете ведь много статей…
– Да вижу, вижу, что привлекает ваш взгляд. Вон – бульвар итальянской демагогии, – придумывает же Булгарин политические прозвания! – триумвират головорезов, республика контрабандистов. (Он суетливо и быстро бегал глазами по столбцам.) «Маццинисты вооружают каторжников и уголовных преступников…» (Он понизил голос.) Вот вам петербургская полицейская оценка великой итальянской революции…
– Великой? Но мне кажется, в событьях последнего года Италия не на первом плане…
– Ошибаетесь… Эй, мальчик, горькой водки и пару слоеных – послаще! (Тяжелая длинная капля повисла и упала с припухлой губы.) Есть только два решения социального вопроса в Европе, и оба, заметьте, ведут на мою родину.
– Каким же это образом?
– Только Италия может предложить миру новые союзы из испытанных старых объединений. Всю теперешнюю политическую смуту разрешит папа…
– Кто?
– Его святейшество Пий Девятый. Он предложит бунтующим массам всемирную организацию католической церкви. Вы соображаете? Ватикан приложит свой опыт объединения миллионов и всемирного владычества над ними к делу мировой революции. Я спрашиваю вас, – кто тогда устоит на троне из всех королей обоих полушарий?
– Мне кажется, вы, Антонелли, рассуждаете, как католик…
– Нисколько. Я говорю от имени всех наций, всех бедняков, всех работников, всех оборванцев, всех лаццарони мира! К ним-то и обратится с протянутой рукой глава католической церкви.
– Однако первый вольнолюбивый папа бежал из Папской области от возмущения римской бедноты.
Антонелли ответил не сразу. Он посматривал куда-то вбок. У стойки появилась буфетчица, полная, откормленная, блистающая сытостью, довольная и здоровая, как огромный, разжиревший сверкающий кот, с надменной безмятежностью присевший на край прилавка. Мышьи глазки Антонелли задержались довольно долго на полновесном торсе хозяйки, пока тяжелая губа его отвисала все ниже, заметно увлажняясь и подрагивая.
«Э, да ты, видно, действительно падок на сладкое», – подумалось Достоевскому. Вспомнился особый петербургский тип: любители кондитерских и Мещанских, способные на все ради удовлетворения грубейших плоских наклонностей.
– Папа скоро вернется в Квиринал, вот увидите (Антонелли опрокинул рюмку и прожевывал пирожок), уже по всей Италии составляются петиции…
– Он вернется для борьбы с мятежом.
– Рано или поздно он примкнет к революции. Я говорю вам о неизбежном мировом движении. Папа благословит толпы на последнюю победу. Кардиналы, епископы и пресвитеры поведут во всех столицах блузников и чернь на баррикады. Конклавы изберут советы верховных комиссаров, конгрегации и консистории превратятся в народные трибуналы. Смертные приговоры будут ссылаться на латынь евангельских текстов, гильотина воздвигнется на папертях костелов, потоки крови прольются именем Христа. И весь мир окутает единая несокрушимая организация римского первосвященника, ставшего диктатором мировой революции…
– Какая странная фантазия, – удивленно произнес Достоевский, внимательно всматриваясь в своего собеседника.
– А разве Фурье не фантазия? или Кабэ? А Прудон или Консидеран? Согласитесь, что у всех установителей земного рая воображение самое необузданное…
– Но все же – глава церкви и гильотина…
– Так что же? Священнослужители присутствуют же теперь при казнях. Ни одна капитальная экзекуция в Петербурге не обходится без священника…
– Социальная революция никогда не пойдет путями церкви. Ватикан мог организовать Средневековье, но справиться ли ему с рабочими секциями Парижа?
– Вы не хотите Рима? Не надо. Уступаю вам святейшего отца. На Апеннинах есть Неаполь. А в Неаполе… – вы догадываетесь о чем я говорю? – в Неаполе – цех угольщиков…
Он таинственно воздел палец к небу. Тонкими розовыми жилками переливалась камея в массивном перстне. Достоевский почему-то долго не мог отвести глаз от этого крупного, тонко точеного, нежно окрашенного камня.
– Угольщики? – произнес он сквозь легкий сон созерцания. – Это что же такое?
– А весьма неплохое сообщество, – протянул итальянец, сильно снижая голос и озабоченно озираясь по сторонам.
Вокруг, среди пыльного бархата и потускневшей бронзы, равнодушно жевали челюсти петербургского среднего люда, с его крупными аппетитами и ограниченными окладами. Все были погружены в невозмутимое прожевывание своих порций.
– Вы только послушайте: железная организация, беспрекословное подчинение, глубокая тайна, жертва всем во имя общего дела. Клятвопреступнику смерть! Кровью спаяно все. И единая воля – очистить лес от волков, Европу от хищных тиранов. Беспощадная война с полицией, – долой кальдераров! Упорное пусканье корней в армию, школу, бюрократию, неутомимое стремление опутать сетью грандиозного и таинственнейшего комплота весь священный союз европейских монархов… и нашего тоже, конечно.
Под гудение органа он говорил почти шепотом, но остро оттачивая в медном голосе труб каждое слово и почти вонзая его в слушателя, как заговорщик кинжал – бесшумно, коротким и четким ударом.
– Но на Россию союз этот вряд ли распространит свое действие. Да и на Западе, кажется, он не достиг заметных успехов…
– А восстание в Папской области, а революция в Пьемонте, Неаполе? А военные бунты во Франции, а июльские дни в Париже? Всего этого вам мало?..
– Но этот союз ваш тоже какой-то… католический, иезуитский. У нас все пойдет другими путями, я в этом уверен.
– Нет вернее путей, нет организации крепче и действеннее. От нее затрещит по швам весь феодальный мир – и распадется, как труп. Мы устроим «бараки» для сборищ в столицах и во всех губернских городах – ха-ха! – у каждого губернатора под носом – «хижина угольщиков», мы разбросаем по всем уездам «рынки», всю страну, от Камчатки до Эйдкунена, покроем сетью союза, а где-нибудь здесь, под самым Зимним дворцом, ну, хотя бы на Миллионной, устроим верховную венту… Вы представьте себе – император, министры, фельдмаршал, директора департаментов, генералы воображают, что они управляют страной, а на самом-то деле параллельно, секретно, неведомо властвуем мы, разрушаем деспотию, развинчиваем болты, очищаем место для новых построек, воздвигаем в оврагах и топях фундамент будущих фаланстер.
Достоевский слушал задумчиво. Его чем-то прельщали эти безрассудные планы, в которых история, политика, будущность странно сливались в какую-то невообразимую, дикую и чем-то привлекавшую его утопию…
– У вас, кажется, опять разыгрывается фантазия, Антонелли…
– Эх, Федор Михалч, без фантазии-то революции вам не состряпать! А ведь вы, небось, не за старый режим?
И суматошливые глазки Антонелли вдруг недвижно пронзили лицо его визави.
– Вы ведь, кажется, слышали мнения мои у Михайлы Васильича…
– Слышал, слышал. Да знаю, не все ведь в такой большой компании выскажешь… Вы ведь известный писатель, немало, верно, замыслов про себя таите… Знаем вас, российских Эженов Сю! Там какие-нибудь «петербургские тайны» замыслили и незаметно, мимо носа цензуры, коммунизм проведете в «Отечественные записки». А лучше бы, знаете, тайно…
– Как же так?
– В собственной типографии. Секретным набором, – шептал Антонелли. – Так на Западе действуют. Кажется, ведь и у нас что-то такое замыслили? Правда ведь? Правда?
– Не-нет, не знаю, – отвечал медленно Достоевский.
– Будто? Уж вам ли не знать? Литератору! Полно, знаете! Говорят, заказан станок в разных мастерских, отдельными частями, и где-то будет он собран. Вот это удачная мысль! Вот за это нужно хвалить наших! Это уже зрелый шаг! (Он был вне себя от восторга.) А где соберут его? – бросил он как-то небрежно.
– Вам лучше это знать, – с трудно преодолеваемым отвращением проговорил Достоевский, – ведь не я вам, а вы сообщили мне о типографском станке…
– Так неужто не знаете? А мне так хотелось распространить свой трактат о применении карбонарской организации в России. Вы подумайте только – в Орле, Таганроге, Ревеле малые венты шлют депутатов в центральные ложи Киева, Иркутска, Архангельска, всех трех столиц (разумею и Царство Польское). Рядом с каждым губернским правлением – ячейка всероссийского заговора. За каждым земским исправником – слежка ученика или мастера. В каждом уезде – строжайший надзор и неустанная пропаганда фактами. Все невидимо, даже по внешнему виду благопристойно, а между тем власть подрывается ежеминутно. Председатели казенных палат играют нам на руку, городничие – наши агенты, становые пристава пляшут по нашей дудке. Сеть жандармских округов плотно подбита филиацией всеславянского цеха угольщиков. Из провинции делегируют членов в высшие разряды, ведущие сношения с заграницей. А от них великие избранники направляются в единую верховную венту, незаметно управляющую всею Российской империей из меблированных комнат Штрауха на углу Морской и Гороховой… Недурно, ха-ха?
Было в этих политических планах что-то шутовское. Достоевскому вдруг показалось, что этот итальянчик, как любой петербургский акробат, должен превосходно вращать на мизинце тамбурин или держать на своем длинном носу стул, как славный Киарини или Пацциани из адмиралтейских балаганов.
– Кто же войдет в вашу верховную венту?..
– Представители с мест, а от Петербурга – Спешнев, я и, конечно, вы, Достоевский. Не удивляйтесь. Такими людьми, как вы, должна дорожить революция. Вы по природе – заговорщик, вы агитатор, трибун… О, вы способны убить тирана… Да, да, вы из расы героев-убийц, как Брут, Равальяк…
Достоевский бледнел. «Вы ошибаетесь, я не убийца», – хотелось сказать, но почему-то не выговаривалось…
– Вы поведете толпу на штурм цитаделей, вы завершите последним ударом разгром всего… Вы подумайте только: красный петух в деревнях, а в столицах, в губернских центрах – восстания и травля властей. По всей России – разбой и пьянство! Бунты в армии, распад администрации, хищения, прокламации, публичные скандалы, вымирающие селения, восстающие фабрики, голод, эпидемии, поджоги… И тут-то – кинжал в тирана!
Красный жилет Антонелли, казалось, пылал, как зарево. Оранжевый шелк фуляра взметался, как языки пожарного пламени. Щеки лоснились, блистала губа. Оратор словно хотел вовлечь собеседника в свои страстные прорицания. Но Достоевский молчал и внимательно следил за ним. Он давно уже имел свою мысль об этом чрезмерно разговорчивом и излишне пытливом мятежнике.
– Так неужели же вы, Достоевский, не примете в этом великом деле участия? Неужели же пламенным своим пером не заклеймите тиранов? Быть не может того, никогда не поверю!
Достоевский поднялся. Поправляя плащ, окинул холодным взглядом собеседника.
– Да уж если бы и участвовал, то вам, поверьте, о том не сказал бы.
Антонелли опешил, вильнул своим острым носом и даже привстал.
– Почему же?
– Да так. А кстати, Антонелли (в нем вдруг проснулось желание сразу сорвать с негодяя маску, дерзко пренебречь опасностью – это не раз с ним случалось), вы вот знаток устройства католической церкви, союза карбонариев, всяких там тайных обществ. А вам неизвестно, как Фуше – в своем роде ведь тоже гениальный систематик и устроитель – организовал в Париже при консульстве высшую полицию?
И оба молча, слегка побледнев, прошагали, как два автомата, вдоль тусклой бронзы и пыльного бархата, сквозь гуды органа и дым, из трактира на Невский.
По повелению Его Императорского Величества
В 1849 г. на одном из балов-маскарадов какая-то таинственная маска подошла к Пальму и сказала: «Берегитесь, вас сегодня же ночью будут арестовывать».
Из воспоминаний Е. И. Ламанского
Ночь была в Петербурге. Холодная, с ветром весенняя ночь.
Уже черное небо бледнело, болезненно истончалось, становилось прозрачнее, мертвеннее, малокровнее, и дольше блестела игла с кораблем над воздушной колоннадой Адмиралтейства.
Лед со звоном сошел с Невы, но мосты еще были разведены. Ждали льда с Ладоги. И тонко звенели ночами осколки разбитых покровов по черной реке и стыли на своих пьедесталах фиванские сфинксы, уже явственно различимые в прозрачной завесе хиреющей ночи.
В Петербурге начиналась весна. В шустер-клубах расчищались кегельбаны. Сквозь выставленные рамы явственнее доносились тоненькие переливы тирольских цитершлегеров. «Северная пчела», осторожно и ни в чем не нарушая благоговения перед мудрым и кротким правительством, невинно и мило подшучивала над мокрыми дачами в Полюстрове или Парголове. В самой столице уже усиленно готовились к открытию увеселительных садов и огородов.
Он навсегда запомнил эту последнюю весну своей молодости. В бессоннице бледнеющих ночей слагалась горячая повесть о гениальном и беспутном скрипаче помещичьих оркестров и бродячих трупп, забулдыге и отверженце жизни, матерински обласканном одною запуганной девочкой. Рассказ расстилался, вырастал, развертывался в необычайную историю одной несчастной женщины. Вдруг все оборвалось.
В апрельскую хворую ночь в жизнь его вошла блестящая наголо сабля и что-то навсегда отсекла. Беззвучно, одним своим холодным сверканьем перерезала жизнь надвое, разрубила судьбу. Повисла над ним новым дамокловым мечом на целое десятилетье. Неожиданно и неумолимо повлекла за собой и ввела в его жизнь чужих и грозных людей – тюремщиков, следователей, надсмотрщиков, комендантов и плац-майоров, тесно замкнувших на долгие годы в свой заклятый круг его, государственного преступника Достоевского первого.
На заре голубой подполковник с нижним чином и полицейским приставом усадили его в карету – словно смольнянку или театральную воспитанницу (никогда он не пользовался столько каретами, как в эти нелепые месяцы). Вот Фонтанка, вот опрятное и зловещее здание у Летнего сада. Напротив в бледном свете утра чуть розовеет укрепленный замок нежного цвета перчаток Лопухиной. Карета круто переламывает за угол свой бег. Распахиваются ворота, узкий подъезд, полутемная лестница, – но зато наверху просторный нарядный аванзал. Посреди сверкающий цоколь. На его высоте, склоняя застенчиво нежную голову к плечу и прикрывая легчайшей мраморной тканью от взглядов жандармов и штатских свой девичий торс, светилась тысячелетней улыбкой сама Анадиомена, лукаво и дразняще обнаженная Венера Калипигос.
Откуда попала сюда, в покои Орлова и Дубельта, в этот грозный раздел личной царской канцелярии, пенорожденная Киприда? И для чего воздвигла она свой сияющий торс в этом тюремном преддверии, среди следственных дел, обнаженных сабель и шпорного звона? Не для того ли, чтобы в последний раз радовать взгляды важнейших государственных преступников, перед отправкой их в крепость, на каторгу, на эшафот?
(Недавно только в Париже он стоял перед милосской богиней. Без рук она была еще прекраснее. Казалось, они ей и не были нужны, она словно отказывалась принимать что-либо от жизни, звать, влечь к себе, удерживать… Она и с отсеченными конечностями была победоносна и прекрасна. Сила ее притяжения не требовала иного орудия, чем спокойное совершенство ее черт и сверкающая гармония тела. Но в то петербургское утро Киприда игриво и задорно улыбалась, обнажаясь перед хмурыми сподвижниками Орлова.)
Мимо богини его проводят в белый зал. По углам и вдоль стен – посетители пятниц, но нет самого Петрашевского (неужели прямо в крепость?). Множество незнакомых лиц. Брат Андрюша? Откуда? Растерянно смотрит девица с Невского, весьма миловидная, в шелковом платье, с маленьким зонтом и в шляпке с огненным острым пером. Найдя ее в постели одного из подлежащих аресту в известной гостинице Клея, жандармский капитан доставил и эту добычу в Третье отделение вместе с рукописями и запрещенными книгами.
– Зачем же ее привезли к нам? – с изумлением вопрошал по-французски плотный седой господин во фраке со звездою, – ведь здесь не ночной ресторан, не зал Энгельгарта… Отпустите эту… даму. Voyons, ne soyons done pas ridicules, во всем должен быть смысл.
Это был тайный советник Сагтынский, член следственной комиссии.
И вот снова распахиваются двери. Голубые патрули с обнаженными саблями. И меж них высокий и тонкий, спокойный и уверенный, как всегда, словно ведя за собой твердой поступью двух жандармов, легко и свободно, вошел в белый зал человек необыкновенной и поразительной наружности.
Все взгляды обратились к нему. Жандармский майор метнулся к дверям со своим листом, но, словно смущенный бесстрастьем вошедшего, почти с робостью задал свой вопрос:
– Фамилия?
– Николай Спешнев.
Он стоял, как всегда, прекрасный и невозмутимый, невольно и как-то неосознанно блистая своим челом поэта и мыслителя, весь в черном, в ослепительном белье, бархатном жилете, атласном галстуке. И на этот раз все в нем было сдержанно, законченно и строго. Нисколько не походил он на петербургских щеголей, а скорее напоминал европейских политиков или ученых, как изображали их в то время модные эстампы, прилагаемые к журналам и брошюрам.
И пока он медлительно и бесстрастно ронял свои ответы майору, Достоевский снова жадно всматривался в этот странный облик кроткого Мефистофеля, столь пленивший его своим ироническим и бесстрастным выражением.
Все в этой внешности было доведено до последней степени совершенства и какой-то высшей выразительности: шелковистость темных волос, блеск и непроницаемость глаз, алость губ, отчетливая линия лицевого оклада, изящнейший очерк бровей и безошибочно точный разрез глаз. Казалось, голова эта была отточена самыми гибкими бархатистыми напильниками или тончайшей стеклянной бумагой.
Но при этом поражающем блеске красота его чем-то интриговала, дразнила и смущала зрителя. Возможно, что это впечатление получалось от странной неподвижности этих безукоризненных черт. Казалось, лицо было вылеплено из матового фарфора и только местами тронуто киноварью игрушечного мастера. Это была почти кукольная голова с образцовым и тонким овалом, ярко-вишневыми и слегка припухлыми губами. Глаза его смотрели недвижно и непроницаемо, каким-то многомысленным и загадочным взглядом, с остановившимся и тревожащим блеском, словно способным заворожить и внушить свою волю. Улыбка, еле заметная, почти неуловимая, и все же раздражающая, змеилась в уголках этих сочных гранатовых уст. Лучистая светлость и ледяная бесстрастность облика вызывали в памяти изображения древних кумиров, а безоблачная ясность знания, разлитая во взгляде, напоминала чем-то голову тициановского равви перед фарисеем, протягивающим монету.
Тайный советник Сагтынский в тоне тончайшей светской приветливости, почти извиняясь, сгибал свой тучный стан под холодным взглядом Спешнева, предлагая ему присесть, подождать, обещая с улыбкой хлебосола сигары и завтрак. Тот недвижно смотрел на него, ничего не отвечая.
Достоевскому вспомнились их первые встречи. В то время он еще не утратил юношеской способности влюбляться в красавцев, облеченных чарами таланта, необычайной биографии или внешней неотразимости. Спешнев завладел его воображением. Что Тургенев! Вот настоящий властитель душ, призванный вести за собой людей и повелевать ими, аристократ, богач и красавец, отдающий себя всего на служение отверженному человечеству.
Первоначально эта слепящая и раздражающая красота не только глубоко поразила, но одновременно как-то мучительно смутила и даже чем-то испугала. Слишком уж явственно сказывалось превосходство этого нового лица перед всеми «нашими» и даже перед самим великим пропагатором – Петрашевским, фатально терявшим в глазах своих слушателей авторитет вождя, как только в круг их являлась молчаливая фигура этого участника европейских политических и рабочих союзов, автора важнейших научных исследований о тайных обществах и знаменитых заговорах, сражавшегося на чужбине в рядах отважнейших инсургентов. Такая слава таинственно окутывала его, порождая легендарные толки о чрезвычайных поручениях, возложенных на него каким-то высшим комитетом европейской революции в целях подготовки отсталой России к всеобщему перевороту; говорили о каком-то всемирном заговоре, в осуществлении которого Спешневу назначена роль начальника штаба славянских повстанцев, их зажигателя и предводителя, и много таких же неясных, чрезвычайно тревожащих и во многом непонятных слухов бродило о нем.
Достоевский любил, не отрываясь, следить за ним на собраниях, во время прений, когда он внимательно слушал ораторов, изредка как бы срезая шумную разноголосицу мнений своей отточенной фразой. Пред всеми теоретиками пятниц он имел великое преимущество прямолинейных и решительных суждений. Когда один из коломенских фурьеристов отстаивал мысль, что новое учение об устройстве человечества перенесет древний завет о любви к ближнему в научно организованные общины, Спешнев сдержанно, но как-то неопровержимо заметил:
– Любовь к ближайшему даст нам армия граждан с сильными руками.
Когда Петрашевский изложил однажды принципы переустройства крепостной деревни в фаланстеру, Спешнев медленно, но как бы диктуя новый закон для высекновения его на скрижали, произнес:
– Нам нужна не фаланстера, а стальная организация заговорщиков с неумолимо строгой иерархией, обязывающей каждого члена беспрекословно повиноваться приказам неизвестных инстанций.
– Но ведь это может нарушить мирные пути к реформе общества и привести к тирании немногих, к насилию и даже антропофагии…
– Гракх Бабеф считал, что социальные замыслы нужно осуществлять с оружием в руках.
– Но французская революция захлебнулась в крови…
Еле заметная усмешка тронула коралловый рот Спешнева.
– Французская революция – только предтеча другой, более великой и более величественной революции, которая будет последней в истории человечества.
* * *
…В белом зале Третьего отделения не прекращается шум. Все утро – суета, перекличка, проверка, опросы. В полдень среди трепета всех жандармов и чиновников появился сам граф Орлов, высокий и тонкий, с крохотной, как булавка, головой. Укоризненно звучал горестный голос оскорбленного в лучших чувствах отца:
– Будьте же чистосердечны. Царь в неизреченном своем милосердии предоставляет раскаявшимся с первых допросов обрести снисхождение…
К вечеру стали по списку кое-кого вызывать в кабинет к Дубельту. Уже прошли и не вернулись обратно Момбелли, Спешнев, гвардеец Григорьев.
– Отставной поручик Достоевский первый!
Его ведут бесконечными коридорами – направо ряд камер, налево глухая стена. На дверях надписи: «Казначейская», «Канцелярия для производства дел по преступлениям государственным»… А вот наконец: «Кабинет управляющего III отделением».
В кабинете Дубельта
Дубельт лицо оригинальное. Он наверное умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или лучше накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив.
А. Герцен «Былое и думы»
Он сидел в глубоком кресле с высокой спинкой, тонкий, легкий, словно весь заостренный, пронзительно изящный, чуть улыбающийся, бодряще сверкая при этом зелеными своими глазами и ровным оскалом белоснежных длинных зубов, под полуседыми и ниспадающими усами, в каких изображают обычно Меровингов. Достоевскому мгновенно и сразу представился вдруг зверь из его страшной детской галлюцинации: матерый, остромордый, белесоватый волк с изумрудно пылающими глазами несся на него, лязгая сверкающими клыками.
Генерал любезно наклонился и указал ему на стул перед самым бюро. Под восьмилучной золотой звездой голубое сукно мундира, казалось, отливало небесным эфиром или лазурными волнами Адриатики в солнечной ласке эрмитажного Клода Лоррена. Блистание парадного убора (Дубельт только что вернулся из Зимнего дворца, куда он сопровождал Орлова для высочайшего доклада о «большом дне» в Третьем отделении), ослепляло неподготовленный взгляд. Орденские знаки тяжелой искрометной гроздью свисали с высокого воротника, словно схваченного выпуклыми серебряными обручами. Казалось, кресты и медали были щедро брошены целой пригоршней на эту доблестную грудь верховного государственного стража.
Несколько мгновений, откинувшись на спинку кресла, он молча оглядывал своего гостя фосфорящимися зрачками, впрочем, с неизменным выражением любезности.
– Нас бесконечно огорчает, – начал он серьезным, но не лишенным некоторой великосветскости тоном, – что писатель с таким именем, как Федор Достоевский, оказался замешанным в это печальное и воистину позорное дело. О, мы не торопимся с обвинениями, – словно спохватился он, – следствие еще не сказало своего последнего слова, и вы, может быть, докажете свою непричастность к преступным замыслам (он как-то сразу выпрямился в кресле), направленным против жизни нашего обожаемого государя…
Он резко оборвал фразу и пристально вгляделся в лицо собеседника. Достоевский сделал невольное движение: этого он никак не ожидал.
– Ну, вот видите, – продолжал Дубельт, снова погружая в кресло свою сухопарую фигуру, – вы словно уже готовы протестовать против этого обвинения, и я, поверьте, буду первый ликовать, если вам действительно удастся доказать со всей неопровержимостью, что вы не были участником цареубийственного заговора…
– Но никакого заговора и не было, – с глубочайшим убеждением и почти возмущенно проговорил арестованный.
– О, не будьте так убеждены в этом, – вежливо, хотя и с ноткой предостерегающей строгости, возразил Дубельт. – Но если вы лично не замышляли против жизни нашего ангела-монарха, вам это, разумеется, и не будет поставлено в вину. Ошибок у нас не бывает.
– Я смогу доказать, что принимал участие лишь в литературных и экономических прениях. Наши мирные беседы…
– О, я не собираюсь расспрашивать вас о деталях дела, о лицах, о намерениях, о разговорах (он даже чуть-чуть поморщился: как, мол, противна эта следственная кухня с ее придирками и мелкотой!). Меня интересует более общий вопрос – о вашем отношении к некоторым событиям.
Он на мгновенье задумался. Легкая пауза должна была углубить впечатление от сказанного. Он словно хотел подчеркнуть перед Достоевским свое особое отношение к делу – какую-то высшую точку зрения, безупречную позицию верховного руководительства, быть может, чистейшей идейности и высокой принципиальности. Это была та олимпийская отрешенность от всякой пошлости и грязи, которая неизбежно внушает мягкую и светлую благожелательность даже к противнику. Он как бы стремился отчетливо отгородиться от всей этой низменной полицейской процедуры с агентами-провокаторами, сыщиками, шпионами, осведомителями, приставами следственных дел. Он пребывал где-то неизмеримо над ними, парил в лазури, среди светил – в какой-то астральной сфере, словно возвещенной безгрешным цветом его мундира, серебрящейся белизной эполет и солнечными лучами анненской звезды… Это был почти художник, зачарованный светлым видением своего надземного замысла.
Было известно, что Дубельт считал себя отпрыском царствующей католической фамилии и любил выказывать себя – особенно с литературной публикой – благосклонным потомком принцев, аристократически спокойным и безоблачно приветливым. Его бешеную ругань, когда из-под личины этого потомка владетельных князей внезапно выступал вахтер полицейского ведомства, знали клиенты низшего сорта, лишенные возможности запечатлеть на бумаге, хотя бы в отдаленном будущем, черты и жесты жандармского генерала.
Все это было достаточно известно. Достоевского не удивил этот исполненный благоуханной грации величаво-ласковый тон. Не верховный истребитель крамолы, не глава тайной полиции – артист и мечтатель, почти единомышленник, беседовал в своем кабинете с молодым писателем Достоевским. Начальник государственной охраны мог даже позволить себе некоторую задумчивость. Он, впрочем, быстро вышел из своей рассеянности и прервал краткую паузу.
– На следствии вы сможете во всех подробностях доказать вашу непричастность к злодейской конспирации. Тем отраднее будет установить вашу неповинность в покушении на подобное отцеубийство, – смею так выразиться (Достоевский вздрогнул), – тем отраднее, говорю я, что его величество в неизреченном милосердии своем предоставил вам возможность получить в свое время высшее и почетное образование, признал вас своим инженер-прапорщиком и выразил свою высочайшую надежду, что в сем чине вы так достойно и прилежно поступать будете, как то верному и доброму офицеру надлежит…
– Слабость здоровья и склонность к литературным занятиям побудили меня выйти в отставку.
– Это не было поставлено вам в вину, – с успокоительным и сочувственным вниманием, хотя и не без некоторого затаенного налета укоризны, отвечал генерал. – Его величество никого не неволит. Когда же вашею первою повестью вы с таким блеском доказали свою способность служить пером отечеству, государь-император соизволил благосклонно отозваться о вашем сочинении. Его читали при дворе. Великая княгиня Елена Павловна, его высочество герцог Лейхтенбергский нашли всемилостивую возможность оценить вас. К вам отнеслись с вниманием и ободрительным сочувствием. (Глухая укоризна крепла и звучала все явственнее.) Перед вами открывался, быть может, широкий и славный путь, по которому не гнушались шествовать Карамзин и в наши дни Жуковский…
– О, едва ли бы я мог стать придворным писателем!
– Почему же? Разве вам не дорога наша великая Россия? Разве вы не хотите видеть ее мощной и грозной? Непобедимой и славной? Вы ведь русский писатель, а не иностранец, как эти полячишки, французики и немчики, которых согнал к себе господин Буташевич. – Он брезгливо покачивал в руке какой-то канцелярский листок. – Чего только стоят эти имена: Момбелли, де Буст, Балас-Оглы (даже турок затесался)! Ястржембский, ну, конечно – la resurection de la Pologne, так, кажется, требуют в Париже? Оль-де-Коп, Эуропеус.
Он декламировал с недоуменным отвращением, не совсем правильно произнося эти иностранные имена, словно забыв о своей собственной заморской фамилии.
– Так вот они, спасители нашей святой Руси! Только иудеев недоставало… Впрочем, один, кажется, удостаивал своим посещением – музыкантик Антон Рубинштейн, что ли? О, я знаю, что вся эта иностранщина вам глубоко чужда, что вы, слава создателю, не «эуропеус», а настоящий русский душою и сердцем…
– Судьбы моей родины мне были всегда дороже всего. Но, сознаюсь, я не закрывал глаз на темные стороны нашей жизни, на эту вечную подозрительность властей, на продажность наших судейских канцелярий, на удручающую нищету столицы, на приниженность и рабство нашего крестьянства. Неужели же мне, мыслящему человеку, надлежало молча принимать все это неустройство нашей жизни?
– Никоим образом, – почти с предупредительной любезностью отозвался Дубельт. – Ведь для борьбы с тем злом, на которое вы указываете, и существует Третье отделение собственной его величества канцелярии.
Он вспорхнул и прикоснулся своей костлявой рукой к большому стеклянному колпаку. Под ним на легком постаменте повис шелковый фуляр, украшенный коронованным вензелем «Н» в одном из уголков.
– Под этой хрустальной шапкой – вся программа нашей деятельности. Этот платок передал наш премудрый и великодушнейший государь незабвенному графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу с золотыми словами: «Утирай им как можно больше слез – вот моя инструкция». И мы свято выполняем ее. Вступая в корпус жандармов, я дал клятву быть опорою бедных, защитою несчастных, поддержкою угнетенных, другом вдов и сирот, неутомимым борцом с судейскою неправдою… Видит бог, я выполняю мою присягу.
Он с видом умиления поднял к потолку свои круглые несытые глаза лесного хищника. Удержав несколько мгновений молитвенный взгляд на полногрудой нимфе плафона, он с кроткой покорностью перевел его на Достоевского.
– Верьте мне, вы пошли неправильным путем. Ибо сказано: «Никто не может служить двум господам». Разве ваше желанье помогать бедным людям, нищим и угнетенным могло встретить поддержку в этих низких сборищах грубых, полуневежественных людей, неудачников и проходимцев всякого сорта, бессильных и беспомощных болтунов, лишенных всяких средств и влияния? Не изгоняйте бесов силою Вельзевула, князя бесовского! Только рука в руку с правительством, только в согласии с его широкими планами и неисчерпаемыми возможностями, резко отграничив себя от всех этих бессмысленных филантропов, вы могли бы по-настоящему выполнять долг человеколюбивого писателя, одновременно служа пером благожелательнейшим предначертаниям верховной власти.
– Я всегда полагал, чти дело писателя только указать на зло, изобразить его сильно и заразительно, дать его полное отражение, а действовать будут другие.
– Однако вы все же вошли в тайное общество с революционными целями, где изволили неоднократно выступать в качестве деятельного сочлена оного. (Глубочайшая укоризна начинала звучать отдаленной угрозой.) Вас, кажется, особенно занимал так называемый крестьянский вопрос, эмансипация рабов, которые, кстати сказать, нисколько не жалуются на отеческую опеку просвещенного дворянского сословия, возглавляемого священной особою его императорского величества.
– Я ни перед кем и никогда не скрывал, что являюсь сторонником скорейшего освобождения крестьян от помещичьей власти. Мне слишком знакомы наши крепостные нравы – все эти засеченные, изнасилованные, заморенные голодом, жестокой барщиной, дикими помещичьими порками. Я сам видел, как разоряют крестьян страшными поборами, как торгуют на Руси невольниками, отдают дворовых в залог ростовщикам, секут и мучают людей без всякого повода, из одного зверского желания причинять страдания. Я видел страшные, страшные вещи. Я знал одного помещика, который веревчатой плетью заставлял своих рабов плясать и кружиться до упаду, до полусмерти, наслаждаясь их обмороками и бессильем. Недавно только один почтенный барин хвастал предо мною, что он пользуется «невинностями» своих крестьянок, как в феодальную эпоху… А эти несчастные крестьянские дети, которых считают просто приплодом домашнего скота! А все эти забритые в рекруты, искалеченные на конюшнях, прикованные к стенке, проигранные в карты, проданные с молотка без семьи… О, почему они так безгласны, бесправны и беспомощны? Ведь вся земля русская пропитана насквозь слезами, потом и кровью этих беззащитных… Почему ж они так тихи, покорны, безмолвны, почему не стонут, не ропщут? Неужели же считают, что вправе с ними так поступать?
Генерал внимательно слушал говорящего и пристально смотрел в его лицо своими непроницаемыми зелеными зрачками.
– Вы, стало быть, полагаете, что наш народ уже вполне созрел для самостоятельной жизни и свободной деятельности без указующего и направляющего надзора наиболее цивилизованного сословия страны?
Он медлительно свел свои сухие и длинные пальцы и почти приложился к ним губами, пытливо глядя исподлобья на допрашиваемого.
– Я в этом совершенно уверен, генерал.
Дубельт встрепенулся.






