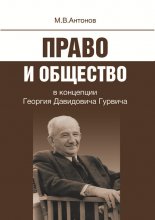Дорогой мой человек Герман Юрий
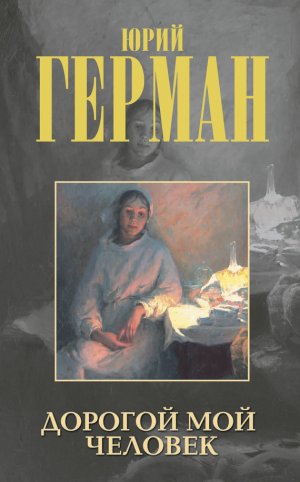
Теперь Володе было холодно, ему даже показалось, что из двери дует. Лампы обжигали его, а спина и ноги мерзли. Да и вообще, только сейчас он понял, что едва стоит на ногах…
— Больно! — сипло крикнул немец.
Теперь была видна пуля — ее толстая нижняя часть. Цветков тампонадой быстро и ловко остановил кровотечение.
— Шпатель! — велел он.
Наконец пуля тяжело шлепнулась на пол.
— Все? — спросил Хуммель.
— Все! — разогнувшись и вздохнув полной грудью, ответил Цветков. — Сейчас вы получите на память вашу пулю.
Немец поблагодарил своих хирургов в несколько торжественных, даже выспренних выражениях. Его маленькие глаза склеились, толстое лицо лоснилось от пота. Дышал он часто и коротко: видимо, ему было все-таки здорово больно.
— Я останусь тут, — распорядился Цветков, — а вы, Владимир Афанасьевич, пойдите — доложите командованию. Советую вам прилечь — вид у вас аховый! И пришлите сюда Вересову, хоть сестра у меня будет квалифицированная…
Володя кивнул и вышел; время было обеденное, солнце стояло высоко в холодном, морозном небе. Из землянок, из коротких труб прямо к легким облачкам валил уютный дым, у коновязи хрупали сечкой партизанские кони, бойцы бегом носили из кухни ведра с супом, кипяток, буханки.
На морозе он постоял, пытаясь отдышаться, сообразить поточнее. Но, так и не отдышавшись, неровным шагом, забыв сбросить халат, шапочку и маску, Устименко спустился в штабную землянку и постарался все рассказать про Хуммеля подробно, но это никак не давалось ему, и он понимал, что говорит вздор, какую-то ненужную и несущественную подробность о кетгуте и не может с нее сдвинуться, с этой подробности.
— Хорошо, — терпеливо сказал Лбов. — Понятно. А вы как себя чувствуете?
— В каком смысле?
— Вы в порядке?
— Мне — этот вопрос?
— Да. Я думаю, что вы больны.
— Это глупости и совершеннейший вздор, — стараясь четко выговаривать слова, произнес Володя. — Это ни в какие ворота не лезет. И доктор Цветков совершенно прав: делать операции такого рода без рентгена в наш век — это не лезет ни в какие ворота. Вам понятно, товарищи: ни в какие!
И сел.
Ему дали воды в кружке, он попытался попить через неснятую повязку. Попить естественно не удалось. Это показалось Устименке невообразимо смешным. Все еще толкуя про свое «ни в какие ворота не лезет», он прилег тут же на скамье, и нечто теплое, валкое, смутное тотчас же навалилось на него многопудовой, удушающей, невыносимой тяжестью…
Я УСТАЛА ТЕБЯ ЛЮБИТЬ!
«Здравствуйте!
Вы еще меня помните?
Я пишу Вам ночью в пустой предоперационной. Я все тут выскребла — в этом нашем подземелье, все вымыла и немножко подремала.
А потом проснулась, вспомнила, как Вы когда-то, согласно моему приказанию, поцеловали мне руку, и этой самой рукой пишу Вам письмо, которое никогда не отправлю, так как нельзя переписываться с личностью, которая тебя бросила и, находясь за далекой границей, уклоняется от выполнения своего воинского долга.
Ой нет, Володька, я никогда про тебя так не подумаю.
Я скорее помру, чем подумаю, что ты от чего-то можешь уклониться, мое далекое длинношеее. Я ведь знаю, как, сбычившись, всю жизнь ты лезешь напролом. Как трудно тебе от этого, а насколько труднее еще будет! Нет, уж чего-чего, а обтекаемости житейской в тебе нет ни на копейку, даже батя мой как-то, уже после того как узнали мы про чуму, написал, что наш Владимир (он и по сей день пишет про тебя — наш )… так вот, что, в общем, ты человек нелегкой жизни и не слишком легкой судьбы.
А теперь хочешь знать, как я стала медработником?
Если хочешь, тогда сиди и слушай, что тебе, кстати, совершенно не свойственно. Ты ведь меня никогда не слушал, слушала тебя я. А если я пыталась поговорить, то ты так морщился, словно у тебя головная боль. Но даже это я в тебе любила, потому что знала — он имеет право морщиться, он значительно крупнее, своеобразнее тебя. Он тебе начальник!
Так вот слушай, начальник!
Я написала папе двадцать девять писем и оставила их в Москве (Пречистенка, Просвирин переулок) с тем, чтобы одна очень аккуратная тетечка посылала отцу на флот еженедельно по письму. Вся эта пачка имеет нумерацию, так что 29 недель Родион Мефодиевич будет спокоен за свою милую, любимую, единственную дочку.
И пошла в военкомат, где меня без всяких с моей стороны уговоров оформили в некую войсковую часть, которая и отбыла на Север.
Из вагона нас переселили в сарай.
Мы образовали собою банно-прачечный отряд. Знаете, что это такое?
Это значит, что мы стирали.
На санях и на подводах нам повезли белье — в наш сарай, невдалеке от маленькой станции Лоухи. Белье повезли на грузовиках, на подводах и на санях. Его было множество — этого ужасного, серого, дурно пахнущего белья воюющих людей. У нас был один хромой парень — Шура Кравчук. С величайшими трудностями он добился того, чтобы его взяли на войну, и работал он у нас на приемке, то есть в сарае, где всегда стоял тяжелый запах застарелого пота, гнили, нечистот. И когда я вначале видела эти огромные груды, эти тюки и узлы всего того, что нам предстояло обработать, — меня просто охватывало отчаяние, как пишут в книжках. А белье везли и везли, и наш Шурик Кравчук уже просто утопал в нем, его иногда даже не видно было в сарае, и когда я входила туда, то кричала, как в глухом лесу:
— Шурик, ау! Шурик, где ты?
И Шурик, заикаясь, отвечал:
— От тебя слева! Сейчас я начну вылезать! Подожди, Варенька!
Очень давно, еще когда я была артисткой, мы с „сентиментальным танком“ делали себе маникюр. Тут это кажется смешным. Руки мои распухли, кожа стала лосниться, загрубели ладони, опухли суставы.
Бучильники, в которых вываривалось белье до того, как мы начинали его стирать, стояли в нашем сарае. Здесь у нас всегда сыро, льется грязная вода, в воздухе постоянно висит желтый липкий туман, и запах еще плотнее, чем на приемке у Шурика.
Стирали мы в корытах. Технику по ошибке завезли куда-то на другой узел, а нам сказали речь — что мы не должны быть рабами техники и обязаны проявить и показать себя.
Шурик буркнул, что хорошо бы, чтобы стирал в корыте тот самый головотяп, по вине которого угнали технику так далеко, что она пропадала три недели. К сожалению, в жизни этого не бывает — стирали мы, а головотяп, как выяснилось впоследствии, нами руководил.
Ах, как трудно было, Вовочка!
Ночи напролет ныли наши поясницы, болели плечи, руки, болело просто все. По ночам наши девочки охали и стонали не просыпаясь, и было их жалко, и хотелось надавать по роже тому, из-за которого угнали нашу стиральную технику.
Впрочем, он нас морально очень поддерживал.
Он нам объяснял, что война — это не танцы и не веселая прогулка, а именно война, которая имеет свои трудности…
Впрочем, ну его!
Уже порядочно накопилось у меня таких вот „объясняющих“, но никогда не хочется на них задерживаться, так же как не хочется думать о тех мужчинах, из-за которых нашей сестре женщине так трудно и тяжко на войне.
Но ничего не поделаешь — ты должен знать это.
Они говорят речи — эти люди, они нас приветствуют и называют подругами, они и храбры, и воюют по-настоящему, они выполняют свой долг как надо, но мимо них невозможно пройти без того, чтобы такой орел не ущипнул тебя, не прижал, не притиснул, не сказал нечто ласково-оскорбительное, унижающее тебя, подлое по существу. И это в порядке вещей, за это не наказывают, на это даже нельзя пожаловаться никому, потому что тебя же и засмеют, про тебя охотно налгут, что вовсе ты не такая, какой прикидываешься, что подумаешь — пошутить нельзя, что дело молодое, что товарищ просто „поигрался“. Я не ворчунья и не ханжа, я многое уже видела, но были случаи, когда я подолгу ревела, не понимая, почему за это не судят самым строгим судом. Вовка, мы же пошли на войну по зову сердца, прости за выспренность. Мы все делали и все будем делать, но это допускать или этого не замечать нашему начальству нельзя.
Самое же возмутительное знаешь что?
Однажды я заговорила об этом громко. Меня всю трясло, я говорила только одну правду. И меня же, что называется, „проработали“. Наш прачечный начальник, которого прозвали мы Козодоем, в большой и пламенной речи назвал меня клеветницей, заявил, что я недостойна находиться в коллективе, что никогда ни один боец не позволит себе, и так далее, и прочее в этом духе. А подружки мои молчали, и Шурик Кравчук, единственный наш заступник, тоже молчал, стараясь не встретиться со мной глазами. А потом мне посоветовал:
— Слишком ты круто, Варенька, взяла! Мы же на военной службе. Надо быть помягче!
Ох, Вовик, как ты бывал прав иногда: нельзя быть помягче! Я этого не понимала, а теперь поняла…
И знаешь, что я думаю: когда кончится война и появятся о ней книги непременно какая-нибудь бывшая связистка, или регулировщица, или прачка, или официантка об этом напишет. Сестры, нянечки и докторши, пожалуй, об этой стороне жизни мало что знают. У них пациенты, а вы, мужики, когда плохо вам, такие зайчики, так умеете трогательно позвать: „сестричка“ или такими жалкими словами поблагодарить за „спасение жизни“, что и в голову не придет — каков этот кроткий выздоравливающий, когда он в полной форме…
Ненавижу вас, проклятые двуликие животные!
И ты, наверное, не лучше других.
Представляю себе, каков ты там, среди местных красавиц.
„Разрешите пригласить вас, миледи, на один фокстрот!“
Впрочем, ты, кажется, не умеешь танцевать. Не умел — это я знаю, но, наверное, научился в каком-нибудь дансинге. И, сделав пробор, напялив „лакирки“, блеешь:
„О, май дир!“
Гадость!
Впрочем, не так уж плохо у нас было, в нашем отряде.
Правда, война проходила мимо нас, если не считать бомбежек станции Лоухи. Эту несчастную станцию бомбили ежедневно по многу раз. Но большею частью неудачно для фрицев, потому что рельсы очень быстро вновь восстанавливались и мимо нас опять, грохоча, проходили эшелоны, мчались санитарные поезда, тяжелые пульмановские вагоны.
Прибыла наконец наша техника, нам стало легче. Мы научились ловко и хорошо гладить. Кроме того, мы зашивали, штопали и, работая, пели в нашем сарае.
Знаешь, это даже довольно мило, вспоминается: докрасна раскалилась чугунная печурка, пахнет глаженым бельем, Шурик, полузакрыв глаза, упоенно дирижирует поленом, а девочки поют:
- Выхожу один я на дорогу;
- Сквозь туман кремнистый путь блестит,
- Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
- И звезда с звездою говорит.
Так шла, Владимир Афанасьевич, наша военная жизнь на этом этапе.
Вернее, на прошлом, потому что сейчас у меня совсем новый этап.
В меня влюбился один недурной человек.
Пусть Вам будет хуже, Владимир Афанасьевич, но в меня часто влюбляются. Не знаю почему, я ровно ничего для этого не делаю. Влюбляются разные и по-разному. Влюбляются и ходят с бараньими глазами, сначала разговаривают намеками, потом следуют неизменные признания в любви, потом, когда я отвечаю, что думаю, — они бранятся. Да, да, большею частью не понимают, почему я не отвечаю взаимностью. А мне смешно и стыдно. Я же выбрала раз навсегда.
Ну как это им скажешь?
Ведь это же несерьезно: я люблю товарища Устименку, а он меня много лет тому назад бросил, и потому оставьте ваши попеченья до завтрашнего воскресенья, или как мы говорили в детстве?
Впрочем, это я и сказала майору Козыреву. Это он — недурной человек. И старше меня лет на пятнадцать.
Он выслушал и ответил, как в романах:
— Я буду ждать, сколько вы пожелаете, Варвара Родионовна.
Я ответила:
— Не желаю, чтобы вы ждали.
А он мне:
— Положим, ждать вы мне запретить не можете. Кроме того, даю вам слово — докучать своими чувствами не буду. Мы просто добрые друзья, и только. Это, я надеюсь, мне не возбраняется?
Ну что на это можно ответить?
Он, Вовик, хорош собой, статен, виски седые, плечи широкие. Девочки наши все по нем сходят с ума. Если начистоту — он красивее тебя. И нет в нем этого твоего дурацкого упрямства, обидчивости, умения, уходя, не оглянуться. Уж он оглянется — будь покоен, и не раз, и не два. И как внимателен мой майор Козырев, Володечка, если бы ты мог себе представить…
Хорошо бы тебе у него поучиться месяц-два.
Только вряд ли бы ты у него чему-нибудь выучился: ты такой, и тебя уже не обломаешь. Ты ведь не то что невнимательный, ты занятой. А Козырев во внеслужебное время совершенно свободный человек. Он любит слово и понятие — отдыхать. А ты, проклятое длинношеее, по-моему, даже не понимаешь, что это значит — отдых. Люди твоего склада чем свободнее в смысле служебно-организационной деятельности, тем занятее внутренне, или так нельзя выразиться? Я хочу сказать, что ты ни в какой мере не гармонический человек при всех твоих несомненных достоинствах. Гармонический человек любит и поэзию, и все искусства, и природу, и, конечно, спорт, он играет в шахматы, или, как ты имел наглость выражаться, „в пешки“, он, быть может, охотник, рыболов, он не прочь стать спортсменом-планеристом. А ты однобокий, да, Володечка? Я до сих пор помню, как ты не умел, бедняга, ничего не делать и наслаждаться этим ничегонеделанием, и помню также, как ты однажды пожаловался, что мозги у тебя устают физически, как должны уставать руки у кузнеца или ноги у спринтера-бегуна. Помнишь, Вовочка? А Козырев как раз и хорош тем, что никогда не устанут у него мозги, хоть он и не глуп. Он гармоничен. Он не перегружает свою интеллектуальную сторону существования и потому всегда ровен, спокоен, в меру самоуверен, в меру самокритичен.
— Я человек, — с аппетитом говорит он, — и ничто человеческое мне не чуждо.
Тебе интересно про него?
У него великолепное обличье боевого, все испытавшего, все повидавшего командира.
— Мы, Варвара Родионовна, всего нахлебались! — любит он говорить, и это правда.
И Халхин-Гол за его плечами, и Хасан, и линия Маннергейма, и полгода нынешней, ох, какой нелегкой войны. Ордена свои он носит умело, со вкусом, они всегда на нем видны, даже когда он в плащ-палатке. Это особое искусство, которым мой батя никак не овладеет, если ты помнишь. Ну что ж еще? Китель на нем отличного покроя, шофер, с которым он приезжает к нам, смотрит на своего майора обожающими глазами, но при этом никаких панибратских отношений, у шофера рука к пилотке: „Есть, товарищ майор“, „Будет выполнено, товарищ майор“, „Явился по вашему приказанию, товарищ майор“.
Так вот, Вовик, от майора Козырева я убежала.
Никогда я ни о чем не просила никого за эти длинные месяцы войны, а тут поехала в санитарное управление фронта, отыскала папиного товарища по прошлому, тоже „испанца“, дивврача Ивана Александровича Шатилова, нашего самого наибольшего начальника, — он и твоего папу хорошо знал, — пробилась к Шатилову на прием и попросила перевести меня куда угодно, но, если можно, — подальше.
— От фронта подальше? — сурово спросил он меня.
— Нет, от нашего отряда.
— Почему так?
Глупо объяснять. Я промолчала. Он написал записочку, сунул ее в портсигар — это у него такая привычка, чтобы не забыть, потом спросил:
— Степанова Варвара?
— Так точно! — говорю.
— А отчество?
И сверлит меня глазами. То ли узнал, то ли догадался.
— Отчество!
— Родионовна! — отвечаю.
Долго молча меня разглядывал, потом сказал в высшей степени неприязненно:
— Маленькое, глупое, злое насекомое! И вредное притом! Как тебе не стыдно было отца обманывать? Ты знаешь, что он приехал в Москву через два дня после того, как ты удрала, и прочитал чохом все твои письма, заготовленные впрок? Он тут давеча мимоездом проследовал, я выходил к поезду, помахал он мне этими письмами.
Подумал мой дивврач и добавил:
— Нахалка несчастная! Был бы я штатский — надрал бы тебе твои паршивые уши. Да не реви, смотреть противно, ты же военнослужащая. Пиши отцу покаянное письмо.
Посадил меня за свой письменный стол, дал перо, бумагу, а погодя сказал:
— Моя Нинка тоже убежала.
— Какая Нинка?
— Дочка. Из Свердловска. По слухам, на парашютистку-диверсантку обучается. А может быть, уже и в тылу у фрицев. Остались мы двое стариков — Елена моя да я. Допиши, и пойдем к нам обедать.
Я дописала, он сделал свою приписку, потом поправил мне запятые и привел в избу, где квартировал с женой.
— Вот, — сказал жене, — рекомендую: Нинка номер два. Дочка Родиона Мефодиевича — помнишь моряка? Надери ей уши, Олена, мне неудобно, я ее военный начальник, а у нас, к сожалению, телесные наказания запрещены очень строго.
Обедали мы молча. Шатилов пытался шутить, а Елена Порфирьевна смотрела на меня мокрыми глазами, наверное, думала про свою Нину. Дивврач потом тоже скис. А я думала про маму, и, знаешь, Володька, мне ее было ужасно жалко. Как она там — под немцами, одна, ни к чему не приспособленная, избалованная, вздорная? Жива ли? И как она ужасно одинока — это даже представить себе немыслимо.
В общем, я уехала.
Уехала далеко — санитаркой в автохирургический отряд.
Я убежала от Козырева, Володя, от вежливого, внимательного, красивого, легкого майора Козырева.
Понимаешь, какая я верная, Вовик?
А ты не ценишь! И никогда не оценишь! Не поймешь!
И все-таки понять бы следовало: иногда нашей сестре бывает так одиноко, такие мы порой делаемся беспомощные, так нужно нам немножко участия сильного и спокойного человека, чуть-чуть внимания, вот как Козырев: „Вы давеча, Варвара Родионовна, сердились, что Шурик вывернул ваш зубной порошок. Пожалуйста, вот у меня запас…“
Чтобы кто-то думал!
Чтобы кто-то знал, что номер твоей обуви тридцать три и таких сапог не бывает, а без сапог невозможно. И чтобы этот кто-то, краснея и извиняясь, с глупым даже подхихикиваньем, вручил тебе сапоги, переделанные из его сорок четвертого номера при помощи саперного сапожника, и чтобы ты, военнослужащая, знала, как ему не просто было договариваться со своим сапожником. Понимаешь? Чтобы он на тебя тратил душевные силы, на заботу о тебе, на размышления о том, каково тебе, чтобы в твое отсутствие он размышлял о тебе.
Думаю, что много несчастных браков начинается именно с этого — с душевной заботливости, которую часто принимают за любовь и которая, может быть, и есть любовь, но за которую заплатить любовью нельзя.
Плохо мне, Володя.
Не могу похвастаться ясностью и четкостью своего поведения с Козыревым.
Мне было одиноко и тоскливо, он… впрочем, какое тебе до этого дело.
Будь здоров.
Козыреву я даже ничего не написала.
И не напишу.
И тебе, мой дорогой человек, долго не стану писать. Это я плохо выдумала — эти неотправленные письма. От них не легче на душе, а только труднее. Буду теперь тебя забывать. Это, разумеется, нелегкая работа, но я постараюсь. Мне будет, конечно, очень мешать то, что я волею судьбы оказалась немножко медиком, но и это минует.
Кстати, Козырев, узнав, что я геолог, сманивал меня в саперы.
Теперь он далеко от меня, и, наверное, мы больше никогда не увидимся.
И с тобой мы никогда не увидимся.
Прощай!
Я устала тебя любить!
Декабрь. Заполярье».
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТНИКА ДОКТОРА ГУГО ХУММЕЛЯ
— Ничего я не понимаю! — раздражаясь, как ему показалось, очень громко сказал Устименко. — Есть тут кто-нибудь?
В густых потемках жарко натопленной землянки колыхнулся желтый коптящий язычок каганца.
— Сейчас вы будете спрашивать «где я?», — ответил Цветков. — «Где я», «что это», а потом, как в одной пьесе: «Мама, дай мне солнце!»
Володя промолчал. Цветков выглядел огромным, невозможно плечистым, сказочной громадиной в своем полушубке, в ремнях, весь обвешанный оружием.
— Подождите, старик, я сейчас разденусь, понимаете, только что ввалился…
— Откуда?
— С войны. Воюем помаленьку. Вы еще не забыли в вашем небытии, что нынче война?
— Не забыл. А что, собственно, со мной случилось?
— Шут его знает! — с грохотом сбрасывая с себя оружие, ответил Цветков. — Во всяком случае, ранены вы не были, что же касается до некой острой инфекционной болезни, то разве тут разберешь? Во всяком случае, вы едва не отдали концы…
— Ну да? — удивился Володя.
— Вот вам и ну да! Так что это очень хорошо, что вы наконец очнулись…
Положив свою тяжелую ладонь на Володино запястье, он посчитал пульс, вздохнул и рассказал Устименке, что выходила его Вересова — дневала и ночевала тут.
— Разочаровавшись во мне, переключилась на вас, — с тихим смешком добавил он. — Вы, с ее точки зрения, человек с большой буквы…
Было слышно, как Цветков ел, потом долго, гулкими глотками пил воду. Желтый огонек каганца медленно кружился перед Устименкой. Со вздохом он закрыл глаза и опять задремал надолго. Потом вдруг в полусне вспомнил про своих раненых, испугался и беспокойно, с сердитой настойчивостью стал выспрашивать Цветкова подробно про каждого. Тот так же подробно рассказал: все выздоровели, вернулись в строй, только у Кислицына какие-то нелады с ключицей, вот поправится Устименко, будет видно — здесь оперировать или отправить на Большую землю.
— А есть связь? — спросил Володя.
— Всенепременно. Тут, Владимир Афанасьевич, все всерьез, это не наш, светлой памяти, летучий отряд…
Володя с трудом соображал: сколько же времени прошло, если раненые, да нелегкие, вернулись в строй?
— Времени прошло порядочно, — неопределенно ответил Цветков.
Они помолчали.
— А наш доктор-немец? Помните, которого мы оперировали?
— Умер, — раскуривая самокрутку, не сразу сказал Цветков. — Похоронили мы нашего немца.
Володя закрыл глаза: до сих пор он не мог еще привыкнуть к тому, что люди вот так умирают…
— Что он был за человек? — погодя спросил Устименко. — Вам удалось выяснить?
— Очухаетесь — расскажу! — коротко пообещал Цветков и, растянувшись на своем полушубке, сладко заснул.
Поправлялся Устименко вяло. Силы не прибавлялись, есть не хотелось, но голова была ясная, мысли — стройные. Лежа подолгу один, он подбивал итоги — так сам он на досуге называл свои размышления. А подумать было о чем — жизнь, такая простая, как она представлялась ему еще совсем недавно, вдруг усложнилась, наполнилась новыми, не укладывающимися ни в какие схемы фактами; люди, которых делил он с ходу на положительных и отрицательных, теперь представлялись ему совсем иначе, чем даже в Кхаре, и больше всего занимал его мысли Константин Георгиевич Цветков: все было перемешано в этом человеке — высокое и низкое, дурное и хорошее, настоящее и поддельное. И так невыносимо трудно было Володе разложить на соответствующие полочки это «разное» в Цветкове, что с «итогами» тут решительно ничего не вышло, одно только было предельно ясно: та мерка, с которой раньше Володя подходил к людям, сломалась, а новую он еще не завел.
Думал он и о Холодилине, и о Вере Николаевне, новыми глазами присматривался ко всем навещавшим его товарищам по летучему отряду «Смерть фашизму». И каждый раз убеждался, что те ярлычки, которые он приклеивал к людям, — если, конечно, копнуть поглубже — не соответствовали первым его впечатлениям: Кислицын, например, вовсе не был «старым солдатом, добрым человеком и надежным товарищем». То есть все это в нем содержалось, но не эти внешние, всем видные, на самой поверхности находящиеся черты характера определяли нравственное содержание Кислицына. И одессит Колечка Пинчук не был «беззаветным храбрецом», «душой отряда», «первым заводилой». Он выучил себя не показывать, что ему страшно, приучил себя к совершенно механическим шуткам, а одесские его шутки были взяты им не из жизни, а у эстрадников и из кинокартин. Но все это, вместе взятое, не делало Колечку хуже, наоборот, он был даже лучше, вынудив себя быть необходимым отряду этими выработанными в себе качествами, однако же ярлычок Устименки и здесь оказался ошибочным. Простенький с виду Ваня Телегин был вовсе не прост по существу, с независимым и даже нагловатым видом он умел услужить начальству, умел угадать настроение Цветкова и исправить это настроение, что шло, разумеется, на пользу дела, но и на пользу самому Телегину. Бабийчук, при всех своих положительных качествах, был прижимист, всегда имел запас курева, знал, как о себе лично позаботиться, и, заботясь о других, тем самым, в первую очередь, заботился о себе. Самый же простоватый по виду из всего отряда, Цедунько, был самым хитрым, «хитрее самого себя», — это для Володи было неожиданным открытием, но главным открытием во всех этих размышлениях с подбиванием итогов для Устименки оказалось то, что в отряде все друг друга знали, отлично разбирались друг в друге, подтрунивали, посмеивались и поругивались, но при всем этом относились один к другому серьезно, уважительно и спокойно. Впрочем, все это выразил коротко и довольно точно, попивая как-то в Володиной землянке крепко заваренный немецкий эрзац-кофе, бывший начхоз бывшего отряда «Смерть фашизму» Павел Кондратьевич Копытов.
— Та мы ж не ангельчики, — сказал он, улыбаясь в сивые, неподстриженные усы. — Ангельчики на небе токуют, в облачках. А мы — нормальные советские бойцы, вообще-то гражданские трудяги. Вы, Владимир Афанасьевич, как я вижу, сильно много от человека хотите получить, как от того ангельчика. Так я вам так отвечу: с другой стороны, даже ангельчик не способен то сделать, что наш боец делал на марше. Прокис бы ангельчик, хотя и насквозь от чистоты светится. А мы — ничего! Достигли, задачу на сегодняшний день выполнили…
Как-то вечером, когда у Володи сидела Вересова, пришел Лбов. Строгий, подтянутый, холодно-вежливый, он посидел немного, сообщил, что «принял решение переправить Устименку на Большую землю, так как с его непонятной болезнью в условиях партизанской жизни не управишься», осведомился, нет ли у больного каких желаний, и положил на одеяло две пачки московских папирос «Люкс».
— Ему же вредно! — укоризненно сказала Вера Николаевна.
— Война вреднее! — усмехнулся Лбов. — Я, кстати, товарищи доктора, до войны болел — и язва у меня, и с сердцем неладно. А вот нынче как рукой сняло. Наука это объяснить может? И кстати, больше всего болел, когда книгу свою писал…
— Вы писатель? — удивился Володя.
Лбов, вдруг сконфузившись, ответил:
— Ну уж, сказали! Я директор совхоза был и очень увлекся куроводством. Накопил некоторый опыт и хотел им поделиться с народом…
— Про куриц? — совсем уж неприлично удивился Устименко.
Лбов немножко обиделся:
— Да, про куриц! А что удивительного?
— Нет, я просто думал, что вы кадровый военный.
— Был и в кадрах, — поднимаясь, ответил Лбов.
«Курицы — и этот крупный, волевой подбородок с ямочкой, великолепный отряд, о котором фашисты говорят с ужасом, а Лбов — директор совхоза. Разве не странно?» — думал Володя, когда дверь землянки захлопнулась.
— О чем вы все размышляете? — спросила Вересова.
— О том, куда наш Константин Георгиевич девался, — соврал Володя. — Вторую ночь не ночует…
— А он с подрывниками ушел, с минерами. Он же не воевать не может, ну и врач им всегда понадобится. Очень тут его нахваливают, прямо души в нем не чают…
Глаза ее потеплели, как всегда, когда она вспоминала Цветкова, но заговорила она о нем каким-то странным, официальным языком, словно это была справка из энциклопедии или некролог:
— Удивительно энергичный, волевой человек. С огромными перспективами, вы не находите, Владимир Афанасьевич? Разносторонне одаренный, и способный хирург — я ему не раз за это время ассистировала, — и организатор блестящий, и масштабы поразительные. Жалко будет, если застрянет он партизанским врачом на всю войну. Я вижу его на очень, очень крупной работе…
Володя тихонько зевнул: никогда он толком не понимал Веру Николаевну. Что означает это — застрянет партизанским врачом?
Но она уже говорила о другом — о влюбленном в нее летчике с красивым и книжным именем Кирилл: какой он умный, добрый, какое у него «щедрое сердце» — она так и выразилась и даже повторила эти два слова, ей нравилось говорить именно так. Потом она сказала, что Кирилл такой же «большой ребенок», как и Устименко.
— Почему это я большой ребенок? — вдруг рассердился Володя.
— Ах, да не спорьте! — прижимая пальцы к вискам, как при головной боли, сказала Вера. — Вечно вы спорите. Мы, женщины, гораздо лучше все про вас знаем, чем вы про себя. Вот вы, например, будете крупным ученым, понятно вам? И никакой вы не организатор, никакой не начальник. Вы типичнейший первооткрыватель, ученый, немножко рассеянный, немножко бука, немножко слишком настороженный к человеческому теплу, к участию…
«Да она, оказывается, пошлячка!» — тоскливо подумал Володя.
И, воспользовавшись своим правом больного, сказал:
— Вы не обижайтесь, Вера Николаевна, но я спать хочу.
Она ушла, все-таки немножко обидевшись. А среди ночи ввалился Цветков голодный, веселый, шумный, вытащил из кармана немецкую флягу, из другого — немецкие консервы, из третьего — немецкие галеты. Глаза его блестели; громко чавкая, глотая из горлышка фляги ром, даже не сбросив полушубок, он стал рассказывать, как «рванули составчик», как взрывом подняло и свалило оба паровоза, как еще долго потом горели цистерны с бензином и как били партизаны из автоматов по гитлеровцам.
— А раненые? — спросил Устименко.
— Раненые? Двое! — рассеянно ответил Цветков. — Пустячные ранения. Вот фрицам досталось — это да! Четыре классных вагона, один перевернулся совсем, а другие с откоса ссыпались. Немцы — в окна, но, по-моему, никто не ушел.
— Послушайте, — сказал Володя, — вы же обещали мне рассказать про этого немца-доктора.
— А, да! — нахмурился Цветков. — Но понимаете, какая идиотская штука. В войну трудно думать о таких вещах: мешают размышления. Мне-то еще ничего, а вот таким натурам, как вы, оно просто, я предполагаю, вредно…
— Вы только за мое политико-моральное состояние не беспокойтесь!
— Решили зубки показать? — вглядываясь в Володю, спросил Цветков. — Они у вас имеются, я знаю…
Задумавшись, он выкурил подряд две Володины папиросы, хлебнул еще рому и попросил:
— Только, добрый доктор Гааз, не треплитесь сейчас об этом факте. Ни к чему. Понятно?
Он скинул полушубок, потянулся всем своим сильным телом и пожаловался:
— Это не гуманно, Устименко. Я с работы пришел, мне спать надо, а тут рассказывай…
Но Володя видел, что Цветкову уже самому хочется рассказать, что сегодня он непременно расскажет, не сможет не рассказать.
И Цветков рассказал.
Еще в самом начале сентября у одной бабки, лесниковой вдовы, проживающей на так называемой Развилке, захворал внучонок. Мать мальчика была застрелена каким-то пьяным гитлеровцем, отец — в армии. Полубезумная, плохо соображающая старуха с умирающим ребенком на руках пришла в село Заснижье, где расположилась немецкая воинская часть, и, увидев во дворе избы своего кума Левонтия, толстого человека в белом медицинском халате, прорвалась в ворота, рухнула перед толстым немцем на колени и, голося, протянула ему ребенка. Толстяк этот и был наш с вами доктор Хуммель, по специальности педиатр, специализировавшийся на детской хирургии. Осмотрев здесь же, во дворе, ребенка, Хуммель ввел ему противодифтерийную сыворотку и велел старухе проваливать. Ни единого человеческого слова он ей не сказал и смотрел, по ее словам, «зверюгой».
Ребенок выздоровел.