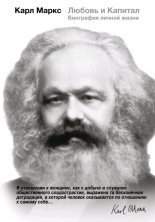Неадекват (сборник) Варго Александр
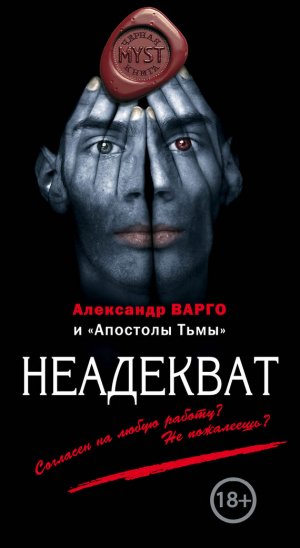
Здесь ты нужен
Смирение приходит неожиданно.
Внезапно: разбитым хрустальным бокалом, штормовой волной, уколом в сердце, проколотой покрышкой. Так супруги в один миг понимают, что любви между ними больше нет. Так я осознаю, что смирился и нахожусь на полпути к варианту номер один.
Снова тянутся дни, наполненные привычными хлопотами по дому и бессмысленными занятиями с Колюнечкой. Наполненные рутиной, мелочными повседневными заботами, которые ничем не отличаются от застенных, ежедневно нагружающих людей по ту сторону нашей реальности…
Пашок косится на меня виновато и с сочувствием. Будто человек, который «предупреждал, а его не слушали». Валентин Дмитриевич с разговорами не пристает, хотя я и вижу, что он копит силы и слова. В поведении Марины добавляется больше легкости, походка становится плавной, напряжение уходит из плеч и шеи. Она неожиданно осознала, что теперь объект вожделения этого дома не покинет. А значит, покорение строптивой вершины – лишь вопрос времени.
Виталина Степановна мой душевный надлом воспринимает спокойно и заботливо. Сижу на кровати, задумавшись и уставившись в блекло-синюю стену. Она вдруг подходит, на секунду присаживается рядом и заботливо гладит мою руку своей шершавой, морщинистой ладонью.
Шепчет:
– Никакой разницы, Дениска… Никакой.
Не скажу, что в этот миг испытываю благодарность или умиротворение. Но даже от такого странного проявления сочувствия становится чуточку теплей…
Как это ни удивительно, но после убийства бригады мне начинают доверять чуть больше.
Без присмотра Эдика пускают прибраться в художественной мастерской и винном погребе. Меньше чем через неделю после происшествия с ассенизаторами я даже отряжен получить очередную посылку. Какую-то новую игровую приставку, если не ошибаюсь, заказанную для малыша.
Я потерян, до икоты напуган, лихорадочно и безуспешно ищу подвох. Но распоряжение мажордома исполняю. За получение коробки расписываюсь через порог калитки, даже не помышляя выйти наружу. Не этого ли добивался Особняк?..
Заперев замок, послушно возвращаю ключ Пашку. Тот удовлетворенно кивает в ответ.
Даже если мы выберемся из этих стен, где нас кормят, поят и трахают с регулярностью элитного курорта, красным зубастым стенам никогда не выбраться из нас. Я больше не желаю физической свободы. Потому что она – лишь иллюзия, подвергающая опасности совершенно посторонних людей, вроде Лехи или Василича…
– Ты стал моим самым настоящим другом, – доверительно сообщает Колюнечка на одном из занятий.
– Теперь мы всегда будем вместе-привместе, – говорит он, отламывая мне половину химозной американской конфеты.
– Я тебя люблю и никогда-никогда не брошу, – добавляет мальчик, старательно рисуя в тетради непостижимые цветные каракули.
Переступив грань, я начинаю испытывать к маленькому обжоре нечто вроде любви.
Нет, не любви… Скорее – жалости, помешанной на теплоте и привязанности. Что-то сродни обреченному взаимопониманию, в основе которого неизбежность совместного существования.
Вскоре он еще несколько раз пытается меня укусить. Другие – нет. У них, судя по всему, иные жертвы. Иные «друзья на всю жизнь». Этот – пытается. Ведь он никогда меня не бросит…
Сначала в виде игры, свинцовой чушкой просясь на ручки и выискивая подходящий момент. Затем все более требовательно и плаксиво, настаивая и принуждая. После уроков заставляет сидеть на полу среди разбросанных игрушек. Сидеть смирно, пока сам крутится за спиной, клацая зубами и пытаясь то ли поцеловать в шею, то ли прокусить…
Людей не пугает описание вампирского укуса.
Одно дело рассказать: «И тут меня по ладони резанули скальпелем». Собеседник сразу вообразит взмах стали, жгучую боль; расползающуюся в зловещей улыбке рану и поток горячей крови. Он будет сопереживать, ведь подобное может произойти с каждым.
Когда же некто читает про укус вампира или видит его по телеку, эмоции совсем другие. Его не берет. «Ну да, – думает человек. – Это, наверное, больно, ведь даже кровь пошла». Неприятно уж точно.
Но зритель не готов даже на секунду представить, каково это – почувствовать на своей шее нежеланные губы, горячие и липкие, будто плоть древнего моллюска. Каково это – когда под поцелуем податливо приподнимается кожа, словно под нагретой лечебной «банкой»; как по позвоночнику разбегается гадкая чесотка, темно-фиолетовое предвкушение беды. Когда клык – длинный и чуть изогнутый, с неровной и колкой бороздкой-канальчиком на внутренней стороне – протыкает плоть. Не вспарывает отточенным ударом, а протыкает со статическим усилием. И есть в этом действе что-то безысходное. Наводящее на мысли об изнасилованных девственницах и навеки потерянной чистоте…
А потом жертва слышит всхлип, сочный и жадный, от которого начинает тошнить. Но она держится, чтобы не разозлить кусающего. Сжимает кулаки. Чувствует тянущую боль, когда густая энергия красного цвета несколькими рывками покидает тело, а содержащиеся в слюне гада токсины парализуют и медленно анестезируют место укуса…
На мое счастье, у Колюнечки пока не получается.
Он все так же капризно накидывается со спины. Я как будто бы не замечаю. И даже заблаговременно расстегиваю воротник рубахи, чтобы не испачкать одежду в шоколаде. Мальчишка обвивает мою шею ручонками, почти минуту мусолит кожу. Царапает, сученыш, да так, что ранки потом нагнивают и сочатся вонючей сукровицей.
Как бы то ни было, затем отпрыск Особняка уходит ни с чем. Так и не научившись, разуверившись в своих силах, обиженный на весь белый свет и горько рыдающий. Провожаю его взглядом, в котором смешаны сострадание и ненависть. Потому что даже после пережитого здесь мой примитивный человеческий мозг отказывается видеть в Колюнечке тварь. Убеждает, что это лишь глупый испорченный ребенок.
В такие моменты я скрещиваю пальцы и призываю на голову мальчишки самые страшные проклятья, какие только могу выдумать. Потому что знаю – рано или поздно настанет ночь, когда ублюдок вырастет и сумеет…
Мать выродка, Петр и Жанна, глядя на наши забавы, умиляются и продолжают баловать меня своим вниманием.
– Денисонька, у тебя все в порядке? – заботливо спрашивает Алиса, следом интересуясь, не нужно ли поменять нам матрасы или перекрасить стены.
– Я вижу, ты близок к просветлению, мой мальчик, – с довольной улыбкой на щекастом лице признает Петя, встречая меня в одном из коридоров. Он улыбчив и непрозрачен, как свежий, еще не закостеневший янтарь.
– Если чего-то захочется, проси, – деловито кивает Константин, все реже посещающий наши занятия с его сыном.
– Ты ведь останешься на Ирлик-Кара-Байрам? – требовательно спрашивает Колюнечка, хватая мою ладонь своей пухлой и неестественно ледяной. – Праздник Перевернутого Солнышка? Это в августе, совсем скоро, я уже так его жду-жду…
От одного названия мне становится дурно. Будто поднес к губам бутылку с минеральной водой, а глотнуть довелось керосина. Веет чем-то древним, алтайским, неожиданно напряженным. Мысли ломаются пополам хрупким ноябрьским льдом. И не от того, что я услышал из уст ребенка непривычное слово. А от внезапного осознания, что до августа я могу покинуть дом…
Опека, окружающая меня, становится липкой патокой, в которой невероятно легко увязнуть. Поступки существ, населяющих усадьбу, отныне выходят за границы привычного понимания и устоявшихся оценок. Наполняют душу мазохистической покорностью, за которой виднеется нирвана.
– Успокойся, – миролюбиво предлагает Жанна. – Ты осознал, что окружающему миру плевать на твои любовные переживания или жизненные проблемы? – спрашивает она, ласково ведя ладонью по моей щеке. И констатирует: – Так смирись. Здесь ты нужен.
Я – будто перепрограммированный робот. Теперь точно знаю, что моя госпожа говорит правду.
За стенами этого дома до меня уже давно никому нет дела. За тридцать лет жизни некоего Дениса окружающие люди так и не научились видеть его уникальных душевных терзаний, пока он сам не давал о них знать. Пока не напрашивался…
Теперь я белый. Как сияние в конце тоннеля, ведущего на другой берег мирозданья. Как марлевые шторы старинного лепрозория.
Смиренно отстраняюсь.
Этому приему я обучился не в Особняке – гораздо раньше. За годы бродячей жизни привык вести себя правильно. Говорить с людьми, мутить делишки, гнить на временной работе. Научился замыкаться в себе. Как садиться внутрь человекообразного робота с собственным именем в паспорте. Пока он функционирует за меня, я нахожусь где-то на нижних палубах, подальше от всего мира. Сжигаю себя терзаниями и сожалениями, не имеющими никакой ценности для остальных.
Когда-то я был готов впустить в этот бункер одного-единственного человека. Да только одному туда было нельзя. Второму было плевать. А третьего так и не нашлось на моем пути.
Нет, такому поведению я научился отнюдь не в Особняке…
Но тут довел это искусство до совершенства.
Это сродни гипнозу, погружению в транс. Отчетливо понимаю, что происходит со мной, остальными подвальщиками или хозяевами. При этом превращаюсь в капитана корабля, ведомого сломавшимся автопилотом – сколько бы я ни жал на кнопки, ничего не происходит, управление перехватили. Больше не испытываю апатии. Почти естественно бодр и исполнителен, член встает по установленному Жанной расписанию.
Осознаю, что мной пользуются.
Но при определенных условиях учусь получать от этого удовольствие…
Даже погрузившись на самое дно себя, не оставляю наблюдений. Может, по привычке, может – с надеждой на окончательное прозрение. Старательно фиксирую любой уход Эдика в подвал, отмечаю каждую знаменательную ночь и ищу закономерности. Все больше сопоставляю. Пусть и сонно, но все чаще вслушиваюсь в скрежетание каменных жерновов. В их ритм и темп. Веду персональный мысленный календарь, как первокурсница, чутко следящая за графиком месячных.
Кажется, я не ошибся в догадках.
Впрочем, пока это не так важно…
Пуговицы на месте
Однажды вечером Чума все же решается снова заговорить со мной.
Не просто обменяться ничего не значащими фразами или попросить денег. Как и прежде, усаживается на пустую соседнюю кровать, вертя в пальцах старенький портсигар.
Он догадывается. Скорее всего. Или Особняк намекает ему. Но Чумаков уже почти разгадал загадку и потому старается быть ближе.
– Я ведь не побоялся тогда стрелять в овраг, – говорит он тихо, чтобы не расслышали другие. – Храбрости было на семерых, Диська. А все равно не выстрелил…
Зажимаю пальцем страницы в новеньком томике Джорджа Мартина, доставленном на прошлой неделе. Подтягиваю подушку, сажусь на кровати чуть выше, чтобы наши лица были почти на одном уровне. Что именно подсказывает Чуме сердце? Что именно нашептывает ему дом?
– Знаешь, я тогда это за приход принял, – говорит он, изучая свое исцарапанное отражение в серебристой крышке портсигара. – Мысли словно белилами обрызгало, только недавно вспомнил. Мозговой известкой, так я тогда это назвал… Глупо звучит, да? Но кровь с мозгов как будто смыло, клянусь тебе! Потому стрелять и не стал. Сохранил жизнь, понимаешь?
Говорю:
– Зачем ты мне это снова рассказываешь?
Он вздрагивает. Поднимает голову и какое-то время не может сфокусировать взгляд. Смотрит на книгу в моих руках, синяки на шее, кровоподтек на локте, где хваталась Алиса. Пожимает плечами.
– Ты должен знать ответ, Диська, – беспомощно отвечает Валентин Дмитриевич, и его тощая грудь поднимается в слабом вздохе. – Ты ж верующий, Диська, да? Книги умные читаешь, верно? Что скажешь, простят меня на том свете?
Откладываю книгу на тумбу. Медленно, как готовящийся к операции хирург, стараясь не совершать ни одного лишнего движения. На какое-то короткое мгновение кажется, что я действительно могу освободить его душу, если заставлю уверовать в прощение. В отстирывание грехов.
Он добавляет, словно оправдываясь:
– Ты чистый, Диська.
– Ты многого обо мне не знаешь…
– Да кому ты лечишь? – Валек морщится. Отмахивается портсигаром, бросив на стену яркий блик от прикроватного светильника. – Думаешь, я грязи человечьей не видел? Чистый ты, дурень. Ломаный, изуродованный внутри, но чистый…
– Поэтому ты и выбрал меня в качестве исповедника?
– Наверное… – Старик – а теперь он выглядит именно стариком – вздыхает, его плечи поникают. – Тянет меня к тебе, Диська. Словно судьбой нам было предначертано. Ничего поделать не могу с этим…
Отвечаю спокойно и размеренно, стараясь не выдать бушующих внутри эмоций:
– Глупо. Судьбы не существует. Не существует ни причин, ни следствий.
Он не слышит. Вскидывается, что-то вспомнив, и снова открывает рот:
– А еще я мальчишку того не тронул! Помнишь, рассказывал?
Я замираю. Каменею. Сливаюсь цветом с простыней и пододеяльником, на которых полулежу. В моих венах лед. В моей голове пустота, в которую можно кричать, будто в бездну.
Чума проводит пятерней по редким волосам.
– Немного дел хороших в жизни совершил. Но может хоть эти зачтутся? – Его глаз дергается в нервном тике, лицо бледнеет, на нем выступают порезы от бритья и сыпь на шее. – Не знаю, что было это – сострадание или белила все те же… Побродил по квартире его, перед дверью туалетной постоял. А потом развернулся и ушел. Не смог. Жалел сначала, за слабость себя упрекал. А теперь горжусь…
Влажными воловьими глазами он смотрит в мои – сухие, словно чилийская пустыня Атакама. Стискиваю зубы, чтобы не застонать. Левой рукой впиваюсь в собственное бедро, чтобы болью щипка изгнать неудержимое желание броситься на Чумакова и превратить его лицо в пурпурную кашу.
– Как думаешь, Диська? – похожий на заводную механическую шкатулку, повторяет Валентин Дмитриевич. – Зачтется мне? Смогу хоть часть грехов искупить? Ну, если вдруг доведется… как Санжару…
Я подаюсь вперед. Преодолеваю отвращение. Собираю в кулак всю силу воли, всю ярость и злость, все осознание его только что произнесенных слов. И говорю:
– Ты верующий, значит?
От неожиданности Чумаков снова вздрагивает. И даже тянется под майку, чтобы показать алюминиевый крестик на льняном шнурке. Замирает, вдруг увидев что-то в моих глазах, а я продолжаю:
– Тогда тебе будет интересно кое-что узнать.
И добавляю весомо, размеренно, не позволяя ни отвести взгляда, ни перебить себя:
– Самая коварная ловушка христианской религии состоит в том, что она декларирует возможность прощения. Как высшего, небесного, так и вполне обыденного, земного. Эта приманка, словно мираж в пустыне, манит к себе слабых. Всех тех, кто готов поверить, – вот сейчас я совершу грех… совершу самое страшное преступление в своей и чьей-то жизни. А потом покаюсь, и меня простят.
Глаза Чумакова стекленеют. Он замирает, как бандерлог под гипнотическим взором сказочного удава.
– Это – чудовищное заблуждение, – шиплю я, уже не заботясь, что разговор могут услышать Пашок или Виталина Степановна. – Никакого прощения нет. До самого конца – каким бы он ни оказался, физическим или духовным, – ты будешь нести груз совершенных поступков. Нести, пока он не раздавит тебя в лепешку. Эхо свершений и достижений будет отдаваться в твоем сердце и в этой жизни, и в последующих, если таковые возможны. И может быть, когда-нибудь ты поймешь, как жестоко был обманут, а прощения – не существует.
Кажется, Валентин Дмитриевич седеет. Как на ускоренной перемотке в будущее.
Словно духовные белила, о которых он только что распинался, вдруг стали просачиваться сквозь кожу его головы, от корней подкрашивая редкие пшеничные волосенки. Челюсть опускается, но изо рта не вырывается ни звука.
Я безжалостно улыбаюсь.
Не могу избавиться от ощущения гадливости собственного поступка. Но и с улыбкой ничего поделать не могу. Лыблюсь все шире и шире, не спуская с него взгляда. Торжествую и презираю одновременно. И потому, упивающийся запретным, совершенно не замечаю, что надлом в моей душе становится все шире…
– Вот значит как? – хрипит Чумаков.
Поверил! Пусть на миг, пусть на долю мига, но он поверил мне. Поверил в то, что не найдет прощения – ни в этом мире, ни в каком-либо другом. От ужаса, охватившего Чуму в этот мимолетный момент, я испытываю множественный тантрический оргазм.
Лицо Валентина начинает менять гримасы.
Вот на нем застывает одно выражение, но уже через миллисекунду оно сменяется совершенно иным, чтобы уступить третьему. И сколько бы их ни было, я даже мельком не вижу раскаявшегося и потерянного старика, стоящего на грани полноценного искупления.
Сквозь тонкую желтоватую кожу я ухватываю только истинные обличья этого человека. Самые разные, но все они – плоть от плоти Валентина Чумакова: хладнокровный убийца, насильник, бандит, наркоман, матерый уголовник и жулик, человек без принципов, волк в человеческой маске, пиявка, безмерно затянувший существование ленточный червь…
Он ужасен. Многократно ужаснее существ, притаившихся в недрах дома над нашими головами. Многократно ужаснее диктаторов, преследующих некие общие, признаваемые объективными цели. Многократно ужаснее испытаний нового оружия, способного сохранять жизни целых народов…
Паладин энтропии скалится, вдруг потеряв последнее, что связывает его с человеческим родом. Рывком встает и уходит прочь.
Тяжело откидываюсь на подушку.
Сил нет, будто пробежал марш-бросок. Эмоций нет. Чувств нет.
Я отмщен, но раздавлен. И в очередной раз осознал, что больше не хочу…
Люди, живущие рядом со мной, многим страшнее тварей, пришедших в наш город из алтайского прошлого. Именно так я думаю о тех, с кем коротал время под сводами душного подвала. Именно так я думаю о тех, с кем жизнь сводила меня снаружи. Мой ментальный бомбардировщик сбит, горит и падает. Мысленный твиттер заблокирован, как и страницы в социальных сетях. Я больше не различаю цветов.
Поднимаюсь с кровати, не совсем понимая, что делаю.
Следующее, что помню – Пашка, с воплями выдирающего из моей руки окровавленный кухонный нож. Марину, пытающуюся перетянуть разодранное запястье полотенцами и собственным фартуком. Виталину Степановну, деловито вставляющую в швейную иглу тонкую капроновую нить.
– Так ведь все пуговицы на месте, – невпопад говорю я старухе, и та дружелюбно улыбается в ответ.
Теми же пальцами, что зажимали нос малышке, вливая в ее горло концентрат для чистки труб, она прихватывает края раны и начинает деловито шить. Пашок наваливается на плечи, прижимая меня к кафелю пола, а Марина вставляет в зубы хвост кожаного ремня.
План номер один сорвался, даже не будучи толком подготовлен.
Но красные муравьи, потоком выползающие из раны на моем запястье, нашептывают, что свой запасной сценарий я обязан подготовить куда более предметно…
Мне сказал дом
Я не верю во фразу «самое дно».
Потому что хорошо знаю – если тебе кажется, что ты упал как нельзя ниже, жизнь тут же преподнесет очередной сюрприз, показав всю бездонность колодца. Его многоэтажность, один потайной уровень за другим.
Раз уж начал падение, остановить его практически невозможно.
Тем ужаснее то, что я собираюсь сделать дальше.
Ощупав тесноту вертикального тоннеля, в который рухнул, беру лопату и начинаю копать. Сквозь твердое земляное дно, сквозь булыжники остатков человечности и керамические осколки сомнений, которыми я больше не дорожу. Еще глубже, еще ниже, туда, где никогда не гостит солнечный свет. Откуда совсем не видно звезд.
Закапываю себя заживо, но понимаю – для задуманного мной других способов нет…
Пока не зажила рана на руке, я снова отстранен от занятий с Колюнечкой.
Тот переживает, капризничает и все время пытается найти возможность встретиться со мной во дворе или коридорах дома. Послушно болтаю с ним о ничего не значащей ерунде. Даже угощаюсь его конфетами. А затем приходит Гитлер. Глядит на меня, как на пустое место, и уводит мальчишку прочь…
В такие моменты мне начинает казаться, что он не доверяет запаху крови, способному пробиться через бинты повязки. Словно опасается – если Себастиан вообще способен чего-то опасаться – что щенок одуреет и бросится на меня, впиваясь губами в шов. В такие моменты мне начинает казаться, что вживленное под кожу лопатки зелье покинуло меня при неудачной попытке суицида. Что, испачкавшись, я отчистился.
Вообще-то мне было не впервой…
Однажды я пытался сам. На рубеже размена третьего десятка, когда от романтической утраты чуть не треснуло глупое сердце. Когда болело так нестерпимо, что казалось – больше в жизни меня не ждет ничего путного. Так, по сути, оно и было… И все равно сейчас я нахожу тот поступок весьма идиотским. Уединившись в одной из комнат частного дома, где мы делаем первые робкие шаги в познании дурмана всех мастей, я закидываюсь целым коктейлем колес. Запиваю водкой. Осознанно и обреченно, как и любой слабак сопоставимого возраста.
Откачивают.
Затем следуют попытки чуть менее осознанные, но еще более неизбежные – от передозов, едва не оборвавших тонкую нить моего беспорядочного и асоциального существования. Один раз спасает «Скорая». Второй – добрые товарищи, не позволившие захлебнуться блевотой.
Еще несколько раз меня едва не сбивает машина. На трассе, конечно же, на много лет ставшей моим домом. Это, по сути, тоже неизбежность – знаю очень немного стопщиков, ни разу не побывавших под шинами и бамперами. И снова я выживаю, хотя считать лихачей с вырубленными фарами за шанс добровольно покинуть жизнь все же не привык.
У меня было немало друзей, знакомых, одноразовых приятелей и приятельниц, ушедших по личной воле. Или по воле героина, если угодно. По ним горюют, их оплакивают, их винят и прощают. Затем, вдохновленный наглядностью примера, кто-то даже завязывает, покидая компанию. Но большинство все равно возвращается к прежним занятиям, убивая свой мозг и тело любыми доступными способами. Единственное, что я запомнил с многочисленных поминок людей, часть которых знал только по прозвищу, – если откачали, обязан жить…
Именно этому принципу я следую, продолжая углублять свой ментальный колодец.
Не до конца понимаю, что именно делаю и поможет ли это перехитрить дом и его обитателей. Но живу, с каждым новым ударом лопаты зарывая себя все глубже и глубже. Это сопоставимо со смирением. Это, по сути, и есть смирение еще более обширного, вселенского масштаба. Смирение с правилами игры, которую я намерен довести до конца…
Скрипит качельная цепь.
Мы еще в начале лета установили в одном из углов двора не новый, но весьма крепкий детский городок – горку, пару лестниц, соединяющие их канаты для лазанья и подвесную качель. Чтобы подлатать набор, Чуме даже пришлось поработать сварочным аппаратом. Смазываем петли каждую неделю, но стоит Колюнечке провести на комплексе хотя бы десять минут, вся конструкция начинает безбожно стонать.
Как и сейчас, пока я подновляю белоснежные бордюры на отмостке вокруг дома.
– Мама говорит, вы больше не справляетесь, – доверительно сообщает мне мальчишка, мерно раскачивая свое пухлое тельце. Сосредоточенно работаю брызжущей кистью и почти не слушаю. Но тут он добавляет: – Скоро придет новый. Я слышал, как его позвали. Как думаешь, он сможет стать нашим с тобой другом?
Я слушаю. Впитываю. Понимаю.
– Ненавижу, когда ты такой злой, – говорит Колюня и резко падает со скамейки.
Начинает плакать, еще не долетев до земли. Кривится, потирает ушибленное колено. Привлекает внимание, словно самый обычный ребенок. Голосит так, что на втором этаже начинают двигаться шторы.
– Вставай, – говорю ему подходя, но не спеша протягивать руку.
– Помоги.
– Ты упал специально. Значит, и встанешь сам, – не знаю, зачем произношу слова, не имеющие ничего общего с нечеловеческой сущностью маленького засранца. Но говорю больше себе, чем ему. – Научишься вставать сам – станешь сильнее.
– Но ведь ты же мой друг, – отвечает он снизу вверх.
Тянет ручонки, по лицу катятся слезы. Чувствую на спине оценивающий взгляд – это или Константин, или Алиса. Ждут, как поступлю. Заглядывают в душу. Нагибаюсь, поднимая плаксу с сухой теплой травы. Он утирает нос и добавляет:
– Надеюсь, новенький будет добрее… Иногда, Денис, ты бываешь несносен.
Молчу, слушая и сопоставляя. И тем же днем иду к Эдику, чтобы предложить:
– Нам нужен еще один работник, – вижу его недоверие и удивление. Поэтому говорю с самым безразличным видом, на который способен. – Я могу его встретить. Помню, как это делается.
Мажордом не верит. Спрашивает:
– Откуда ты знаешь?
Отвечаю честно, не прикопаешься:
– Мне сказал дом.
Эдик умолкает, изучая меня с сомнением и тревогой. Но следующим утром освобождает от чистки кухни и сбора малины, отправляя на ворота. Он не может предсказать точного времени и предпочитает подстраховаться.
Пашок провожает меня не без ревности.
А я ухмыляюсь ему довольно и мерзко. Еще на пару метров углубив колодец, в котором отныне покоится душа.
Переодеваюсь. Несмотря на августовский зной, надеваю рубашку с длинным рукавом. Прикрывает широкую марлевую повязку на левом запястье, след неудачного решения номер один. Так я не спугну того, кто должен сначала войти в подвал, а уже потом пугаться.
Эдик инструктирует меня, высматривая. Но не способен прочитать в моих потухших глазах ничего, кроме решимости выполнить просьбу Особняка.
Парень появляется через тридцать минут, в одиночестве проведенных мной у ворот. О том, что улица снова безлюдна, упоминать смысла нет…
Высокий, широкоплечий. На вид лет тридцать, хотя нашему брату обычно дают чуть больше реального, сказывается внешний вид. Одет в спортивную ветровку, когда-то белую, а ныне мышиного цвета, и камуфляжные армейские штаны. На ногах сандалии, за спиной штопаный-перештопаный розовый рюкзак с эмблемой Hello Kitty.
Подходит ближе.
Я – воплощенная расслабленность.
Я – олицетворенный грех.
Я – палач собственной души, но другого выхода нет.
Подходит еще ближе и определенно замечает меня. Нельзя не заметить, дом способен выделывать подобные визуальные фокусы и за пределами своей ограды.
Парень подозрительно щурится и с середины дороги убирается на противоположную сторону, теперь шлепая по траве. Он круглолиц, щекаст и немного водянист, но его излишний вес несравним с жировыми залежами Петра. Тут дело скорее в гормонах и неправильном питании, я такие отклонения у бродяг видеть научился. Стрижется коротко, почти налысо. Носит очки, дужка которых перемотана изолентой и тонкой проволочкой. Перемотана аккуратно, так чинят только любимую и дорогую сердцу вещь.
– Эй, бродяга, работа нужна? – напрямую спрашиваю я, дословно повторяя слова, далекой весной произнесенные Пашком.
И очкастый, словно читая тот же сценарий, замирает, возвращая мне мое же:
– Что делать?
Говорю:
– Разное. Мусор отсортировать. По саду прибраться. Канаву вырыть еще, крышу на сарае подлатать. Дерево выкорчевать.
– Это я могу, – выбранная жертва делает странное – поднимает очки на лоб, несколько раз моргает и снова опускает их на переносицу. – Сколько заплатят?
– Хорошо заплатят, тут хозяева щедрые, – говорю чистую правду. Чувствую, как сжимается отмирающее, слоеное сердце. – Бухаешь?
– Привычки пагубной сей не имею уже более года, – важно отвечает он, снова проводя необычную манипуляцию с очками. И делает последнюю глупость в своей жизни – переходит дорогу и протягивает мне руку. – Андрей. Но можно Покер.
Пожимаю широкую рыхлую ладонь, а затем снова скрещиваю руки на груди.
– Азартный?
– Сдерживаюсь. В основном преферансом увлекался. Еще тысячу уважал. Или блек-джек, в нашей стране более известный как «очко». Но так вышло, что Покер… – Очки снова кочуют на лоб, на переносицу, на лоб и обратно, и я догадываюсь, что так Андрей прячет волнение. – Так сколько заплатят?
– Рублей триста за день работы точно дадут, – продолжаю честно выкладывать я. По какой-то необъяснимой причине у меня нет ни малейшего желания предупредить его, дать знак об опасности или просто послать ко всем чертям. – Еще покормят. А отличишься, так накинут сотню-другую. На чем сидишь?
В глазах Покера мелькает резкое озлобленное недоверие. Словно я вторгся на запретную и заведомо чужую территорию. Спокойно встречаю взгляд, и только теперь бродяга различает во мне собрата по несчастью. Плечи его обмякают.
– Покуриваю, бывает. Но нечасто, – негромко сообщает он. И тут же с ноткой надежды. – А есть что?
– Нету, – мотаю головой, не спеша отлепляться от теплой воротной створки. – Более того, тут с этим строго. Так что, найдется в твоем графике свободное время?
Улыбается, тем самым подписывая себе приговор. Кивает, и я наконец отстраняюсь от нагретых солнцем чеканных маскаронов. Толкаю калитку, пропуская его внутрь, шагаю следом. Как и Пашок когда-то, снимаю с крючка висячий замок и старательно запираю дверь.
Андрей стоит лицом к дому, закинув голову и ладонью прикрывая глаза от солнца. Веселая кошечка на его рюкзаке наигрывает на гитаре, рисованные ноты прячутся под брезентовыми заплатками.
– Ух ты! – Покер говорит с уважением, но зависти в голосе больше. – Вот это хоромы… Цыгане, что ли?
– Нет, не цыгане, – отвечаю я и веду новичка через двор.
Он почти не смотрит по сторонам – как и мое когда-то, его внимание всецело приковано к усадьбе, к необычной эклектичной архитектуре Особняка, башенкам, балконам, эркерам и островерхим крышам. А еще Андрей сейчас наверняка раздумывает, почему такое изящное и высокое здание было совсем незаметно с улицы, по которой он пришел…
– Вещи тут кинь, – распоряжаюсь я, указывая на отмостку под стеной, завитой плющом.
Отдаю себе отчет, что сейчас за моими действиями наблюдают сразу несколько пар глаз. Голодных, жадных глаз, оценивающих каждый жест, позу и слово. Новенький же с сомнением изучает мусорную кучу, хаотичную шипастую пирамиду, памятник симмонсовскому Шрайку.
Продолжаю отдавать указания:
– Верхонки вон в том ящике, инструменты там же. Если что понадобится, покричи Дениса. Туалет за сараем, в сам сарай без меня не ходи. Вернусь через полчаса. А ты пока кучу разгребать продолжай, это мы вчера закончить не успели. Разберешься? Стекло отдельно, доски отдельно. Гвозди, где можно, дергай и в банку складывай.
Вынимаю из пачки сигарету, протягиваю Андрею. Тот берет, но прячет за ухом.
– Работай, – напоследок говорю я. – На ужин насортируешь, а дальше поглядим, чего хозяева скажут.
– С превеликим удовольствием, – соглашается тот, сбрасывает рюкзак и расстегивает ветровку. Когда-то белую, как крыло голубки, трепетной и застенчивой. Как лист врачебной справки со страшным диагнозом, после которого – лишь подкрадывающееся ничто. – Где, говоришь, можно верхонки взять?
Ухожу, понимая, что прекрасно справился с поставленной задачей.
Где-то за шторами сейчас выставляет оценки самое придирчивое жюри на свете. Они не поднимают табличек, но переглядываются между собой, согласно кивая. И улыбаются, слушая довольное постанывание Особняка.
Ухожу со двора, точно зная, что в ближайшую пару часов Андрей Покер обязательно поранит палец. Уронит в землю двора каплю крови, может, две, тем самым начав выковывать цепь, навсегда связывающую его с домом.
Испытываю ли жалость или сожаление?
Возможно.
Но лишь отчасти. Потому что для того, чтобы демон Особняка поверил, моей душе необходимо прогнить насквозь. И я, насколько понимаю, на самом верном пути в достижении этой цели…
Андрей отрабатывает хорошо. Честно отрабатывает. Как и я, как и многие другие до меня, он не справляется с фальшивой работой до конца, но это и невозможно. Затем веду его в подвал, где знакомлю с остальными.
Пашок, наблюдающий за мной со своей койки, ухмыляется.
Чумаков, избегающий моего взгляда, отгораживается газетой.
Покер довольно быстро сходится с другими невольниками. Жмет руки, снова и снова объясняет происхождение своего прозвища. Пытается балагурить, улыбается и устало похохатывает над собственными прибаутками.
Капкан Особняка функционирует с безупречной четкостью. И когда Эдик вручает новенькому хрустящую пятисотку – захлопывается окончательно. Глядя на круглое, раскрасневшееся от солнца и работы лицо Покера, я начинаю сомневаться, а не совершил ли ошибку, одну из самых непростительных в жизни…
Мы ужинаем, и Андрей не перестает нахваливать кулинарные таланты Марины. Та рдеет, смущается, все время поглядывая на меня в поисках дополнительного поощрения. Встречаю взгляд Феклистовой с прохладой и равнодушием. Меня корежит от содеянного.
Но так нужно.
Эдик объясняет правила проживания. Показывает душ и туалеты. Со свойственным ему отстранением комментирует, чего делать нельзя и что дозволено. Покер впитывает, кивает, теребит очки. Затем выбирает себе кровать. Сначала мне кажется, что сейчас он бросит нелепый розовый рюкзак на койку Санжара. Но тот останавливает выбор в совсем другом месте – поближе ко мне и подвальной двери, подальше от входа в санузел.
Наблюдаю, представляя себя на его месте, – когда-то и я точно так же стелил простыню, не подозревая, что остальное население бункера знает чуть больше, чем говорит. Довольный жизнью и разомлевший от вкуснейшей пасты карбонара, Покер деловито застилает постель. А затем спрашивает, обращаясь ко всем сразу: