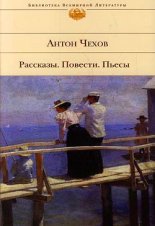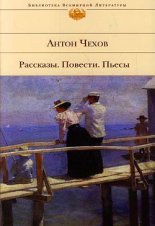Отцы Мамин-Сибиряк Дмитрий

Про дракона этого ты говорила, что «у него всего нет», в том смысле, что у него ничего не было – отвалился хвост и потерялось крыло в битвах с туповатыми рыцарями, которых хлебом не корми, дай помахать пластмассовым мечом. Еще про дракона этого ты говорила, что он «немножко молодой, но уже старенький». Драконы уходили постепенно.
Зато игрушечных лошадок у тебя набирался небольшой табун. Пластилиновые лошадки размножались татаро-монгольскими темпами. Плюшевая лошадка пела песню «У пони длинная челка», а ты подпевала ей, повергая меня в приступы конвульсивного умиления. А маленькой пластмассовой лошадке ты любила заплетать в колтуны, именуемые косичками, небесной красоты фиолетовую гриву. А если кто-то спрашивал тебя о будущей твоей профессии, ты отвечала: «Хочу стать такой девочкой, которая все время скачет на лошадке». А еще ты лихо оперировала специальными жокейскими терминами и понимала, что такое трензель и что такое путлище. А еще ты научилась громко подражать лошадиному ржанию, то и дело сама становилась жеребенком и гарцевала на четвереньках по квартире.
А однажды по дороге на дачу мы заехали за покупками в магазин, делавший честь поселку Малаховка изобилием и разнообразием товаров. Там на втором этаже вместе с моющими средствами и собачьей едой продавались игрушки. И там были две совершенно одинаковые пластмассовые лошадки по цене прожиточного минимума: одна – на колесиках, другая – качалка. Ты немедленно заявила, что хочешь обеих.
– Это очень дорогие лошадки, Варь, – сказала мама. – Выбери одну, тем более что они совершенно одинаковые.
Ты постояла минуту, подумала какие-то тебе одной ведомые мысли и решила все же, что лошадка на колесиках нужнее, ибо можно кататься на такой лошадке по всей квартире. Лошадку тебе купили, и с тех пор ты совершенно перестала перемещаться из спальни в кухню или из кухни в ванную пешком. Передвигалась только верхом, сопровождая езду оглушительным ржанием.
А неделю примерно спустя я укладывал тебя спать, и ты сказала:
– Папа, ты помнишь магазин в Малаховке? Там на втором этаже очень душно. Мы забрали оттуда лошадку на колесиках, но оставили там лошадку-качалку. Ей очень плохо там, и надо ее спасти, чтобы она обрела свободу. – Не знаю уж, в каком мультике ты услыхала выражение «обрести свободу».
Я редко укладывал тебя спать, редко помогал тебе умываться и редко с тобой гулял. Поэтому всякий раз, когда мы оказывались с тобой наедине, мы плели заговоры, целью которых было баловать тебя. Я сказал:
– Варенька, завтра утром я уезжаю в командировку, ты еще будешь спать. Но через три дня я вернусь, поеду в Малаховку и куплю тебе лошадку-качалку. Ты хочешь, чтоб я один съездил и привез тебе лошадку, или ты хочешь поехать за лошадкой со мной вместе?
– Хочу поехать с тобой, – сказала ты. – Я знаю, где лошадка стоит, и покажу тебе, чтобы ты ее узнал.
Командировка у меня была в город Беслан, и там, в Беслане, родители погибших в 1-й школе детей показывали мне любительскую видеозапись, на которой дети их играют школьный спектакль. Я смотрел эту видеозапись и не мог отвязаться от мысли, что, как только приеду в Москву, сразу куплю тебе лошадку. Мне казалось, что очень важно ее купить.
Мне казалось, что самолет летит очень медленно и отвратительно медленно едет такси. Я позвонил с дороги домой, и бабушка пожаловалась мне, что ты капризничаешь, не хочешь одеваться и идти гулять.
– Кто это звонит? – услышал я твой голос в трубке. – Это папа? Давай, бабушка, скорей одеваться, папа же сейчас уже приедет.
Когда я приехал, ты стояла в пальто и шапке. Мы сразу сели в машину и поехали в Малаховку. Там ты решительно вошла в магазин и решительно поднялась на второй этаж:
– Сейчас я тебе покажу, папа, где она стоит!
Ты повернула за угол, окинула взглядом толпу игрушек на полу. Лошадки среди них не было.
– Папа, ее нет! Что же мы будем делать? Ее нет!
Продавщица смотрела на нас, улыбаясь. И я улыбался. И ты, посмотрев на нас с продавщицей, тоже улыбнулась. Потому что я звонил в магазин из аэропорта. Потому что по моей просьбе продавщица припрятала в подсобку последнюю лошадку-качалку, чтоб никто случайно не купил ее, пока не приедем мы с тобой.
26
Иногда я не видал тебя целыми неделями. Даже больше. Бывало и по две недели. Мне иногда казалось, что ты начинаешь забывать меня или, во всяком случае, думать обо мне как о случайно появляющемся в доме человеке по кличке Папа. Неожиданное появление папы в доме вызывало скорее не радость, а удивление.
– О! Папа! Что ты здесь делаешь? – говорила ты, выезжая из детской на пластмассовой лошадке, тогда как я стоял в прихожей, только что вернувшись с очередного какого-нибудь журналистского задания, будь оно проклято.
Каждый раз, когда, воротившись из очередной командировки, я начинал напоминать тебе, кто я такой и почему тебе следует поцеловать меня в щеку, я ненавидел свою профессию.
– Варенька, здравствуй. – Я садился на корточки в прихожей и протягивал к тебе руки. – Поцелуй папу.
– Не хочу! – Ты теребила уздечку на игрушечной лошадке, которая привезла тебя из детской в прихожую, и со свойственной тебе снисходительностью думала, что бы могло связывать тебя, такую прекрасную, с этим небритым человеком, от которого десять дней не было ни слуху ни духу. – Ты ездил в командировку?
– Да.
– Куда?
– В город Беслан. Там очень красивые горы. Мы когда-нибудь с тобой поедем вместе, и я покажу тебе красивые горы.
– Лучше я тебе нарисую горы, – говорила ты. – Я тебе уже нарисовала море. Только давно. Ты же любишь море? Я тебе нарисовала черное море, а маме нарисовала красное. Только давно, и твой рисунок потерялся. Ты привез мне каких-нибудь подарков из Беслана?
– Нет.
– Почему? Там что, нет подарков?
– Там нет подарков, Варенька.
– Как это нет подарков? Там что, нет детей? Там же точно есть дети, и значит, есть для детей подарки. Почему ты мне их не привез?
После этих слов мама начинала объяснять тебе, что нехорошо все время клянчить у папы подарки. А взрослый брат Вася выходил из своей комнаты, оторвавшись от интересной компьютерной игры, и пожимал мне руку с таким видом, чтоб я понял, что он понимает, как важно, что я езжу в командировки во всякие города, где нет подарков для детей. А я стоял и думал: какого черта я езжу в командировки туда, где нет подарков для детей. И как я объясню моей маленькой девочке, что это за город такой, где я был в командировке. И может быть, не нужно ей ничего знать про такие города.
– Знаешь, Варенька, я был в городе, где детям очень плохо.
– Там что, нет игрушек?
– Еще хуже.
– Там что, нет даже шоколадных яиц с киндер-сюрпризами? – Ты фыркала и убегала по своим детским делам.
А я сидел на кухне, пил вино, и минут через пятнадцать ты прибегала ко мне с листком бумаги, покрытым невразумительными каракулями:
– Папа, мне дедушка заточил птичье перо. И я пером написала тебе письмо. Здесь написано, чтоб ты не грустил.
Письмо, в котором написано, чтоб я не грустил, долго потом лежало у меня в бумажнике, но я все равно грустил. Я звонил из чертовых своих командировок домой и спрашивал, не хочет ли Варя поговорить с папой. Ты не хотела. Ты забывала меня при расставаниях быстрее, чем вспоминала при встречах.
Мама мне рассказывала, что однажды вечером, укладываясь спать, ты обещала ей всегда ее защищать:
– Если кто-нибудь, мама, станет на тебя ругаться, ты не бойся, потому что я стану перед тобой, и пусть тот, кто ругается на тебя, ругается со мной.
Мама мне рассказывала, что вы ходили в театр, а через два дня ты заболела и целый день сидела у няни на руках, обняв няню. А я тем временем освещал темные выборы в Молдавии, и моя дочь заболела без меня и выздоровела без меня. А мой стремительно взрослеющий сын за время моей командировки успел съездить на какой-то химический семинар и вернуться с химического семинара. И сказал, что вот папа все время ездит в командировки, а теперь и он, мальчик, поехал в командировку на целую неделю.
Моя чертова командировочная жизнь успела приучить взрослого сына к мысли о том, что есть будто бы какой-то смысл в том, что тебя нет дома. Моя чертова командировочная жизнь успела приучить мою дочь, рисуя по просьбе учительницы рисования свою семью, забывать нарисовать меня.
Я ездил по городам, где не было для детей подарков. Я общался с людьми, которым если скажешь, что у меня есть четырехлетняя дочь и шестнадцатилетний сын, то доставишь боль. Я пропускал забавные твои слова и смешные твои попытки научиться грамоте. У меня в бумажнике лежало написанное тобой письмо, чтоб я не грустил. Письмо такое: «ВАРR ПАПА МАМА ВАСR». Я все равно грустил. Но это было действительно очень жизнеутверждающее письмо.
27
А когда я бывал дома, я спал. Или, во всяком случае, мне постоянно хотелось спать. Обед, например, или всякий другой прием пищи устроен был так, что мне после обеда, особенно в выходной день, нестерпимо хотелось спать, а тебе спать совершенно не хотелось, а хотелось играть в ролевые игры. Вот такая была физиологическая несправедливость. Хорошо было бы, если бы после обеда спать хотелось нам обоим – тогда мы пошли бы в детскую, легли бы на диван, прочли бы вслух пару детских стихотворений и уснули бы, как ангелы. Но нет. Хорошо было бы, если бы питание и на меня оказывало такое же бодрящее действие, как на тебя. Мы бы тогда катались на самокате по квартире, лепили бы из плавающего пластилина бегемотов и пегасов, сажали бы бегемотов на пегасов и катали бы бегемотов на пегасах в гости хоть к тираннозавру, хоть к плюшевому котенку, который выглядел в магазине столь несчастным, что пришлось не только купить его, но и пропитать дома маминой «гермесовской» туалетной водой «Ирис». Хорошо было бы совпадать с дочерью по части сна и бодрствования. Но мы не совпадали.
Поэтому, наверное, ты придумала щадящий для меня способ послеобеденного времяпрепровождения в выходной день. Мы уходили в детскую, да. Я ложился на диван, и даже накрывался пледом. А ты садилась возле дивана на ковер, доставала игрушки, или краски, или и то и другое вместе и играла и рисовала, а я должен был минимально реагировать на твое мифотворчество. Я должен был, хоть бы и сквозь сон, говорить «ага», «угу», «очень интересно». Если же я засыпал слишком глубоко и переставал реагировать на твои комментарии к рисункам и играм, ты разбегалась и прыгала на меня спящего. Это упражнение называлось почему-то «Дать кайка» (с ударением на последний слог), а чудовищный кряк, издаваемый мною оттого, что неожиданно мне на живот прыгает довольно большая девочка, вызывал у тебя искреннюю радость и веселый смех.
Так что лучше было не спать. Лучше было не спать еще и потому, что, предоставленная себе, ты выдумывала сказки.
Вот ты сидела, например, и рисовала акварелью на бумаге огромные летающие глаза. А я спрашивал, чтобы не получить кайка:
– Что это, Варенька?
– Это такие глаза, папа. Сейчас я нарисую лес… – Ты рисовала вокруг летающих глаз условные деревья. – Потому что эти глаза живут в лесу, и летают там везде, и приглядывают, чтобы зверям жилось хорошо и никто их не обижал.
Я пытался вспомнить, как в скандинавской, кажется, мифологии называются глаза, живущие в лесу. Я думал о том, что никаким образом не могла моя дочь прочесть или увидеть в мультике живущие в лесу глаза, и, стало быть, сама придумала, и, стало быть, ее мысль сама движется по тому же маршруту, что и мысль древнего мифотворца, которому почему-то понадобились глаза, живущие в лесу.
– Может быть, эти глаза – светлячки, Варь?
– Ты что, папа, светлячки – это насекомые такие. Я же собирала их летом на даче в банку. А глаза не насекомые. Глаза летают и смотрят, чтоб зверям было хорошо.
– Кряк! – говорил я, потому что твои объяснения убаюкали меня, а твой прыжок на живот застал врасплох.
– Папа, не спи. Давай я тебе лучше расскажу про кошку Мошку.
Дело в том, что наша кошка по прозвищу Мошка, кажется, опять была беременна. Тебя это обстоятельство несказанно радовало, потому что должны были родиться котята, а с котятами, пока их не раздали с невероятным трудом в хорошие руки, можно играть. Ты очень интересовалась которождением, собакорождением в том смысле, что постоянно рисовала неродившихся щенков нашей стерилизованной собаки. И деторождением ты тоже интересовалась. Во всяком случае, когда приходила к нам в гости беременная подруга, ты рассматривала недоверчиво ее живот и примеривалась к животу, пытаясь понять, как же может в таком маленьком животе прятаться такой большой ребенок.
– Папа, я что же, была величиной с кошку?
– Ну, примерно с кошку.
– Не может быть.
Беременную кошку ты рисовала вышедшей из дома и направившейся в гости.
– Что это она делает? – спрашивал я, чтобы не уснуть и не получить очередного кайка в живот.
– Это она выходит из дома и идет к соседским котам.
– А коты что?
– Коты дают ей семечки.
С этими словами ты старательно рисовала на листе рядом с кошкой семечки, похожие на тыквенные. Семечек было четыре штуки, потому, вероятно, что у кошки Мошки котят в прошлом помете было четверо.
– Что за семечки, Варенька?
– Ну, семечки такие съедобные. Кошка их съест, и из каждого семечка в животе у нее получится котенок.
28
В тот год была такая зима, после которой надо всю страну отправлять на месяц в отпуск на море. Последняя неделя марта казалась вообще невыносимой. Ты наотрез отказывалась гулять, пока не прекратится мороз. А мы не очень-то и настаивали на том, чтобы ты ходила на прогулки. В городе была объявлена эпидемия гриппа, так что береженого бог бережет.
В последний день марта мама возвратилась вечером домой с работы и пожаловалась, что как-то, дескать, особенно устала. Еще через час мама пожаловалась на сильную головную боль. Потом измерила температуру. Было 38,6. Через час температура выросла до тридцати девяти с лишним. К полуночи термометр зашкаливал за сорок. Я уложил маму в постель, надавал ей всяких лекарств, которыми положено пичкать человека, если у него грипп, и приготовился вставать на следующее утро в непривычную для меня рань, чтоб Васю отправлять в школу, а тебя кормить завтраком и развлекать до прихода няни.
– Варька же придет ко мне ночью, – пролепетала мама, ей было так плохо, что она практически не могла поднять головы и с трудом говорила. – Изолируй Варьку как-нибудь.
Ты действительно имела обыкновение, проснувшись под утро, перебежать из своей спальни в нашу, забраться к нам в постель и провести остаток ночи, обнимаясь с мамой. И это был бы, конечно, лучший способ заразить тяжелым гриппом еще и тебя. Так что с целью нераспространения эпидемии мама заперлась в своей спальне на ночь, а я пошел спать в другую комнату, куда и собирался переманить тебя ночью.
Около пяти утра ты проснулась, аккуратно обулась в тапки и пошла ломиться в дверь маминой спальни. Ты прошла по коридору, где мы нарочно на ночь оставляли гореть маленькую лампочку, и дернула дверь маминой спальни. Дверь не поддалась. Ты продолжала дергать дверь, видимо еще не проснувшись толком и не соображая, что дверь заперта. Я вышел в коридор:
– Варенька, мама заболела, к ней нельзя сейчас. Хочешь, я отведу тебя в твою спальню и уложу там. Или, хочешь, пойдем спать со мной.
– Нет, – отвечала ты, продолжая отчаянно терзать дверную ручку. – Я каждую ночь прихожу спать к маме. Мне очень нужно с мамой обниматься.
– Я понимаю, но мама заболела. С ней нельзя сейчас обниматься. А то заболеешь и ты тоже. Потому что, ты же знаешь, вирусы перелетают по воздуху.
– Злые вирусы, – спорила ты. – Но у меня ведь есть добрый вирус, которого я нашла в шоколадном яйце, и он побеждает злых вирусов.
Эти твои слова не были просоночным бредом. Ты действительно несколькими днями раньше обнаружила в шоколадном яйце сюрприз, непонятное пластмассовое существо, про которое мы думали сначала, что оно барсук, а потом решили, что оно – добрый вирус, помогающий бороться со злыми вирусами.
– О господи, да уведи ж ты ее спать! – пролепетала мама сквозь закрытую дверь. – У меня сердце кровью обливается слушать, как вы там препираетесь под дверью.
Минут через пятнадцать мне удалось-таки увести тебя спать. На следующее утро ты проснулась и спросила:
– Теперь-то мне можно к маме?
К маме было нельзя. Мама все еще лежала пластом с температурой сорок, и жаропонижающие средства не помогали.
– Тогда я передам маме посылку, можно? – сказала ты, побежала в свою комнату, извлекла из кучи игрушек замызганного маленького щенка и торжественно вручила мне: – Передай маме Дружка. Он очень помогает всегда.
С этого момента ты развернула целую кампанию поддержки больной матери. Ты заставляла няню печь какой-то специальный лечебный пирог, сама месила тесто, извозившись в муке с ног до головы, и, когда пирог был готов, просила передать его маме. Еще ты стояла под дверью и говорила:
– Мамочка, я тебе через дверь буду читать стихи, а ты слушай и выздоравливай.
Еще ты организовывала передачу воздушных поцелуев. Становилась в дальнем конце коридора, так, чтоб маме было видно тебя, если открыть дверь в спальню. Я открывал на минуту дверь, мама на мгновение отрывала голову от подушки, а ты передавала маме воздушный поцелуй и спрашивала:
– Ну что, поймала?
На четвертый день температура у мамы была все еще около сорока градусов, и ты объявила дедушке, что нужна его помощь. Несколько часов подряд вы с дедушкой вырезали из бумаги и клеили почтовый конверт величиной с ноготь. На конверте твоей рукой было написано «маме», а в конверт вложено крохотное письмо. Пока ты готовила это письмо, маме стало лучше, температура снизилась.
Вечером я передал маме это письмо от тебя. Мама раскрыла крохотный конверт и достала крохотное письмо, написанное твоей рукой. А на следующий день – поправилась. И долго еще носила с собой это маленькое письмо. Письмо состояло из двух слов: «Был дождь».
29
Теперь, наверное, ты понимаешь, какие мультичные персонажи вообще-то невоспитанные? Не знаю, почему мультипликаторы считают, что симпатичный персонаж обязательно должен быть невежей. Не знаю, думают ли мультипликаторы про то, что дети относятся к поведению мультичных персонажей безо всякой критики. Я хочу сказать, что, если ты запускала руку в банку с вареньем, можно было не сомневаться, что этому научил тебя Карлсон, который живет на крыше. А если ты во время вечернего купания во что бы то ни стало старалась пукнуть в ванной, чтобы пошли пузыри, не возникало сомнений, что этой симпатичной манере научил тебя зеленый великан Шрек.
Но хуже всех был Стич. Помнишь, такой инопланетный зверек, который в мультике дружил с гавайской девочкой Лилу, а в жизни научил мою девочку Варю отвратительно показывать язык и громить дом. После просмотра мультика один из твоих плюшевых драконов (лишь отдаленно напоминающий мультичного персонажа Стича) был назначен Стичом, и с тех пор каждое утро ты будила меня и говорила:
– Просыпайся, папа! Давай играть в Стича! – Ударение на последний слог.
А однажды мы остались с тобой на даче вдвоем. Погода была прекрасная, и я вознамерился в очередной раз поучить тебя кататься на велосипеде.
– На велосипеде? – переспросила ты. – Хорошо, мы поедем на велосипеде в дальний магазин и возьмем с собой Стича.
– Может, возле дома покатаемся? – вяло возражал я твоим наполеоновским планам.
До дальнего магазина километра полтора. Ты не умела еще кататься на велосипеде, и, чтобы ты ехала, приходилось бежать рядом с велосипедом и придерживать тебя за шиворот, иначе ты падала. А я не в достаточной степени спортсмен, чтоб пробежать полтора километра туда и полтора километра обратно. А тут еще мне предстояло не только бежать, не только держать тебя правой рукой за шиворот, но еще и левой рукой держать проклятого Стича, а головой выдумывать за него смешные реплики, ибо игра в Стича состояла в бесконечном диалоге Стича и Вари.
– Нет, – отрезала ты. – Только на велосипеде! Только в дальний магазин! Только со Стичом! Бе-е! – И отвратительно высунула язык в подтверждение своей непреклонности.
Через минуту я бежал по дорожке рядом с велосипедом, держал тебя и выдумывал за Стича реплики.
– Не молчи, Стич! – говорила ты, сосредоточенно крутя педали. – Спроси лучше меня, кто это летает.
– Кто это летает, Варя? – спросил Стич. – Лягушки?
– Нет, Стич, – отвечала ты. – Это летают бабочки. Белые называются капустницами, желтые – лимонницами.
– А бабочки-виноградницы бывают? – поинтересовался Стич.
– У папы спроси, – ответила ты.
– Папа, бабочки-виноградницы бывают? – спросил я голосом Стича и тут же ответил Стичу своим голосом: – Какой ты глупый, Стич, бабочек-виноградниц не бывает.
– Стич не глупый, – возмутилась ты, не прекращая вертеть педали. – Стич просто любопытный. Бе-е! – И опять показала язык отцу, который, между прочим, холил тебя и лелеял.
Сколько там времени надо, чтоб пробежать полтора километра? Когда мы добрались до дальнего магазина, я просто рухнул на землю и не мог отдышаться. Ты стояла надо мной и оглядывала меня то ли снисходительно, то ли презрительно, я не понял.
– Ты отдохнул? – спросила ты вскоре с жестокостью надсмотрщика. – Тогда дай мне денег на конфеты и подержи Стича. Я пойду в магазин.
– Почему бы тебе не пойти в магазин со Стичом?
– Со Стичом нельзя. Он невежливый.
Я взял у тебя плюшевого Стича, ты пошла в магазин, а я подошел к раскрытому окну магазина посмотреть, как моя пятилетняя дочь впервые что-то самостоятельно покупает.
– Здравствуйте, – улыбнулась ты продавщице. – Будьте так любезны, я бы хотела купить у вас конфеты для кошек.
– Какие конфеты для кошек? – вытаращилась продавщица.
– Я боюсь ошибиться, – продолжала ты, – но мне кажется, у вас были конфеты с изображением кошки на коробке.
– Какая ты милая девочка! – Продавщица протянула тебе конфеты.
– Только я не умею еще считать деньги. – Ты застенчиво пожала плечами. – Поэтому будьте так любезны, посчитайте мне их, пожалуйста.
Когда мы возвращались домой, я отказался бежать рядом с велосипедом, мы шли пешком, и я был довольно мрачен:
– Почему ты, Варя, так вежливо разговариваешь с продавщицей и так невежливо со мной?
– Но мы же с тобой играем в Стича? А Стич невежливый.
– Но язык-то мне показываешь ты, а не Стич.
– Папочка, – ты говорила тем же умильным голосом, что и с продавщицей. – Не обижайся, пожалуйста. Мы же с тобой просто играем в то, что я тебе показываю язык.
30
А помнишь, как ты отказывалась быть принцессой? Ты отказывалась быть принцессой много раз. Потому что маленьким девочкам окружающие говорят время от времени, что, дескать, маленькие девочки – принцессы. Дедушка, к примеру, обнимал тебя, целовал в рыжие вихры и говорил: «Ты моя принцесса», – хотя ты была больше похожа на Гавроша, и с дедом предпочитала шумные и потные игры.
В этих случаях ты отстранялась от дедушки, серьезно глядела на него, как бы пытаясь понять, с чего бы это вдруг деду пришли в голову монархические бредни, а потом говорила:
– Дедушка, я не принцесса. Я девочка, которая занимается конным спортом.
Время от времени няня, видя, как ты рисуешь невразумительных клопов верхом на невразумительных пауках, спрашивала:
– Что это, Варенька?
– Это мальчик на лошадке, – отвечала ты, старательно пририсовывая пауку копыта, похожие на поварешки.
– Ты ждешь принца на белом коне? – понимающе кивала няня.
Но ты отрицала всю эту фрейдистскую белиберду про коней и принцев. Ты говорила:
– Это мальчик, который занимается конным спортом. Потому что я девочка, которая занимается конным спортом. Потому что все занимаются конным спортом.
Бабушка имела обыкновение шить тебе вечерние платья. Приходила портниха, производились примерки. Наконец, когда платье бывало готово, тебя наряжали в него, ты вертелась минуту перед зеркалом, а потом говорила:
– Но как же в этом платье сидеть в седле? Нет, снимайте! – и с этими словами принималась сдирать с себя платье через голову, так, что летели в разные стороны перламутровые пуговки и трещал шелк.
Требовалось много времени и стопка классических картинок, изображающих дам верхами, чтобы ты примирилась с длинным платьем и всякому, кто похвалит твое платье, говорила, как бы извиняясь:
– Это ничего, что платье длинное. В нем все равно можно ездить на лошадке. Есть специальные дамские седла. На них сидят боком и вместо правого шенкеля используют хлыст. (Понятия не имею, где ты уже тогда нахваталась конных терминов.)
Довольно долго твои занятия конным спортом носили чисто теоретический характер. Ты заставляла скупать тебе всех на свете игрушечных лошадок, как годом раньше заставляла скупать драконов и змей. Всякую свободную минуту ты гарцевала по дому на лошадке с колесиками либо же опаснейшим образом качалась на лошадке-качалке.
Но вот свершилось. Гуляя по дачному нашему поселку, ты однажды вдруг услышала конское ржание и увидала на земле лошадиные следы:
– Следы, – прошептала ты няне. – Мы сейчас пойдем по следам и найдем конюшню.
И тебе действительно удалось пройти по следам до небольшой частной конюшни, которая, как оказалось, в нашем дачном поселке была. Там, в этой конюшне, молодые люди, ухаживавшие за лошадьми, с удовольствием посадили тебя верхом на пони, а потом верхом на большую лошадь и покатали, ведя лошадь в поводу. Но ты не удовлетворилась.
– Понимаешь, папочка, – говорила ты мне самым умильным из своих голосков, – я хочу научиться ездить сама. Чтобы никто не держал лошадь за повод, а я бы управляла лошадью, и лошадь бы меня слушалась. Я даже уже познакомилась с Ирой (так зовут девушку-тренера), и Ира дала мне телефон.
Мы позвонили Ире и договорились о серьезном занятии конным спортом на серьезном пони. Я стоял у левады и смотрел, как внутри за ограждением девушка Ира терпеливо объясняет тебе, как правильно разбирать повод и как посылать лошадь шенкелями вперед. Ты, которую в обычной жизни невозможно было представить слушающей что-нибудь внимательно, на этот раз оказалась серьезной и тщательно выполняла все указания тренера. И у тебя даже получалось. Минут через двадцать ты научилась самостоятельно пускать пони шагом и останавливать. Еще минут через десять ты научилась заставлять пони поворачивать более или менее туда, куда надо. Через полчаса занятий тренер Ира подошла ко мне, нервно опиравшемуся на загородку, и спросила:
– Варя будет заниматься полчаса для первого раза или час?
– Час! – выкрикнула ты, торжественно подруливая на своем пони к тренеру Ире.
И во второй половине занятий Ира стала учить тебя ездить рысью. Ира бежала рядом с понькой, держала тебя за колено, а ты тряслась в седле, не умея еще компенсировать спиной тряску. Но таких счастливых глаз я не видел у тебя, даже когда тебе перепадал вдруг целый пакет шоколадных конфет «Ласточка». Даже когда тебе удавалось перевернуть пень в саду и найти под ним целую колонию земляных червяков, не бывало у тебя столь счастливого лица.
– У тебя будут ножки болеть немного на следующее утро, – предупредила тренер.
– Ничего, – парировала ты. – Зато рысью так здорово.
31
Очень невежливо, конечно, со стороны животных то, что всего полгода они являются очаровательными детенышами, а потом превращаются в отвратительно лживых и алчных созданий вроде нашего кота, проводившего жизнь возле миски в тупом ожидании, что рано или поздно туда таки положат целого быка, или нашей собаки, полагавшей, будто жизнь дана ей для того, чтобы носиться вдоль забора на даче и облаивать истерически громко всякий проезжающий мимо автомобиль. Только к старости звери опять обретают достоинство. Ты же помнишь, кот, когда состарился, заболел и был близок к смерти, однажды незаметно ушел, чтобы смерти его никто не видел.
Дети в этом смысле честнее животных. Дети растут медленно и, пока растут, не перестают умиляться котятам, щенкам, жеребятам, хомячкам, змеенышам – и все время их требуют купить. Или, если в доме есть взрослые животные, то дети требуют, чтобы взрослые животные детенышей родили.
Ты, как только научилась внятно рисовать, то есть лет с трех, так и рисовала до самой школы стерилизованную нашу собаку, причем собака на твоих рисунках обычно сидела на лужайке, над собакой обычно плыли облака, а на облаках ты изображала щенков и заявляла:
– Это щенки, которые у нашей собаки родятся.
– Боюсь, мне придется огорчить тебя, Варенька, – отвечал я не без угрызений совести по поводу искалеченной мною собачьей судьбы. – Наша собака не может иметь щенков.
– Почему? – спрашивала ты.
– Ей сделали такую операцию, после которой щенки не могут родиться.
– Тогда, – говорила ты, разглядывая нарисованных тобою щенков в облаках, – это щенки, которые не могут родиться. Они сидят в небе и грустят, что не могут родиться.
Когда наступила весна и маленькая наша кошка стала проявлять интерес к прогулкам, ты буквально потирала руки от радости. Ты смотрела, как кошка выходит через форточку в сад, и говорила:
– Сейчас она пойдет и нагуляет котят.
А когда кошка возвращалась с прогулки, ты придирчиво осматривала ее и ощупывала ей живот на предмет наличия или отсутствия в животе нагулянных котят. Котят все не было. Кошка потолстела, конечно, слегка, но совсем не так, как толстеют беременные кошки, вынашивающие в животе целый кошачий прайд.
И вот однажды ночью в кухне под лестницей кошка наша родила двух котят – серого и рыжего. На следующее утро твоей радости не было предела. Ты, разумеется, использовала это из ряда вон выходящее событие как повод не чистить зубы и не причесываться, но, надо отдать тебе должное, не пошла и смотреть утренние мультики, возведенные вообще-то в ранг непременного ритуала. Едва встав с постели и едва рассмотрев новорожденных котят с криками «Ой, какие хорошенькие!», ты вооружилась книжкой, села на нижней ступеньке кухонной лестницы и принялась читать котятам вслух.
На самом деле ты знала, конечно, все буквы и умела сложить некоторые слова, умела даже написать короткую записку типа «Мама я тебя блюлю», но читать книги ты еще не умела. Зато большинство своих детских книжек ты знала наизусть, каковое обстоятельство позволяло тебе достаточно правдоподобно имитировать чтение, даже и страницы переворачивая вовремя.
– Варь, зачем ты читаешь котятам? – спросила няня. – Пойдем лучше гулять.
– Нет, – ты отвечала очень серьезно. – Котята еще совсем маленькие и слепые. Они ничего не видят, и им очень скучно. Поэтому, пока у них не открылись глазки, я буду им читать, чтобы они не скучали.
– Видишь ли, – парировала няня, – они не только слепые, но еще и глухие. Так что они не слышат, как ты читаешь им про муху-цокотуху, пойдем гулять.
– Совсем ничего не слышат? – переспросила ты задумчиво, соображая, как же можно развлечь котят, если те не видят и не слышат.
И тут няня совершила роковую ошибку. Надо было, конечно, сказать, что котята глухи совершенно, глухи, как правительство к чаяниям народа, но няня почему-то решила не давать определенного ответа. Няня сказала:
– Я не знаю, совсем ли они ничего не слышат. Я просто вижу, что у них уши, прилипшие к голове. Наверное, они слышат очень плохо, но слышат все-таки.
Ты прижала пальцами уши свои к голове и стала прислушиваться сквозь прижатые уши. Ты рассказывала мне потом, что сквозь прижатые к голове уши плохо, конечно, но можно все-все расслышать, особенно если люди вокруг говорят громко. Тогда ты стала петь котятам песню собственного сочинения. Это была классическая кричалка в духе Винни-Пуха: «Я люблю динозавров и драконов, эй, Дракоша, выходи на улицу гулять». Исполнять эту песню следовало максимально громко, и песня практически не имела конца, ибо можно было бесконечно импровизировать новые куплеты или повторять спетые. Вернувшись домой вечером, я обнаружил няню с тяжелым приступом мигрени. Не знаю, как чувствовали себя котята.
32
Каждое лето ты уезжала с бабушкой и дедушкой на дачу. Дача на Карельском перешейке, оставшаяся нашей семье в наследство от деда, уже и тогда представляла собой ветхий дом посреди чудесного соснового леса и на берегу чудесного лесного озера. Только тогда лес был чудеснее, чем теперь, заборов и особняков было меньше, а вода была чище. Конечно, тебе очень хорошо было гулять в этом лесу и купаться в этом озере, на каковое обстоятельство и напирали бабушка с дедушкой, стараясь увезти тебя туда как можно раньше. Однако же места в старом доме, чтоб разместиться по-человечески, хватало только четверым людям: тебе, Васе, бабушке и дедушке. Нам с мамой там места не было, и вообще не могли же мы, работая в Москве, часто навещать детей на даче под Санкт-Петербургом, на каковое обстоятельство напирал я, пытаясь не отпустить тебя на дачу как можно дольше.
Это была дипломатическая игра. Оставшись наедине с тобой, бабушка расписывала тебе прелести жизни на карельской даче, а я – прелести жизни в нашем подмосковном доме. Но я неизменно проигрывал хотя бы потому, что бабушка проводила с тобой больше времени и в силу этого имела несомненное пропагандистское преимущество.
– Давай, Варенька, я договорюсь, что и на следующей неделе ты будешь каждый день кататься на Дэндике, – предлагал я, имея в виду пони по кличке Дэнди, на котором ты каталась.
– Нет, папа, на следующей неделе я буду уже на даче в Питере.
– А как же Дэндик? – предпринимал я отчаянную попытку вызвать у отъезжающей девочки жалость если не к оставляемому отцу, то хоть к лошади. – Он же будет скучать по тебе.
– Да, – констатировала ты, – он будет скучать все лето. А когда я вернусь, я принесу ему яблоко и морковку, а он так соскучится по мне, яблоку и морковке, что будет еще больше меня любить.
Не знаю, понимала ли ты, что все сказанное о лошади справедливо было и по отношению ко мне, но пони хотя бы не должен был своими руками покупать железнодорожный билет, чтобы уехала девочка, чей отъезд нестерпим.
В день отъезда я с утра отчаянно играл еще с тобой в уродливую игрушку по имени Стич, ибо это единственная игра, в которую ты ни с кем, кроме меня, не играла, и единственная игра (надо смотреть правде в глаза), за которую ты любила меня.
– Ты возьмешь Стича с собой на дачу? – спрашивал я, надеясь, что хоть плюшевое это чудовище будет при тебе моим послом и напоминанием обо мне.
– Нет, – отвечала ты. – Не возьму. Стич нужен, только если ты говоришь его голосом.
В раннем детстве твои бурные приготовления к отъезду на дачу и твоя бесконечная болтовня про то, как ты будешь там ловить рыбу и дружить с мальчиком Гошей, стихали, как только ты входила на перрон Ленинградского вокзала. Лет до пяти ты входила на перрон и понимала вдруг, что вот сейчас уедешь на целое лето от мамы и папы, принималась к маме и папе ластиться, а уже в купе неизменно и плакала с причитаниями типа «Мамочка, я тебя люблю» или «Папочка, я буду скучать по тебе». Эти твои слезы при расставании были извращенным, конечно, но все же утешением для оставляемых родителей.
Но когда тебе исполнилось пять, мне не досталось даже и такого сомнительного утешения, как слезы при расставании. Ты вприпрыжку шагала по платформе. Едва зайдя в купе, ты сказала:
– А подарки-то есть? – имея в виду включенный в цену билета завтрак. – О! Есть подарки!
Я присел на кушетку как раз за твоей спиной, так что мог через твое плечо заглядывать, как тонкими своими, невероятно нежными, но не слишком чистыми и радикально исцарапанными кошкой пальцами ты дербанила коробку с завтраком.
– О! – говорила ты. – Красная икра! Я очень люблю икру прямо пальцем из банки.
Ты откупорила крохотную баночку с икрой, а я уткнул нос тебе в затылок, вдыхал невероятный твой запах и смотрел на манипуляции с банкой сквозь рыжие твои волосы. Это как смотреть на мир сквозь оранжевые очки – предметы кажутся более веселыми, чем они есть на самом деле.
– О! – продолжала ты ревизию завтрака. – Шоколадка! Я очень же люблю икру именно с шоколадкой, а шоколадку именно с икрой.
Я раскопал носом твою шею под волосами и потерся носом о шею.
– Папа, не щекочись! – сказала ты.
– Сделай что-нибудь с лицом, – сказала мне мама. – Ты похож на Пьеро, играющего Лира.
– Может, пойдете уже? – сказала бабушка.
Мы вышли из поезда и подошли снаружи к окну, чтобы помахать оставшимся внутри вам с бабушкой. Ты лишь на секунду отвлеклась от своего шоколадно-икорного коктейля, помахала нам рукой и прокричала нам что-то. Я не расслышал сквозь стекла, но, судя по губам, ты, кажется, кричала: «Передай привет Стичу».
Вернувшись домой, я нашел Стича под диваном. Достал его и подумал, что при некоторых обстоятельствах дурацкая рожа плюшевого чудовища может выражать совершенное отчаяние.
– Вы сейчас заплачете оба, – усмехнулась мама, глядя на нас с игрушкой. – Заплачете слезами из глаз.
33
И там, на даче в пять лет ты научилась петь. Вернее, как бы это сказать, поняла, что можно разговаривать, можно выкрикивать кричалки, а можно петь. Не знаю, бывает ли у детей в пять лет уже музыкальный слух и голос, но то ли у тебя не было слуха, то ли не было голоса, то ли ты не могла слух с голосом скоординировать. Пение ты понимала первобытно, в том смысле, что важны слова, а мотив неважен, и хорошей песня становится оттого, что рассказывает про котят, про цветы или про драконов, если только можно представить себе, чтобы кто-нибудь на свете ухитрился сочинить такой шедевр.
До пяти лет ты, ничтоже сумняшеся, за неимением песни про драконов сочиняла свои кричалки и выкрикивала на весь двор: «Я люблю динозавров, и драконов, и лягушек, и змей, и червяков». Но к пяти годам что-то изменилось. Ты, кажется, поняла, что кроме актуальной темы (драконы, змеи, червяки) хорошая песня должна быть еще складно написана, и концы строчек должны рифмоваться друг с другом. Про мелодию ты не понимала, что это такое, но чувствовала, что что-то такое есть, поэтому, девочка моя, ты пела на манер фольклорной бабушки из глухой деревни, уверенной, что надо подпереть кулаком щеку, сделать грустные глаза, и тогда уж точно песня хорошо получится.
А жила ты все лето на петербургской даче, то есть вдали от меня. И на время твоего отъезда приходился мой день рождения, что само по себе было неприятно, поскольку лет мне сравнялось в аккурат для пушкинской дуэли и ничего еще не написано было мной сопоставимого с «Евгением Онегиным» или «Капитанской дочкой». Да, кроме того, еще под самый день рождения я заболел, валялся с температурой 39,5, практически не мог разговаривать, оттого что ужасно болело горло, и выпить даже не мог, поскольку лекарства, которыми меня лечили, несовместимы с алкоголем. Лежал как бревно, если только можно представить себе трясущееся от озноба бревно. И тут позвонила ты:
– Папочка, поздравляю тебя с днем рождения.
– Спасибо, Варенька, как ты там?