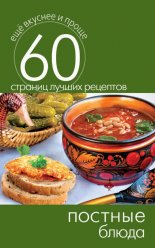Соль любви Кисельгоф Ирина
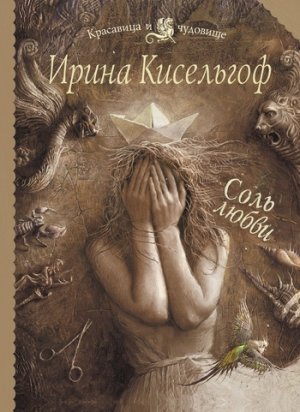
– Слушайте, вы! А кто мою семью будет кормить? Вы? Нет лошади – нет работы!
– Я вас засужу! – крикнула я. – Вот увидите!
– Суди! – заорал он. – Бездельница! Ты катаешься, я саночки вожу! Указчица чертова!
– Катя, пойдем, – Корица тянул меня назад, я отбивалась и кричала.
– Катя! Это лошадь. Не человек.
– Ты что? Ненормальный?! – я задохнулась от гнева. – Сегодня лошадь, завтра человек!
– Нормальный, – хмуро сказал Корица.
Во мне бушевал гнев, но я вдруг поняла странную вещь – лошадей я жалела больше. Получалось, я выбирала меньшее зло, большое – выбирало меня.
Или я все же права?
Бумажное сердце, прибитое гвоздиками к деревянной палочке, стало еще одной материальной точкой отсчета. Я убрала его в ящик комода к остальным. Оно немного порвалось, когда я его засовывала. Ведь оно было из тонкой бумаги. Я достала его и расправила, а потом аккуратно положила назад.
Мне приснилась косатка. Подросток. Он учился жить без мамы, но уже заглядывался на девчонок. Я почесала ему бок, он улыбнулся от уха до уха. Или не знаю, от чего до чего улыбаются косатки. Пока он улыбался, я заплыла к нему в рот и решила устроиться поудобнее, чтобы смотреть на лопасти белого корабля, кружащие буруны синего моря.
– Лопухина! Мы вам не мешаем?
Я вздрогнула и продрала глаза. Какой садист придумал занятия с восьми утра?
– Вы мне сон досмотреть не дали, Виктор Валентинович, – вредно сказала я.
Все засмеялись. Нам повезло с преподом по факультетской хирургии. Он был нормальный человек. За это его любили студенты даже старших курсов. По старой памяти. И звали ВВ, за глаза.
– Интересный? – спросил он.
– Был бы неинтересный, я бы тогда не спала.
– Грыжи! – потребовал он.
– Грыж во сне не было, – созналась я. – Только рот. От уха до уха. Нечеловеческий.
– Тогда переводитесь на ветеринарную стоматологию, – рассмеялся ВВ.
– Не знала, что у ветеринаров есть рты, – невинно заметила я.
Все снова захохотали. ВВ сдвинул брови. Я сдалась, в смысле подняла руки символом «хенде хох».
На практике у меня больной с послеоперационной грыжей. В ней помещается чуть ли не весь его кишечник. Больной смеется, она вылезает наружу.
– Лучше бы ты не приходила, Катерина, – пожаловался он. – Мне с тобой весело, оттого грыжа у меня вылезает.
– У вас просто веселая и любопытная грыжа, – объяснила я. – Ей надо знать, с кем вы общаетесь.
Он захохотал, грыжа выглянула наружу. И мы стали запихивать коммуникабельную грыжу четырьмя руками. Это было трудно, ее хозяин смеялся беспрерывно, я хохотала, и соседи по палате тоже. Меня нельзя пускать к больным, по крайней мере к этому. Я создавала лечебно-разрушительный режим. Для грыж.
После занятий я вышла на улицу и подбросила от радости шапку. Шел снег. Это единственное, что я любила в зиме. Я давно его простила за детство. Когда идет снег, всегда тепло. Особенно если такой сказочный, как этот. Пух и перья расчесанных ангельских крыльев. Потому надо ловить снежинки открытым ртом, ангел-хранитель навалит их целую кучу. Солнце прячется за снеговыми тучами и подглядывает за общением человека и неба исподтишка, это добавляет городу тайны.
– Катька! – закричал Корица. – Пошли в парк ветки трясти!
Я побежала к нему через улицу, размахивая сумкой. Плавно, деликатно, между машинами. Они вежливо уступали мне дорогу. Как в сказке.
Мы носились по парку втроем с его старым другом Беликовым. Тем самым. И били по веткам сумками. С дерева слетала лавина, и, самое главное, надо было встать прямо под ней. Иначе терялся весь смысл. Все дело в снеге за шиворотом. Без этого снега неинтересно жить. Он разглаживает морщинки в душе.
Корица смахнул с меня снег, деликатно и вежливо. Я с него. Беликов обошелся сам.
– Ко мне сегодня приходит Танька, – сказал Беликов. – На мою хату не рассчитывайте.
– Кто? – захохотали мы с Корицей. – Да она глокая куздра!
– Сами вы куздры! – оскорбился Беликов. – Я из-за вас бомжую.
Это была правда. Корица жил с родителями, его мать не работала. Я могла бы его звать к себе, пока нет Геры. Но мне казалось это неправильным по отношению к Гере. Я это чувствовала. Наша квартира только для нас двоих. Остальные приходят и уходят, мы остаемся. Потому мы с Корицей иногда встречались у Беликова, он сам согласился быть нашей добровольной жертвой. Теперь жалел.
– Завтра! – сказал Корица.
– Заколебали! – буркнул Беликов и пошел домой.
Мы засмеялись ему вслед.
– Ты кого больше любишь? – спросила я Корицу. – Кошек или собак?
– Собак, но если честно, больше кошек. Они у нас жили все время.
– Я тоже кошек.
Илья любил собак, я кошек. Люди делятся на две категории. Тех, кто больше любит собак, и тех, кто больше любит кошек. Эти категории людей пересекаются с трудом или вообще существуют параллельно. У них разные повадки, характер и образ жизни. Собаки живут стаей, кошки – одиночки. Собаки терпеть не могут кошек. Ясно, почему. Собаки ворчат, когда сердятся, а когда довольны, виляют хвостом. Кошки ворчат, когда довольны, и виляют хвостом, когда сердятся. Следовательно, все не в своем уме!
Я пришла домой и повесила пальто в прихожей. Зазвонил городской телефон.
– Привет! – весело сказала я.
– Привет, – ответил древний телефон.
У меня внутри задрожал противный, студенистый кисель.
– У меня свободный вечер. Прошвырнемся куда-нибудь?
– Нет.
– Тогда в пятницу?
– Нет.
– Как поживает твоя кукушка?
Я молчала, чувствуя, как студенистый кисель дрожит у самого горла. Из-за него я не могла говорить. Ни слова.
– Я позвонил просто так. Чтобы развлечься.
Я услышала смех и швырнула трубку.
Меня преследовал черный шар-инопланетянин. Я знала, что ему нужно. Развлечься! Всего-навсего! Я никак не могла вспомнить, как звали автора того романа. Давным-давно его воображение породило черные, гладкие шары. Они расселились по всему миру и катились по нему молча и тягостно. У них имелась одна общая примета. Они нападали из-за угла. Когда их совсем не ждешь.
Ночью мне приснился сон. Я была совсем крошечной и пыталась удержаться на качающемся бронзовом маятнике напольных часов. Удержаться во что бы то ни стало. Или хотя бы упасть в центре, под маятником. Я боролась за себя до последнего. Но потеряла силы и упала в самый темный угол напольных часов. Туда, куда никогда не попадало солнце. Я попала в черный угол забвения.
Глава 11
В последнее время я все время думаю о секретной душе вещей. Она манит меня своей противоположностью. Нитроглицерин понижает сопротивление артерий сердца при стенокардии, а еще применяется для производства взрывчатых веществ и бездымных порохов. Если его положить под язык, он вылечит сердце, если встряхнуть бутыль с нитроглицерином, он понизит сопротивление до смерти. Нитроглицерин – хороший парень, если, конечно, его приручить. Этого не было на лекции по терапии, просто я об этом подумала. Получается, у вещей есть двоякая тайна, но она чаще молчит. Разгадать тайну нитроглицерина можно, только содрогнувшись от взрыва. Но вспомнить уже нельзя.
Из учебного корпуса, галдя, высыпали мои одногруппники.
– Старосельцев, ты с нами? – закричала Терентьева.
– С собой, – хохотнул Старосельцев.
Все пошли по домам, я загляделась на крышу учебного корпуса. Она подоткнула снежное одеяло под бок и затихла под горелкой холодного солнца. Всем зябко и знобко, у зимнего солнца довольный вид. Оно растолкало белые облака и висит в синем небе развеселым елочным шаром. Я посмотрела солнцу в глаза, оно расплылось в самодовольной улыбке.
– Вредина! – сказала я и получила удар по макушке. Солнечный взрыв рассыпался снежными конфетти и засыпал глаза. Я проморгалась, из снежных конфетти выплыло лицо Старосельцева.
– Ты что, в детском саду? – возмутилась я, стащила шапку и стряхнула с нее снег. – Снежки вымерли еще в третьем классе.
– Третьем классе детского сада? – Старосельцев поднял брови, его зеленые глаза насмешливо прищурились. – Что у тебя за сад был, Лопухина? С магистратурой?
– С докторантурой, – буркнула я, счищая снег с пальто.
– Понятненько. Куда идешь?
– Домой.
– Хочешь прогуляться по проспекту с кастрюлькой?
– Зачем?
– Пофлэшмобить. – Старосельцев вытащил из пакета старую кастрюлю.
– Я что, ненормальная?
Кастрюля упала в пакет. Я развернулась и направилась к остановке.
– Не знаю, – Старосельцев пошел за мной. – Но лучше быть ненормальным, чем утварью.
– Какой еще утварью? – я раздражилась и убыстрила шаг.
– У испанских Габсбургов были карлики, – Старосельцев тащился за мной как привязанный. – Они числились дворцовой утварью, как домашние животные. Уродцев заводят как утварь, чтобы чувствовать свое превосходство.
– Ну и что с того?
– А ты сама себя спроси, – засмеялся Старосельцев. – Что лучше, пользоваться свободой шута или быть занудной утварью, занесенной в реестр?
– Все мобберы – шуты, – не поняла я.
– В том-то и дело. Как говорил великий Шар, вино свободы киснет, если его не пить. Пара глотков не помешает. Пойдем?
Я заколебалась, мне внезапно захотелось свободы. Старосельцев протянул мне крышку кастрюли.
– Нет. Я хочу кастрюлю.
– Ладно, – согласился Старосельцев. – Мне же легче. Не надо таскать эту дуру.
– Тогда я хочу крышку, – вредно сказала я.
Старосельцев рассмеялся.
– Спрячь ее в сумке. На проспекте мы друг друга не знаем. Увидишь парня в красном комбезе, вытащишь крышку тогда же, когда и он свои железяки. Через десять минут положишь ее в сумку и сразу двигай в сквер. Встретимся там.
– А что делать? Ну там… на проспекте?
– Ходить туда-сюда и вертеть крышкой.
– И все?
– Слушай, Лопухина! У тебя воображение есть? Хочешь, приседай. Хочешь, ласточку делай. Хочешь, бей себя крышкой по лбу!
«Утварь!» – подумала я, глядя в спину Старосельцева.
Проспект деловито облапил меня человеческими колоннами. Я застыла островом в поисках парня в красном комбинезоне. Мимо меня целеустремленно неслись скучные люди в скучных черных и серых одеждах. Чужие глаза обтекали черными точками зрачков, не задерживаясь и не соединяя. В случайной толпе люди всегда вместе и в то же время отдельно.
Из серо-черной массы вдруг выпало красное пятно и выросло в обычного парня, такого, как все. Я заглянула парню в глаза и открыла рот, будто хотела что-то сказать. Красный комбинезон прошел мимо меня, не задерживаясь и не соединяясь. Не знаю почему, но у меня сразу испортилось настроение. Я решила уходить, оглянулась и замерла. На голове красного комбинезона дурацким колпаком высился дуршлаг.
– Посторонись!
Мне с разбега бросился в глаза алюминиевый лед огромного молочного бидона, блестевший солнечными царапинами. Он уехал от меня на санках, я развернулась за ним и наткнулась на человека с ложкой во рту. Чашечка осталась внутри, а наружу, будто дразня, вырос сверкающий металлический черенок. Серьезные зеленые глаза остановились напротив, металлический черенок взлетел гранд батман и тут же сделал шпагат на языке, вернувшись вниз. Я наклонила голову, черенок оттолкнулся от языка и замер в арабеске под подбородком. Я улыбнулась, черенок мерно закачался из стороны в сторону. Я засмеялась, черенок закружился в пируэте.
– Браво! – смеялась я.
Черенок прыгнул большой кошкой, выбросив лапу вперед. Я захлопала, зеленые глаза исчезли в толпе сумасшедших, но очень серьезных людей. Зеленые глаза растворились в толпе, а мои разбежались. Серьезные люди, одетые как все, были не такими, как все. В руке девушки дамской сумочкой висит чайник, а в чайнике косметичка. У парня рыболовные крючки и связка ложек на леске. Самовар рюкзаком за спиной, в сковородке альпинистский ботинок, терка чешет спину, из сита летят разноцветные конфетти. В шляпе опятами растут солонка, сахарница, перечница и графин, в банке звенит будильник. Кастрюля – первая ударная бочка, ведро – вторая, и литаврами алюминиевые тарелки. Вся! Абсолютно вся сумасшедшая, карнавальная кутерьма под канонаду убойных ударных из несметной кухонной утвари! На меня налетело ошеломленное лицо мужчины с вытаращенными глазами, я закрыла смеющийся рот кастрюльной крышкой, как веером. Да! Другой половине серьезных людей сегодня не повезло. А может, и повезло.
– Менты! – заорали за моей спиной, и вдруг стало тихо, как в гробу. Я застыла с крышкой в руках и липким, безумным страхом внутри. Меня вмиг обтекла толпа скучных, безликих людей в скучных черных и серых одеждах, не задерживаясь и не соединяясь… Пока.
– Бежим!
Меня дернули за руку, и я помчалась как сумасшедшая, так и не успев ничего понять. Я бежала внутри липкого страха под убойную канонаду собственного сердца. Под старый-престарый марш чьей-то кухонной утвари.
– Все!
Я упала в снег у пруда без сил. С сердцем, рвущимся из груди вместе с легкими. Я лежала в снегу, надо мной высились большие деревья. Они смотрели в меня, я за них. За деревянной решеткой из крючковатых веток сияло чистое-чистое небо от края до края. Ни тени не видно на нем. И мне захотелось его обнять. Я протянула к нему руки, но наткнулась на решетку из дерева.
– Мы все еще карлики? – спросила я.
– Волнуешься? – засмеялся Старосельцев, глазея на небо.
– Немного, – я прижала ладонь к безумному сердцу.
– Значит, выросли сантиметров на пять, – Старосельцев перевернулся ко мне боком и стал похож на шахматного человека, наполовину белоснежного, наполовину черноземного. – Как говорил великий Шар, чтобы вырасти, надо уметь волноваться.
– Что за шар?
– Француз, партизан, поэт, – Старосельцев поднялся и протянул мне руки. – Вставай, замерзнешь.
Я подала ему руки вместе с крышкой.
– Крышку бросай! – хмыкнул Старосельцев. – Или душой прикипела?
– Прикипела, – я положила крышку в сумку. Она стала точкой отсчета, но какой, я еще не поняла. Старосельцев усмехнулся, я сделала вид, что не заметила.
– Какие у него стихи? У твоего Шара?
– Видишь? – Старосельцев кивнул на замерзший пруд.
Пруд блестел черным глазом воды в центре замороженных ледяных век и бровей, седых и игристых в блестках зимнего снега.
– Я люблю тебя, зима воинственных хлопьев. Нынче твой образ блестит там, где сердце его склонилось.[5]
– Зима воинственных хлопьев, – зачарованно повторила я. – Ты любишь зиму?
– Я всеядный и неприхотливый.
– А еще какие стихи?
– Ну, – протянул Старосельцев. – О любви, например.
– О любви? – мне вообразилось сердце, упавшее под тяжестью воинственных зимних хлопьев. – Прочти. Хотя бы одно.
– Неохота. Вернее, не помню ни одного. – Старосельцев отвернулся, его ботинок на рифленой подошве въехал в сугроб на полном ходу. – Кстати, перспектива светлого будущего у карликов есть всегда. Сама по себе. Даже париться не надо. Испанские Габсбурги вымерли от инцеста, карлики получили свободу и потеряли работу.
– Смешно, – сказала я.
– Точно! – захохотал Старосельцев. – Теперь они в лилипутском цирке! У Карабаса-Барабаса!
Дома я отыскала точно такую же белую эмалированную крышку и положила их рядом на столе. У крышек обнаружился скол на крае. Я повертела крышки, сколы симметрично разошлись кнаружи. Я повернула крышки на сто восемьдесят градусов, сколы сошлись вместе черной бабочкой с белой кружевной каемкой по краю. Симпатично.
– Крышки изучаешь? – спросил Гера.
– Коллекционирую, – отозвалась я. – А какая этимология слова «утварь»? У твари?
– Все божьи твари, – засмеялся Гера.
– В смысле, каждой твари по паре?
– Примерно.
Я засунула крышки в посудный шкафчик. Они были не из моей жизни. У совпавших крыльев бабочки этимологии не имелось.
Перед сном моя рука сама отыскала в поисковике войну за испанское наследство. Карл II оказался жертвой инцеста, вся Европа оказалась жертвой частной жизни одной семьи. Склонность Габсбургов к близкородственному скрещиванию установила новый мировой порядок и сформировала современный принцип баланса сил. Это было нелепо. Так же нелепо, как ядерный взрыв золотого ахейского яблока и город, стертый с лица земли. Я поразмыслила и отыскала в династических браках, войне и жажде власти голый прагматизм. У персидского Париса, царя Камбиза он отсутствовал. Царь пожелал жениться на родной сестре, потому что любил, жрецы сделали его желание священным. Так веление сердца одного человека превратилось в религиозно-культурную традицию, живущую и поныне. Это не было нелепо, скорее величественно. Человек шагал по небу на равных. Так и должно быть?.. Я вдруг подумала о расстрельных списках. Любых. Это… Это выглядело устрашающе. Надо об этом помнить? Или просто жить?
Я закрыла веки, передо мной явились зеленые глаза. Я вспомнила кухонную карусель и засмеялась. Мне впервые понравилось быть с толпой. Получается, совсем и не надо знать друг друга, чтобы делать общее дело.
– Надо было забрать у него не крышку, а ложку. Так было бы вернее.
Я стояла на усах живой протоплазмы. Она текла как ни в чем не бывало. Вокруг сосульки и лед на случайных лужах, на живой протоплазме льда нет. Живая протоплазма на то и живая, чтобы не замерзать. Мне стало завидно. Я часто мерзла. Я смотрела на протоплазму и вдруг увидела огромный хвост косатки. Хвост взмахнул самим собой над водой и рухнул в воду, окатив меня фонтаном брызг. Я откинулась назад и встретилась взглядом с шаром-инопланетянином.
– Как поживает твоя кукушка? – спросила я. – Кукует рецидивами?
Илья встал рядом со мной, положив руки на парапет, за которым текла река. Она казалась совсем черной. Зимой всегда так. Косатку под черной водой не разглядеть.
– Как поживаешь?
– Отлично! – Я рассмеялась. – Свободный вечер?
– Ну хорошо, что отлично. Я хотел извиниться.
– Не напрягайся. Мне все равно.
Илья резко наклонился и развернул меня к себе. Он сжимал мне плечи, давя тисками, и выедал глаза, как я когда-то Конраду Вейдту. Его голубая радужка блестела цветом красного дерева. Как у деревянного льва.
– Пришла. Ушла. Все отлично? – я услышала голос сквозь толстую вату. – Все поровну? А я как? Что со мной? Наплевать и забыть?
Я снова упала в обморок, не потому, что глядела в его глаза, а потому, что мне нечем было дышать. И из-за глаз тоже. Я очнулась в его руках.
– Твои глаза похожи на сосульки. Две длинные синие сосульки. От них стынут руки. Даже на солнце.
– Не похожи, – я закрыла лицо руками.
– Ты меня достала, – устало сказал он.
Он меня обнимал, чтобы я не упала. Или еще почему-то. Я разняла его руки и прислонилась к чугунному парапету. Он был ледянее льда.
– За что ты меня ненавидишь? Что я тебе сделала? Что?
– Какие у вас отношения с твоим Герой? – вдруг спросил Илья.
– Хорошие. Очень. А что? – у меня внутри натянулась струна.
– Насколько очень? – Илья быстро взглянул на меня и отвернулся.
– Что ты имеешь в виду?
– Я видел, как он на тебя смотрел! Ты ему кто? А?
Наши глаза налетели друг на друга на полном ходу, как два скорых поезда.
– Как смотрел?!
Он сгреб меня рукой за воротник. Его глаза щурились ненавистью.
– Как мужик смотрит на свою бабу! Это любой поймет! Что у вас с ним? Говори!
– Все! Все! Все! – я зарычала, захрипела, как безумная. – Все, что позволит твое грязное воображение! Все! Понял?
– Ты врешь? – тихо спросил он и отвернулся к реке, туда, где под черной водой прятался его двойник. С хвостом и улыбкой от уха до уха. Или совсем без улыбки. Жаль. Так жаль. Дельфин и косатка – разные люди. Совсем.
– Вру, – ответила я. – Ты зачем хвостик обрезал? Он тебе шел.
– Ты вернешься ко мне или что?
– Я же тебе надоела.
– Ты заразная. Вакцины нет. От тебя не избавиться ничем.
Я обняла его и вздохнула, как Гера. Мне было жаль нас до слез. Мы разные, и мы притягивались. Это хуже всего на свете.
– Что скажешь?
– Мне кажется, я тебя люблю. – У меня был самый несчастный голос на всей земле.
Он засмеялся, я тоже. Мы тряслись от смеха на каменных усах живой протоплазмы.
– Не повезло нам, – сказал Илья.
– Не то слово, – согласилась я.
Мы взглянули друг на друга и снова засмеялись. Два улыбающихся дельфина скакали из его мировых океанов в мои. Туда и обратно, как заведенные. Получается, им повезло. Может, нам тоже?
Я обещала Илье прийти завтра. Меня мучили сомнения. Терзали душу. Я боялась, не зная чего. Я вышла в темный коридор и остановилась у старого зеркала. Провела по нему ладонью и вгляделась в свое отражение, ища ответ. Напрасно. Зеркало было мутным хрустальным шаром. Я и себя разглядеть в нем не могла. Тогда я вернулась в комнату и вытащила из-под подушки чужое сердце. Я давно его туда положила. Моя рука снова была полна его крови. Я выключила свет, и сердце исчезло. Я его чувствовала, но не видела. Оно стало теплым от моей руки. Или моя рука стала теплой от его крови.
– Гера. Мне приснился плохой сон. Я упала с маятника в черный угол, а не посередине напольных часов.
– Это хороший сон, – улыбнулся Гера. – Если бы ты упала посередине, ты бы оказалась под тремя шестерками. Двенадцать и шесть.
– Да?
– Ты с какой стороны солнца упала?
Я вообразила себя напольными часами. Получалось, я упала со стороны восхода.
– С восхода.
– Ну, вот видишь. Это хороший сон.
– Илья просит меня вернуться. Я его видела.
– Ты этого хочешь? – после паузы спросил Гера.
Он вертел в руке ручку. Она падала и падала, Гера ее поднимал и снова вертел.
– Он – собака, я – кошка. Он сравнил мои глаза с сосульками, от которых стынут руки даже на солнце.
– Он умеет говорить комплименты.
– Это ирония?
– Нет. А как же Корица?
У меня на душе стало еще хуже. Я снова забыла о нем. Совсем.
– Корица на самом деле не Корица, – объяснила я. – У него другой запах. Не мой. Я это почувствовала сразу же. Он маскируется под корицу глазами.
– Значит, собаки?
– Есть кошки, живущие стаями, как собаки. Их львами называют. Понятно? Они даже охотятся как собаки.
– Может, львы маскируются под собак? – Гера смотрел в окно. – Или наоборот. Собаки отрастили себе гриву и кисточку.
– Нет, не маскируются, – засмеялась я. – Они парламентеры. Налаживают отношения между кошками и собаками.
– Ты уже все решила.
– Средне.
– Ты же знаешь. Я всегда с тобой. Надо будет, я вырву твоему Илье руки и ноги.
В голосе Геры я не чувствовала уверенности, словно он сомневался, как и я. Львы не собаки. Это знает каждый.
– Учи его, как китайский язык. Китайский – самый трудный, потому китаистов не так уж много.
– Попробую, – так ничего не решив, я закрыла дверь Гериной комнаты.
Бабушкина квартира кружилась комнатами вселенского бублика вокруг дыры длинного, темного коридора. Из темного коридора ведут два выхода. Один – через окно к синему небу с золотым шпилем, другой – в подъезд с тусклым, искусственным светом. Я оглянулась на свое отражение в зеркале и попала в свертку времени и пространства – два выхода сошлись в одной точке. На мне. Тогда я взяла чужое сердце и вылетела в окно, где на фоне черного неба серебрилась гигантская сосулька лунного шпиля.
Я позвонила в дверь Ильи, и меня охватила тревога. До паники. Он мог быть не один. Я вспомнила девушку, целующую его взасос. Илья меня видел и уехал, без колебаний отправив в угол забвения. Я резко развернулась и нажала кнопку сверхскоростного лифта. Мне надо было вернуться назад и подумать. Во что бы то ни стало!
Я вздрогнула, услышав щелчок замка. Илья открыл дверь, щурясь от яркого света, горевшего в подъезде нового дома. Лифт раскрыл рот, приглашая к себе.