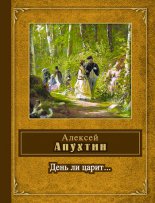Журавлик по небу летит Кисельгоф Ирина
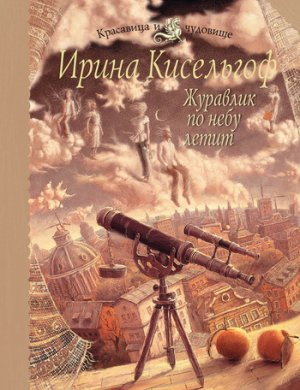
– На кухню проходи. – Вера кивнула на приоткрытую дверь. – Я сейчас.
Я огляделась. В раковине стопка грязных тарелок, в рассохшемся шкафчике без дверец посуда, книги и среди них зачем-то старая мужская шляпа. На столе изрезанная ножом клеенка, недопитый стакан чая, раскрытая книга и очки на ней. Под толстыми стеклами очков горбятся жирные, черные буквы. В стакане чая двоится ложка с эмалевой зелено-голубой змейкой на ручке. Блеснуло белое пятно, я оглянулась. На кухонном шкафчике высился странный белоснежный купол. И я вдруг вспомнила.
– Что это? – спросила я.
– Колпак для сыра.
Я представила сыр в колпаке, вышло потешно, и я рассмеялась. Сыр подмигнул мне всеми своими дырками и раскланялся, бубенчики на его колпаке забренчали. Я тогда решила опробовать колпак на себе. Надела на голову, расставила руки в стороны и пошла, балансируя по половой доске как по проволоке.
– Что ты делаешь? – спросил за спиной бабушкин голос. От неожиданности я вздрогнула, и каолиновый колпак разбился. Вдребезги.
– Убери, – равнодушно сказала бабушка и вышла из кухни.
Я очнулась, услышав звук льющейся воды, и оглянулась. Моя родная бабушка плотно прикрыла дверь кухни.
– Он же разбился, – сказала я. – У меня есть петелька с его макушки.
– Это второй, – сказала она. – Ты что, лекарства принесла?
Я отрицательно замотала головой.
– Ольга прислала или сама пришла?
– Сама, – неловко сказала я.
– Ты стала похожа на Андрея.
Из ее глаза выкатилась слеза и потекла по морщинистой щеке. Она не заметила ее, а я провела ладонью по лицу, стряхнув со своей щеки слезу моей бабушки.
– Значит, она так тебе ничего и не сказала?
– О чем? – прошептала я, мое горло вдруг стянуло страхом. Туго-натуго.
– Значит, нет! – она внезапно раздражилась. – Дед одной ногой в могиле, я за ним. Кто будет помнить о моем сыне? Кто?! Человек не умер, пока его не забыли!
– Он умер? – ошеломленно повторила я. – Это правда?
– Так ты и этого не знаешь! – Ее мучнистое дедероновое лицо вспыхнуло огнем. – Твоего отца больше нет! Уже двенадцать лет нет!
– Как?!
– Он застрелился!
Она судорожно всхлипнула и вдруг завыла. Тихо и страшно. Спрятав лицо за тонкими-тонкими пальцами с глянцевыми костяшками.
Мой отец застрелился в двадцать семь лет. Выстрелил в висок. Он был начальником бурового участка, случился пожар, погибли трое. Арестовали его и инженера по технике безопасности. Суд их оправдал, но отец застрелился. Ушел утром, взяв служебный пистолет, и не вернулся. Его нашли за городом, а рядом с ним полным-полно окурков. И следы его ботинок. Тех самых, которые я не забыла. Следы по замкнутому кругу нескончаемой, бесконечной цепочкой. Вперед и назад. С утра до самого вечера. Шурш-шурш-шурш. Внутри огромных песочных часов, отмеренных ровно на двадцать семь лет. Вот так.
– Не надо твоей матери к нам больше ходить, – на прощание сказала моя родная бабушка. – Обойдемся!
И я поняла: она испугалась. И еще я поняла: она испугалась мою мать. И я поняла, почему. Моя тайна нашла меня совсем не там, где я ее ждала. И она оказалась не такой, какой я ожидала. Совсем не такой. Мой папа не должен был умереть так страшно. Он этого не заслужил.
Мое частное расследование оставило великую сушь, без единого деревца и без надежды. Только красную землю, упертую в прожаренное солнцем красное небо.
Не стоит искать истину, она перевертыш.
Потом я узнала, что им просто не повезло. Моему папе и тем, кто был с ним. Буровую партию снес огненный смерч. Локальный пожар на буровой, антициклон, высокое атмосферное давление, низкая влажность и перепад температур между пустыней и горами превратили саксаульную степь в огромную топку. Ничего нельзя было поделать, но мой папа погиб, а его только-только вылечили от ожогов. Вот так. Я до сих пор плачу, когда думаю об этом. Лучше, когда отец просто уходит. Лучше, если у него другая семья. Зато ты точно знаешь – мой папа жив. И бабушка моя вовсе не злой, а несчастный и больной человек. Она узнала о смерти сына и потеряла рассудок. Ненадолго, но этого хватило, чтобы она стала такой, какая есть. Дедушке осталось тащить на своих плечах жизнь с больной женой, без сына, без внучки, без смысла. И он не выдержал и сломался. От паралича.
– Лиза, что случилось? – спросила меня мама.
Она впервые не назвала меня Лисенком. Все поняла, хотя я ничего не сказала.
– Я была у бабушки, – ответила я. – Расскажи мне про папу. Прошу!
Я заплакала, и она тоже.
У папы было любимое место в горах, куда он привел маму. Три ледяных высокогорных озера, каскадом одно над другим. Как голубое ожерелье в оправе из голубых елей и альпийских цветов, сложенное в футляр огромного ущелья. Если перебрать голубое ожерелье по каждому озеру, можно очутиться между небом и небом. Сверху – солнце и синяя ширь, внизу – облака. Прямо в ногах, как ковер.
– Я люблю облака. Они похожи на жизнь. Такие же разные, как и она. – Он повернулся к маме и улыбнулся. – Хочешь поваляться на облаках?
– На жизни? Хочу! – засмеялась мама.
Он поднял голову к небу и негромко сказал:
- Ухожу – и не спрашивай больше, куда.
- Белые облака плывут и плывут без конца…[9]
Вот так папа рассказал маме о своих песочных часах, а они только-только поженились.
Мила
Мой отец любил меня без памяти, за что мой старший брат меня лупил. Мне даже не нужно было жаловаться – его наказывали сильнее, чем он наказывал меня. Так продолжалось бы без конца, если бы мне не стало его жаль.
– Не тлогай его! Он мой! – закричала я отцу.
Я еще картавила. Мне тогда было лет пять. Я и сейчас картавлю, если сильно нервничаю. Но такое бывает редко. Я и не помню когда. Но скоро вспомню…
Брата все равно наказали. Я пришла к нему, он плакал в подушку. Совсем тихо. Наверное, так плачут настоящие мужики. Я легла в кровать брата и обняла, а он меня оттолкнул. Так сильно, что я упала на пол. Он лежал, отвернувшись к стене, я сидела на полу и смотрела на него.
– Вали отсюда! – крикнул он, не поворачивая головы.
Я помотала головой, хотя он не мог меня видеть. Он смотрел в стену, я на него. Долго. Мне хотелось бежать во двор и играть с друзьями, а я чего-то ждала. Мне очень хотелось играть с подружками, и мне надоело сидеть просто так, потому я обняла его и поцеловала в макушку. Она была колючей, как ежик.
– Ну, что сидишь? Вали отсюда, – пробурчал он.
Я поняла, что он меня простил, и побежала во двор. Больше брат меня не лупил, а наоборот, защищал. От всех. Сейчас его со мной нет. Он мне не пишет и не звонит. Умер год назад. Сердце. В память о нем у меня остались его грампластинки и проигрыватель. Мать хотела выбросить, я не дала. Решила, пусть хоть что-то напоминает о нем. А потом забылось. Мы переехали, и пластинки тоже переехали на шкаф в Мишкиной комнате.
Я услышала музыку. Громче громкого, как всегда. Зашла к сыну, чтобы сделал потише, и остановилась как вкопанная. Он слушал музыку, сидя на полу по-турецки и закрыв глаза, а рядом колонки от нашего старого проигрывателя «Вега». Я тихо закрыла дверь и ушла. Ушла на кухню и заревела. Миг назад была спокойна, и вдруг – лицо брата. То, что в детстве. В глазах усталость от привычной обиды, а губа закушена, будто в первый раз. Нет. Нельзя привыкнуть к тому, что тебе всегда плохо, если обидели близкие люди. Нельзя.
Я вспоминаю о брате только тогда, когда мне плохо. Он уехал, когда я училась в старших классах школы. Уехал, потому что не ладил с отцом и потому что у него так и не появилось верных друзей. Я была не в счет. Красивый, умный человек не нашел себя в своей обычной жизни, выпал из нее незаметно для остальных. Брат уехал из города оттого, что избил до полусмерти своего самого близкого друга. Из-за девушки. За что отец и выгнал его из дома. Мой отец быстро отходит, брат мог бы и не уезжать. Но у брата совсем другой характер, потому он уехал. Я ревела, прощаясь с ним; он прижал меня к себе и пообещал, что я всегда буду с ним.
– Вот здесь. – Он показал пальцем на свое сердце и улыбнулся.
Улыбнулся как-то смущенно, почти незаметно. Так улыбаются настоящие мужики, когда открывают чужим свою душу.
Родители переехали в наш город, поближе ко мне. Но я прихожу к ним редко. Все что-то некогда, не вовремя, не по пути. У них в глазах теплится привычная обида, я мысленно отмахиваюсь рукой. Но все же когда изредка прихожу к ним, обязательно вспоминаю брата, и у меня на глаза наворачиваются слезы. Отец молчит, а мать переживает. Вот так мы втроем и молчим о брате. Тяжело это. Может, поэтому и не хожу к ним. Как мне без него?
– Ма, ты че?
Я вытерла слезы рукавами футболки и подняла голову. Мой сын смотрел на меня глазами своего отца, только сын за меня испугался, а муж… Мне стало еще горше.
– Мишенька, сыночек, ты меня любишь? – спросила я, мой голос предательски задрожал.
– Приходится, – подозрительно ответил он. – Что случилось-то?
Я обняла его и крепко прижала к себе. А слезы опять потекли.
– Ма! Что случилось?
У моего взрослого сына тревожный голос, а обнимать еще не научился. Я засмеялась сквозь слезы. Зачем пугать ребенка? Может, все обойдется…
– Ма! Ты че?!
– Я дядю Володю вспомнила. Брата моего…
– Ну, даешь! – возмутился сын. – В голову черт-те что лезет! Я тебя никогда такой не видел.
– Прости, сыночек…
– Не прощу! – Синие глаза снова стали глазами моего сына, детскими и бестолковыми. – Завязывай ты это дело!
– Завяжу, – кивнула я.
– Ну, я пойду? – Он нерешительно затоптался.
– Иди…
– Точно?
Я поцеловала моего маленького взрослого сына, и он оставил меня одну в пустой квартире. Я прошлась по комнатам, скользя ладонью по новым вещам. Остановилась в дверях маленького тренажерного зала рядом с Мишкиной комнатой и вместо него увидела детскую. Увидела и заплакала. Я мечтала о большой семье, внуках, духомяных пирогах, шумной, веселой и бестолковой жизни, полной людей и простого, незаметного, но такого нужного счастья. А сейчас быть мне одной… И на утренней заре, и на вечерней, и в обеден день, и в полдень, и при частых звездах, и при буйных ветрах, и в день при солнце, и в ночь при месяце. Всегда!
Наверное, стоило поехать к свекрови, она бы меня поняла. Моя семейная жизнь калькировала ее. Но вылечить она меня не смогла бы. Как врач, сидящий на никотине двадцать лет, призвал бы пациента бросить курить. Это просто смешно. Глупо врачевать то, что не смог вылечить сам. Комично делать кому-то кровопускание, если сам перенес апоплексический удар. Бессмысленно предлагать клистир, если самому требуется промывание. Смешно ставить пиявки, если у самого крови уже не осталось. Моя свекровь – сапожник без сапог. Мнимый доктор. Мне предлагали плацебо – терпеть, а не бороться. Я претерпела время, а время времени не терпит. Моя свекровь могла лишь предложить мне групповую психотерапию, урок смирения пунктиром. Я опоздала, но лечиться не хотела, мне требовалась профилактика ее родового проклятия. Я не хочу стареть в одиночестве, это у них семейное.
Я взглянула на себя в зеркало и отшатнулась. На меня смотрело лицо старой женщины без единой морщины. Я его уже видела! Восхищалась, трогала пальцами… И, сама того не заметив, примерила чужую маску, а она приросла ко мне лицом старого, смешного, больного от жизни Панталоне. И не важно, что не видно морщин, – их пристрочили с изнанки, чтобы не помнить, не думать и не жалеть. Вот только моему Панталоне шутить совсем не хочется, ему нужно доиграть спектакль, остаться одному и… Я засмеялась, сняла грязную футболку и пошла собираться к родителям. Мне нужен был кто-то. Не знаю зачем.
Я ехала к родителям на автобусе вместо того, чтобы взять такси. Мне надо было подумать, как лучше подать правду жизни. Либо плач в жилетку, либо сухой остаток и конкретный разговор о том, как жить дальше. А как жить дальше, если жить не хочется? Автобус остановился на очередной остановке, я бросила взгляд на панельную девятиэтажку. Таких домов полно в моем городе. У них плоские крыши и крепко задраенные люки на чердаки. В моем городе сложно покончить с собой. В моем городе нет метро, электричек, широких рек и высоких мостов. Для того, чтобы лишить себя жизни в моем городе, требовалось приложить усилия. Найти отраву, залезть на последний этаж высотки, тащиться на край города к железной дороге. У меня даже веревки нормальной нет. И бритвы нет, и мыло кончилось! Даже здесь не везет. Придется тащиться в магазин за веревкой и мылом! Пробивать веревку и мыло через кассу! Стоять в очереди с веревкой и мылом, для того чтобы покончить с собой! Комедия! Просто комедия! Я – фигляр Панталоне! Старый смешной идиот, который сам это знает!
Я вдруг расхохоталась. Моя новая жизнь уместилась в четыре месяца, равные двадцати четырем часам канонического спектакля комедии дель арте. Спектакль давно идет, вся труппа в сборе. Все двенадцать персонажей! Мой сын, родители, мой брат, моя свекровь и свекор с любовницей, моя подруга и подружка сына Лиза. Я могла бы выйти замуж за человека, целовавшего мне туфлю, и стать счастливой, а вместо этого в заглавной роли везучие и сладкие влюбленные – мой муж и девушка с безжалостной улыбкой. А я несчастна, и я тринадцатая! Тринадцатая! Вместе со мной чертова дюжина. И он тринадцатый! Если бы у него было меньше учеников, блаженных и всезнающих апостолов, мы никогда его бы не узнали. Ему бы повезло, а нам бы не являлась каноническая дюжина везде и всюду, где ни плюнь. И я была бы счастлива! Комедия! Просто комедия!
Я хохотала и хохотала, как последняя истеричка, стоя на людной задней площадке автобуса, пока не приехала к дому родителей. Вышла из автобуса, и на глаза набежали слезы.
– Мне не успеть. Не справиться. Все поздно.
Я закусила губу, как мой брат, и пошла туда, где меня всегда ждут.
…Я потыкала вилкой в котлету и отложила ее в сторону.
– Что-то случилось? – спросила моя мать.
– Мой муж полюбил другую женщину.
– Сережа ушел к другой?
– Нет. Но это не за горами. Он отдалился. Стал чужим. Мне с этим уже не справиться.
Мой муж еще не ушел, но лучше хуже, чем лучше. Так проще привыкнуть.
– Я так и знала. – Моя мать поджала губы.
– Что знала?
– Ты не их поля ягода. Как же! Профессорский сынок и простушка! Тянись, не дотянешься! – закричала шепотом мать, вдруг остановилась и будто выплюнула: – Рано или поздно он от тебя ушел бы!
У меня внутри все задрожало. В моем горле застрял комок, а я не могла его проглотить. Как ни старалась.
– Зачем ты бросила работу? Как ты будешь теперь себя обеспечивать? Господи, я так и знала! Какой позор! Что я скажу нашим друзьям? Что моя дочь – брошенка? Так, что ли?
Моя мать с ненавистью смотрела в мое лицо. У меня перед глазами снова все расплылось, и я отвернулась к окну.
– Ревешь! Что теперь реветь? Поздно, моя дорогая! Где твоя Бухарина? У тебя даже друзей нет! К матери бежишь!
А к кому еще бежать? Я пришла к родной матери поплакаться, а получила удар под дых. Я пришла, чтобы меня пожалел самый близкий мой человек, а он плюнул мне в душу. Я получила удар под дых от мужа, а теперь от родной матери. Это смахивало на серию.
– Ты думала, каково взрослому мальчику расти без отца? А?
– Нет! Не думала. – Я сощурила глаза. – Я думаю, как мальчику вырасти без матери!
Я встала из-за стола и пошла к двери. Моя мать побежала за мной.
– Ты куда? – спросила она.
– Домой. – Я надевала туфли.
– А отец? Ты с ним не попрощалась, – голос матери дрожал.
– Ах, да, – усмехнулась я. – Обязательно.
– Ты издеваешься? – На глаза матери набежали слезы.
– Да, – ответила я.
– Над родной матерью?
– У меня больше никого не осталось, кроме тебя, мама.
Моя мать села на подзеркальный столик в прихожей и зарыдала. Безутешно и горько. Я села рядом и обняла ее. Она плакала и плакала, а я ее утешала. А как иначе? Она моя родная мама.
– Обещай мне, что ты не наделаешь глупостей, – попросила она.
– Я что, дура?
– Дура!
– Торжественно клянусь не наделать никаких глупостей!
Мама всматривалась мне в лицо. Внимательно и пристально. Она смотрела в мое лицо, а по ее щекам текли слезы.
– Честно. – Я обняла ее. – Даже не собираюсь. Ни за что на свете!
– Что за шум, а драки нет? – В коридор вышел отец.
– Потом расскажу, – отмахнулась мама. – Иди.
Папа стоял, не двигаясь с места. Глядя на то, как мама вытирает слезы.
– Никто не умер, слава богу, – сказала она. – Все остальное чепуха!
«Чепуха», – сказала я самой себе по дороге домой. И не такое бывает. У меня, слава богу, никто не умер. Но почему мне так плохо, что хуже не бывает? Наверное, потому, что моя прежняя жизнь распалась на куски, и я не знала, что делать.
Я спала, раскинувшись морской звездой в постели с собственным мужем, который был теперь рядом, но не со мной. Я потеряла свою тройную унцию, и мне впервые было тяжело. А под моей новой кроватью затаилась тоска заговорная. Тоска плачущая, рыдающая, заклинающая:
- Проходите мои слова во все щели земние, во все омуты глухие.
- Возверните следы мужа моего на место обихоженное,
- Божьей милостью положенное…
Лиза
К маме зашел Мишкин отец. Я открыла дверь и не узнала его. Вернее, узнала, но он изменился. Сильно изменился. Взгляд решительный, но невеселый, лицо уставшее и больное. Под глазами мешки, и морщинки у глаз смотрят вниз. Его глаза давно перестали смеяться.
– Лиза, здравствуй, – без улыбки сказал он. – Мама дома?
Я молча подвинулась, он прошел мимо. Я не сказала ни слова, не кивнула, а он пошел сразу туда, где мама. В мою комнату. Даже не спросив. Он закрыл за собой дверь, но мог и не закрывать. Я сбросила шлагбаум, как говорит Мишка, но не потому, что мне все равно, и не потому, что меня это злит. Просто я чувствую, что все изменилось. И я изменилась, но как, не пойму. У меня все время меняется настроение. Взлетает и падает, как американские горки. Я то плачу, то смеюсь, то плачу и смеюсь одновременно. Мне то хочется назад, во времена до переезда Прокопьевых, то стать скорее взрослой и уехать, куда глаза глядят. Но я не сделаю этого по одной простой причине. Я люблю свою маму, и у нее никого нет, кроме меня, и кроме меня, ее некому защитить. Хотя у нее сильный характер, я недавно это поняла. После истории с папой. Но даже сильный может сломаться, если он остался совсем один. Это поймет любой дурак. Даже такая салага, как я.
Из кухни в прихожую падал конус солнечного света, он перерезал путь к моей комнате. Я шагнула и попала в пучок солнечного ветра, он сам привел меня к кухонному окну. Я села на подоконник, взяла ноги в кольцо собственных рук и заглянула туда, куда приглашал меня солнечный ветер. Во дворе яблоку негде было упасть. Кажется, во всем нашем доме осталось трое – наша маленькая семья и кусочек Мишкиной. Я подумала о Мишке, и у меня снова защипало в глазах. Он не переваривает меня, злится, орет. Зачем я звоню ему? Чтобы услышать недовольный голос и дождаться, когда он нахамит? Он меня не прощает и не простит за своего отца. Разве я виновата? Я ни при чем! Мне вообще не нужен его отец! У меня по носу потекла слеза и упала на разбитую коленку. Я покорябала ногтями царапины, получились кровавые слезы. Посмотрела на свои кровавые слезы и прижалась к ним щекой. Во мне снова сидит кусок грусти; во дворе не протолкнуться, всем весело, а мне не хочется туда идти. Совсем не хочется. Что мне там делать одной? Я закрыла глаза и увидела Мишкино лицо. Я теперь всегда вижу его лицо, даже если его рядом нет. Что теперь будет? Разбежимся? Я представила, как мы будем при встрече отводить глаза. Подниматься молча по лестнице и спешить открыть дверь. Случайно сталкиваться и проходить мимо. А потом он привыкнет, а я нет. А я нет… Я заревела, и ревела бы сто лет, если бы вдруг не услышала шаги. Я уткнулась лицом в колени, прямо в свои слезы и сопли, и перестала дышать. У двери постояли и вышли. Я услышала, как хлопнула входная дверь. Мишкин папа ушел. Один.
Мне не хотелось идти, мне хотелось реветь и жалеть себя, но я должна была быть с мамой. Я слезла с подоконника, умылась холодной водой на кухне и пошла в свою комнату. Почему мне так страшно? Что теперь будет?
– Мам, что теперь будет?
– Ничего не изменится, – медленно сказала она. – Все будет как всегда.
– Ты так решила?
– Да. – Она взглянула мне в лицо и отвернулась к гречишной стене.
– А он что?
– Ушел, – глухо ответила мама.
Мне было тяжело и отчего-то стыдно. Я не знала, что делать и что говорить. Все было неправильно. Я вспомнила: идеальные вещи приходят к тем, кто требует, а не ждет. Я всю жизнь ждала своего отца, а сейчас надеяться уже нечего. Папы нет и не будет. И никто к нам больше не придет. Почему нечестно хотеть, чтобы наша семья была не маленькая, а большая? Почему нечестно? Почему?!
– Я от тебя никогда не уйду, – неловко сказала я. – Ты же знаешь!
– Знаю.
– Мам, я уйду ненадолго? Совсем на капельку? – Мне нужно было подумать. – Я скоро приду. Правда!
– Хорошо.
Она смотрела не на меня, а на гречишную стену. На кладбище реальных вещей, не дотянувших до идеала. Где-то там оказался Мишкин папа, превратившийся в кусочек каменной крошки. Значит, он сам не дотянулся до идеала?
Я потопталась у двери.
– А он ничего не сделал? Вообще ничего?
Мама молчала. Я уже собралась уйти, как она сказала:
– Он обещал ждать.
– Потом будет видно. Да? – спросила я.
– Не знаю, – ответила мама.
– А ты знай! – вдруг закричала я. – Я хочу, чтобы у нас была большая семья, а не маленькая! Я хочу, чтобы мы собирались за большим столом, пели песни и ели пироги с ванилью! Я хочу ходить большой семьей в горы и на каток! В кино и театр! Всюду! И мне плевать, честно это или нечестно!
– Прости, – тихо сказала мама.
И я испугалась. Вся моя злость испарилась, будто ее и не было.
– Я просто так, – мой голос дрожал. – Я не заставляю. Нам вдвоем хорошо. Честно!
Мама подошла и обняла меня крепко-крепко. И как закружила!
– Мам, ты чего? – засмеялась я. – Ну, правда, чего? Мам!
Я смеялась, а она кружила меня и кружила, пока мы без сил не свалились на пол в моей комнате.
– Мам, что случилось? Говори же! – потребовала я.
Она взяла меня за руки и заглянула мне в лицо. В ее глазах гонял солнечный ветер, сияющий и легкий, каким он бывает весной. И я все поняла. Мне сначала чуток стало страшно, а потом нет.
– Давай пойдем сегодня в кафе, – предложила я.
– Давай, – улыбнулась мама.
Я оглянулась к окну. Солнце влезло к нам в форточку и протянуло свою лучистую пятерню. Прямо к нам! Я запрокинула голову и засмеялась. Здорово! Всегда бы так! Всегда!!!
– Хорошооо! – закричала я и вдруг запнулась. А как же Мишка? Значит, все?
– Что ты, Лисенок? – встревожилась мама.
– Ничего. – Я широко улыбнулась, чтобы не пугать маму. – Мне на минуточку нужно во двор. Я пойду? Ты не обидишься?
– Нет.
У нее встревоженный вид, а мне нужно подумать. Я чмокнула ее в щеку и побежала к двери.
– Вечером поход в кафе! – крикнула я из прихожей.
Надела кроссовки и спустилась во двор, чтобы думать без никого. Мои ноги сами понесли меня к зарослям сирени. Она давно растет в нашем дворе и стала высокой, как и деревья. Я никогда не видела такой сирени, как у нас. У нее толстые стволы, а к осени цветы превращаются в коричневые шишечки. Зато весной она какая! Вся в пухе и перьях из цветов белой сирени и розовой. И листья блестят солнцем, как зеркальца. Я полюбовалась сиренью, и мне захотелось ее домой. Я обошла кусты, поразмыслила и полезла повыше. Стянула ветки в охапку и засунула нос в пахучее и холодное облако крошечных цветов. Мои легкие наполнились запахом четырехлопастных пропеллеров и выветрили мысли из моей головы. А когда открыла глаза, перед моим носом, откуда ни возьмись, замаячила счастливая цветочная пентаграмма. Ам! Я почавкала белоснежным счастьем и загляделась на синее небо в зеленых заплатках из листьев сирени.
– Ты че делаешь?
Я глянула вниз, у кустов сирени стоял маленький мальчишка.
– Цветы рву. Не видишь, малявка?
– Они не твои!
– Хочешь сиренью по лбу?
– Не твои! – крикнул он и отбежал подальше.
Я ломала сирень, а вредный мальчишка канючил, что она не моя.
– Общая! – Я размахнулась огромным букетом сирени.
– Моя! – вякнул мальчишка и испарился как дым.
Я шла домой под дырчатой тенью плакучих березок у маминого окна. Они уже надели сережки и развернули тонкие листья к солнцу, а я вспомнила их осенью. Сейчас они веселые и нарядные, а скоро заплачут под осенним дождем.
«Не вербочка белая, – подумалось мне, – а березка – мама моя».
Я осторожно погладила березовый лист и убрала руку. Лист дышал устьицами, ловя солнечный ветер. Не надо ему мешать. Осенью солнца мало, а зимой его, считай, нет. И листьев тоже нет. Ничего нет. «И у тети Милы тоже может ничего не быть», – вдруг подумала я. Остановилась у подъезда и поделила букет надвое, для мамы и тети Милы. Поднялась наверх и положила сирень у Мишкиной двери.
– Какая разница, кто его принес? Главное, ей будет хорошо.
Я распахнула дверь, мама ждала меня в прихожей. У нее были такие испуганные глаза!
– Мам, а я сирень тебе принесла! – крикнула я и засмеялась.
Она прижала меня к себе, и я услышала сердце, общее для нас двоих.
Миша
Я не могу видеть лицо матери. Мне ее жаль, за это я смотрю на нее волком. Она глядит на меня, будто о чем-то просит, а меня душат слезы, и я отворачиваюсь, чтобы не зареветь как маленький. Ненавижу папашу! Чтоб он сдох, тварь! Не хочу быть дома. Я ухожу из дома и знаю – ей надо, чтобы с ней кто-нибудь был. Но я не могу видеть ее несчастные, растерянные глаза и ее постаревшее лицо.
– Не уходи, – попросила она меня. Жалко-жалко. Я снова чуть не заревел.
– Не уйду! – зверея, заорал я.
– Нет? – жалко-жалко переспросила она меня.
– Нет, – буркнул я. – Пойду на свою улицу.
Она кивнула, и я ушел, зная, что нужно остаться. Ненавижу себя! Сволочь!
На аэродинамической улице шпарило солнце, в горах бесновалась гроза, сшибив обугленные кучевые облака в ядерный гриб с лысой ледяной башкой. Ядерный гриб тянул к городу волосатую серую лапу, раскручивая шквальный ворот огромной удавкой. Прямо ко мне. Я подошел к перилам, под ними горланили сирены и визжали шины целой тучи долбаных консервных банок. Не хожу теперь в Лизкину сторону. Противно и… страшно. Я нагнулся, уличный вой воткнулся мне в уши.
Сигануть, что ли? Ни папаши, ни матери. Никого!
Я пнул перила, они закачались. Тупые железяки! А за ними тупые консервные банки. В одной из них разъезжает папаша. Сволочь! Я пнул по перилам, они прогнулись наружу. Уличный вой стал громче.
– Аааа! – зверея, завопил я. – Аааа!
И мою голову заволок бешеный красный туман. Я пинал и пинал перила как психбольной. Как обдолбанный нарик. Как последний идиот. Пинал и орал. А потом сдулся как воздушный шарик, сполз на гравий и заревел. Впервые за эти дни. Вспомнил, как все было. На лыжах и на санках в горах. На машине и на море. На дурацких спектаклях в ТЮЗе и в цирке. Даже детские утренники вспомнил! Все праздники вспомнил. Вспомнил, как отец таскал меня на плечах и учил стрелять в тире. Всегда вместе. Всегда весело. Втроем! Я даже помню его слезы, когда я сломал ногу и загибался с открытым переломом. И помню, когда отец целовал мать, я отворачивался, стыдно было. А сейчас нет! Не стыдно. Где все это? Как они могли? Гады!
Какого черта они потащили меня в картинную галерею? Мне было пять лет. Нашли кого учить уму-разуму! Там я увидел святого Себастьяна, утыканного заточенными стрелами, из ран хлещет кровь. До сих пор это помню, и больше ничего. Зачем они меня туда привели? А как отец первый раз взял меня на футбол? Футболиста унесли на носилках, а я все спрашивал:
– Папа, он умер? Он заболел? А почему так, а почему сяк?
Осподи! Я сплюнул и вытер слезы грязными ладонями. Лег на гравий и закрыл глаза без единой мысли в голове. Не знаю, сколько лежал, и вдруг услышал папашин голос:
– Миша! Можешь со мной поговорить?
Я даже не шевельнулся. Сделал вид, что умер. Он пошел ко мне, я слышал, как шуршал гравий, и меня корежило от злости. Уберись ты от меня, тупая сволочь! Не лезь! Не лезь! Провались на…!
– Можно?
Он сел рядом со мной, хотя я сказал «нельзя» тремя буквами. Он сыпал гравий и молчал. Меня это колбасило до красного бешенства.
– Что? – рявкнул я и осекся.
У него было серое лицо и мешки под глазами. Лицо мертвеца. Ясно почему. Она его опять бортанула, сто раз ему отказывала. Я знал это от Лизки. «Миша, не бойся, не надо переживать», – сказала она мне своим тоненьким голосочком. А я и не переживал; мне хотелось ее прибить, и реально прибил бы, если бы не увидел слезы в ее глазах.
Приперся просить прощения, чтобы зажить, как и было? Ни хрена! Как раньше уже не будет. Никогда!
– Я тебя люблю, – сказал он, и его лицо сморщилось. – Очень люблю.
– Нет! – каркнул я. Я хотел сказать «а я тебя нет», но у меня перехватило горло, и получилось, как получилось.
– Правда, – он меня не понял, но это неважно.
Мне действительно сейчас было неважно, любит он меня или нет. Мне важно было повернуть все назад и забыть, как дурной сон. А не слышать, как мне напоминают снова и снова, что прошлой жизни не будет.
– Я… – он запнулся. – Я не знаю, что сказать.