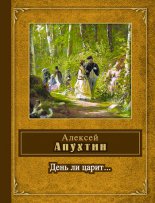Журавлик по небу летит Кисельгоф Ирина
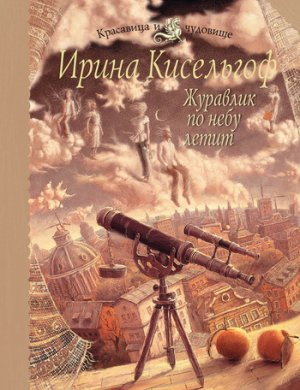
– Я родом из Рязани, – ни с того, ни с сего созналась Галина. – Там полно таких красавиц. Глаза и брови черные, губки красные, а щеки пухлые, как яблочки. Кровь с молоком.
– Спасибо, – с нескрываемой иронией поблагодарила я.
Я ненавижу свои яблочки! И я ненавижу свой макияж! Я его ни у кого не просила! Кровь с молоком… Фу, гадость!
Галина засмеялась и ущипнула меня за обе щеки. Я разозлилась внутри себя и отодвинулась подальше от нее.
– Наливные яблочки! – смеялась она. – Лиза, твои яблочки – это комочки Биша.
– Комочки? Какого такого Биша? – буркнула я и собралась идти. Я опоздаю в школу! Сколько можно стоять?
Галина потрусила за мной, я ускорила шаг. Ей, что, делать нечего?
– Комочки Биша – младенческий жирок, он откладывается за щечками, – нудила она. – Потому все дети такие симпатичные. Биша первым их описал.
– Зачем откладывается? – раздражилась я.
Я вообще-то здорова! А ее симпатяги с комками ждут. Еще не описанные…
– На всякий случай! – засмеялась Галина.
А я решила на всякий случай уйти. Мне смешно не было. Мне еще в школе выживать целый день. С комочками Биша!
– Галина Сергеевна, я в школу опаздываю!
– Беги!
Я побежала в школу, мой взгляд споткнулся на стеклянном поезде витрин огромного магазина. Блондинка без щек, приоткрыв рот буквой «о», предлагала духи «Ј’adore». Мои губы прошептали сами собой, как в рекламе:
– Жадо-о. Ди?-?.
Магнитные двери заманчиво распахнулись, и меня окутал терпкий аромат планеты красоты. А я даже не успела произнести «сим-сим». На стеклянных стеллажах, распростертых многоярусными крыльями, толпились коробочки-колибри. Разноцветные колибри лоснились целлофановым глянцем и сверкали золотыми и серебряными лентами букв. Разноцветные колибри пахли просто божественно! «Ах!» – сказал кто-то внутри меня.
– Девочка, что тебе? – спросила продавщица, чуть старше меня.
– Мне… – очнулась я. – Этот… Как его…
Она снисходительно улыбнулась, я покраснела.
– Крем, – чуть ли не прошептала я. – Тональный.
– Какой?
– Бледный… Не знаю… Это для мамы, – замямлила я. Как салага! – Он дорогой?
– Здесь все дорого. С мамой приходи. – Она отошла от меня, потеряв интерес.
Я потопталась на месте и вышла. Мне почему-то было неудобно и даже стыдно прогуливаться вдоль стеллажей, разглядывать, нюхать, пробовать на руку, как это делали другие женщины. Они были они, а я была я. Потому и ушла. Я взглянула на свое отражение в витрине и все поняла. У меня не было парня, потому что у меня уже был проклятый Биша со своими комочками. Вот так и я узнала, кто виноват в том, что жизнь моя не заладилась с младенчества. Узнала и побрела в школу, потому что брести больше было некуда и не к кому.
Я стояла на школьном крыльце и ждала Зинку. Ее все не было, я уже собралась домой, как ко мне подошла Реброва со своими прилипалами.
– Где твой блондинчик? – спросила она. – Давно не видели. Запугала?
– Да, – согласилась я. – Я показала ему тебя.
– Ромашова, ты как ребенок! – снисходительно засмеялась она. – Я, может, дружить с тобой хочу.
– Хоти, – не стала возражать я.
Глаза Ребровой вдруг сузились, я оглянулась и увидела Мишку. Он вывернул из-за забора и шел к нам. У меня почему-то сжалось сердце. Может, оттого, что я его не ждала.
– Привет! – сказал он.
Он смотрел на Реброву, словно здоровался именно с ней. А меня будто бы не было.
– Привет! – засмеялась она.
Реброва глядела в его глаза, он – в ее. Их глаза образовали магический замкнутый круг из словосочетания «они – это они, а я – это я». Ключ «сим-сим» к нему не подходил. Я – тоже.
– Пойдем. – Я потянула Мишку за руку, мне хотелось скорее уйти.
– Познакомь с подругами. – Он засмеялся, его челка привычно взлетела вверх, потом упала.
– Это не мои подруги, – сказала я. Мой голос отчего-то дрожал.
– Ромашова, ты что? – нарочито удивилась Реброва. – Мы с тобой с первого класса дружим.
– Она ревнует! – заливисто рассмеялась Мотовилова.
– Лиза не знает, что такое ревность, – снисходительно бросил Мишка.
– А что такое любовь, знает? – томно спросила Реброва.
Они говорили обо мне в третьем лице! Меня будто бы не было!
– Надо спросить у нее, – хохотнул Мишка.
Раздался взрыв смеха. Без меня. Я резко схватила сумку и пошла, а потом побежала. Мне нужно было скорее уйти. Все равно куда! Я неслась, не разбирая дороги. Во мне бушевали обида, злость и что-то огромное, что не давало дышать. Мне нужен был воздух, а его в легких не было. Там торчала пара синих самодовольных глаз!
Мишка догнал меня за школьным забором.
– Торопимся? – Он дернул меня за рукав.
– Не смей говорить обо мне в третьем лице с посторонними! – Я с остервенением выдрала руку.
– У меня одно лицо! – хохотнул Мишка. – Я в нем и говорил с твоими подружками.
Подружками? Я чуть не задохнулась от негодования.
– Это не мои подруги и никогда ими не были! Ясно?
– Ясно, – засмеялся Мишка. – Моими подругами они тоже не были. До сегодняшнего дня.
– Вот и вали к ним! – крикнула я, не помня себя.
– Лизон, ты что, правда, ревнуешь? – расхохотался Мишка.
– Тебя?! – Я сощурилась от бурлящей во мне яростной злости. – Да Сашка лучше тебя в сто раз!
– Сашка тебя кинул! – вдруг взбесился Мишка.
– Он мне звонил!
– Вот и вали к нему! – процедил Мишка, круто развернулся и пошел. Прямо к проезжей части.
Раздался визг тормозов, я закрыла глаза. А когда открыла, то никого не увидела за сплошной стеной из автобусов и машин. Пара синих глаз исчезла под визжащими колесами без следа. И я вдруг поняла, что больше никогда его не увижу. Я растерянно оглянулась и подняла голову. Желтый небесный шар воткнул мне в глаз острый солнечный луч, и я зарыдала прямо на улице. В голос. А никто даже не обернулся.
– Лиза! Ты дома? – крикнула мама.
Я быстро перелезла через подоконник и захлопнула окно. Не хотела я никого видеть, даже маму. Мама раскрыла окно, я вжалась в стену за створкой и перевела дух, когда она наконец ушла. Мне нужно быть одной. Разве не ясно? Я посмотрела на сломанный ноготь и вспомнила тональный крем. Вспомнила и снова заплакала. Зачем он мне? И юбки короткие, как у Ребровой, мне не нужны. Тональный крем и короткие юбки – не мои пуговицы. И Мишка … Я вдруг опять заревела, а носового платка нет. И его тоже нет!.. Никого нет! Я вытерла слезы подолом футболки. Все равно стирать.
Мама говорит, что у любой пары точек можно найти одинаковые окрестности. Я ее сразу не поняла, я же не статистик. А, оказывается, она имела в виду, что для каждого горшка своя крышка, а для каждой петли своя пуговица. Вот и получается, что в жизни самое главное искать одинаковые окрестности друг у друга. А если это затянется? В смысле поиска… Сколько мне ждать? Я судорожно вздохнула и снова чуть не заплакала. Мама рассказывала, что ожидание можно вычислить. Все можно вычислить. Даже нижнее или верхнее бутербродное масло. Только предсказать точно для отдельной человеческой точки невозможно. Для толпы можно, а для меня нельзя… Я опять заревела. Я была случайной точкой без пары с ее одинаковыми окрестностями. Это несправедливо! Я так не хочу! Я хочу короткую юбку, худые бледные щеки и… Этого урода Мишку! И губы буквой «о»!
– Мама! – отчаянно позвала я и полезла через подоконник назад домой.
Мама должна мне помочь. Мне нужна моя мама. Очень!
Я побежала по коридору и вдруг остановилась как вкопанная у закрытых дверей кухни.
– Это невозможно, – сказал мамин голос.
– Почему? Из-за всего?
Я похолодела, еще ничего не поняв. У нас был Мишкин папа, а мама никогда не закрывала дверей. Вообще никогда. И у Мишкиного папы был странный тон, совсем непривычный для меня. Всегда – веселый и ироничный, сегодня – взволнованный, даже… даже молящий. И мамин голос – отстраненный и чужой.
– Из-за всего? – повторил Сергей Николаевич.
– Из-за всего, – ответила мама.
– Ты не понимаешь, – глухо сказал Сергей Николаевич. – Я сам не понял ничего. Мне поначалу просто нравилось смотреть на тебя, слушать тебя. С кем бы ни говорила… Я даже слов не понимал. Слушал, и все, – он помолчал. – Тебя не вижу, мучаюсь. Улыбку помню, глаза помню. Больше ничего… И все равно радость. Все вокруг нравятся, всё получается. А ночи не сплю. Ни о чем не думаю, тебя вспоминаю. Как вошла, как вышла, что сказала. Все помню. Лица твоего не помню. Разве так бывает? – спросил он. – Не перебивай! Не надо, прошу тебя…
Я схватилась ладонями за щеки, они горели от жара. Мне было мучительно стыдно оттого, что я слушаю то, что слышать нельзя. Но уйти не могла, меня пригвоздили к месту чужие, реальные вещи. Я закрыла щеки ладонями, не смея поднять глаз, и увидела внизу пол, крашенный коричневой краской, с маленькими выбоинами от каблуков. Я только сейчас заметила, что пол в коридоре рябой от отметин, а в отметинах запеклась черная тень.
– Я хочу быть с тобой вместе. Чувствовать тебя рядом. Знать, что ты со мной, где бы я ни был. Видеть, как улыбаются твои глаза, трогать твои волосы, держать твою руку. Я все хочу! Все! Ты понимаешь?!
– Иди, – тихо сказала ему мама. – Иди, пожалуйста! Пожалуйста! Я больше не хочу…
– А что ты хочешь? – Сергей Николаевич почти кричал. – Что? Я отдам тебе все, что у меня есть! Все, что захочешь! Все, что пожелаешь! – Он вдруг запнулся, а потом устало добавил: – Да ты все у меня забрала. Ничего не оставила. Ни сердца, ни души, ни семьи. Одну тоску. Я ухожу домой – я там один. Я болен, мне никто не нужен.
– Не все можно отдать, – жестко и невпопад сказала мама. – Есть то, что отдавать нельзя.
– Нельзя? Мне сердце жжет, понимаешь? Ты понимаешь? Хочу освободиться от тебя – и не могу! Я жить хочу, так дай мне жить!
– Живи! Я не люблю тебя. – Ее слова ударили наотмашь, и тут же разлетелось вдребезги стекло. Я вздрогнула, как будто бы сама разбила.
– Оля! Это ведь не так? – спросил Мишкин отец, я не узнала его голос. – Это неправда? Оля, скажи! Это не так? – будто не веря, молил он. – Да? Это неправда?
– Правда.
Отрывистое слово «правда» поставило точку, и началась тишина. Долгая тишина. Пока не зазвонил чужой мобильник. Ему ответили тяжелыми шагами. Я метнулась за шкаф и услышала, как хлопнула входная дверь. Я осталась стоять в коридоре под бешеный стук собственного сердца. И сердце достучалось до моей головы. А как же Миша? Я испугалась так, что вся вспотела. Он меня не простит. Ни за что… Как она может быть такой злой? Это нечестно!
Я схватилась за ручку кухонной двери, помедлила мгновение, рванула дверь и влетела в комнату. Мама сидела, отвернувшись к окну.
– Я все слышала! – крикнула я. – Ты не смеешь так поступать. Это нечестно!
– Не смею, – согласилась мама и закрыла лицо руками. Она ответила сразу, будто ждала.
– Пусть хотя бы одна семья будет счастливой! Пусть! – кричала я.
– Пусть, – Мамины плечи вздрогнули.
Я поняла, что она плачет. Совсем не слышно. И мое сердце не выдержало. Сердце думало, что ему худо, а оказалось, бывает еще хуже. Я бросилась к ней и обняла. Я ревела, как ненормальная, а она перестала. Она жалела меня, а я не жалела ее. Вот так.
– Ты не думай, я не против, – вытирая слезы, медленно сказала я. – Только Мишку жалко. И тетю Милу.
– Да.
– Ты думала о папе?
– Да, – помолчав, ответила мама.
– Что нам делать?
Мама обняла меня, спрятав лицо в моем животе.
– Не знаю.
– Скажи ему, чтобы он тебя не мучил. Не то я сама скажу!
Мама засмеялась мне в живот и подняла лицо.
– Хорошо, скажу.
У меня защемило сердце. Мама смеялась, а в глазах ее были слезы. И мое сердце опять думало, что ему худо, хуже не бывает.
Я не стала выходить на балкон, не хотелось встречаться с Мишкой. Я просто сидела в своей темной комнате и глядела на гречишную стену, блестевшую лунным рафинадом. Гречишная стена была сложена из реальных вещей, убитых своим идеалом. Больше об их отношениях никому ничего не известно.
Миша
Я пришел в школу на взводе. Это плохо. В этом случае не ты командуешь взводом, а взвод командует тобой. Собственно, так и произошло. Я не спал всю ночь и не был готов жить в школе. Это все равно что добровольно подписаться в токубэцу когэкитай[7], стать камикадзе и протаранить самого себя, начхав на вражеский корабль. У меня было мутное настроение; причин много, одна из них – мой лучший друг Сашка. Тихушник и первейшая сволочь. Ему повезло, что он опоздал, и ему повезло, что на перемене я ушел курить без него. Меня от него тошнило.
У туалета меня поймала Сарычева.
– Миша, можно с тобой поговорить? – залепетала она.
– Нет, – хмуро ответил я. – Я не могу говорить. Я умею только курить.
– Ну, можно мне с тобой покурить? – тупо попросила она. – Пожалуйста!
– Где? В мужском туалете? – раздражился я. – Там и без тебя тошно.
– Ну, пошли за школу, – заныла она. – Пожалуйста!
– Сарычева, иди куда хочешь. Без меня! – И я захлопнул дверь перед ее носом. Как бы женщина Сарычева осталась стоять у мужского туалета.
Если было бы можно, я бы на химию не пошел, но в зоне под названием школа трудовая повинность обязательна, самовольные отгулы поощряются смертной казнью через вызов родителей к директору. С отцом это проканало бы, с матерью – нет. Она водрузила бы крест на моей маковке еще при жизни. Моей жизни, надо заметить. Я покурил и пошел отбывать.
Мой лучший друг обретался в наилучшем настроении, я – в наихудшем. И я знал почему. И еще я знал, что мне хочется дать ему в зубы, но не можется. Настроения нет. Я сам себя по жизни еле волоку.
– Химички не будет! – заорала Феклистова, влетая в кабинет. – Заболела!
Раздался бешеный рев, и толпа ломанулась на волю. Я остался сидеть, с толпой мне было не по пути. Но перпендикулярно со мной думали не все, потому я снова оказался с Сарычевой, Сашкой и группой фанатов имени меня. Они ждали моих инструкций, я надеялся, что они уйдут в самоволку.
– Миша, ну пойдем за школу, – занудила Сарычева. – Мне надо с тобой поговорить.
– Сарычева, да не парь ты меня! – обозлился я. – Надо – здесь говори!
– Сарычева, давай! – захохотал Парамонов. – Мы все равно знаем, что ты скажешь.
– Миша, я люблю тебя, – передразнила Сарычеву ее лучшая подруга Пименова. Знаем мы лучших друзей!
Все заржали как больные лошади, я – нет. И Сарычева ошиблась.
– Люблю, – тихо повторила она и заглянула в мои глаза. Как овца!
– А я тебя – нет. Прости, Сарычева, – сказал я как нормальный человек. Мне было ее жалко, почти как себя.
– Почему? – спросила она дрожащим голосом.
– Нипочему! – рявкнул я. Какая ей разница? Я сам не знаю. Не нравится она мне! И мне ее не жаль.
– Урод! – Сарычева вылетела из кабинета в слезах, за ней Пименова. Лучший друг!
– Наш Миша любит девочку Лизу, – проблеяла лучшая сволочь.
– О! – возбудилась тусня. – Колись! Какая такая Лиза?
Я вдруг почувствовал, что меня морозит. От маковки до самой печени. Меня морозит от ненависти к самой лучшей сволочи, которую я знаю! Я схватил Шурца за грудки и припечатал его к столу.
– Заглохни, козел! Ты меня реально достал!
– А че тебя так колбасит? – усмехнулся он снизу, и его глазья царапнули меня ненавистью. – Лиза все еще девочка?
– Ха! – загоготала тусня. – А Миша все еще мальчик!
Мою голову взорвал красный туман, и мы свалились в бешеной драке. Я хотел его убить, и я его убил. Почти. Я сидел верхом на нем, воткнув его башку под лабораторный стол.
– Что, Сашок, – ухмыльнулся я, – ни в чем не везет?
– Сволочь! – с ожесточением крикнул он. – Ты мне никто! Я вас видел!
– И че? – засмеялся я. Я все понял, мне везло больше. Во всем.
– Пошел на…! – Он отдернул мои руки от своей груди. – Гонево – твой лучший друг!
– А! – заржал Лебедянский. – Телку не поделили!
– Какая она, эта Лиза? – загорелась сплетница Феклистова. – Ничего? Саш!
Сашка вдруг дернул головой, всхлипнул и заревел. Он плакал, закрыв лицо руками. Мы смотрели на него и молчали, а потом девчонки бросились его поднимать.
– Да идите вы! – крикнул он и ушел. Без сумки.
Я сгреб его шмотки и побежал за ним. Я думал, что потерял лучшего друга. И я не знал, что мне ему сказать.
– Что? – он обернулся.
На меня глядело лицо моего лучшего друга. Губа разбита, а у меня нет. Но это неважно. У меня было такое же потерянное лицо. Хоть и без разбитой губы.
– Ты не думай. У меня с ней ничего нет, – запинаясь, сказал я и зачем-то спросил: – Ты ей не звонил?
– Нет, – хмуро ответил он.
Я протянул ему руку, Сашка ее пожал. Вяло. И пошел в свою сторону. Не оглядываясь. Я долго смотрел ему в спину, а потом пошел в свою. Я потерял друга или нет? Она мне врала или Сашка? Я понял одно: разговор закончился бы не так, если бы у Сашки все было путем. И я знал точно – я тупой. Мне было паршиво, мерзее не бывает. Сволочью оказался я. И мое двойное «я» рухнуло к абсолютному нулю.
Я нуждался в аморфном сочувствии от любого объекта, потому пошел к маме и распластался на ее кровати.
– Что? – спросила она.
Я неопределенно повращал ладонью.
– Опять нахватал двоек?
– Нет.
– Сорвал урок? – напряглась она. – Снова в школу вызывают?
– При чем здесь школа? – Я начал заводиться. – Я вообще!
– У тебя вообще, у меня от тебя частности! – крикнула она.
– Ты че?
Блин! Я за помощью пришел, а меня отшивают. В грубой форме! И не кто-нибудь, а родная мать!
– Что ты опять натворил? – закричала она. – Что вы мне душу терзаете? Что вам всем надо? Что?!
– Да я просто пришел! – заорал я. – Иди ты, знаешь куда!
Я взлетел с кровати и хлопнул дверью. Мать стучала мне в дверь, я не открыл. Она извинялась, я нацепил наушники и врубил на всю мощь «The Cure». Заунывный готический рок с его мерным барабанным боем меланхолично влился в мое настроение, и я передумал жить.
Рядом со мной жила девчонка, из-за которой я почти потерял лучшего друга. Я должен ее ненавидеть, а вместо этого мне в голову лезет другое. Я как-то увидел Лизку на своей аэродинамической улице. Рано-рано утром. Солнце в голубой дымке, и она в голубом гало, как в светящемся шаре. Я подошел, она даже не обернулась. Смотрела мимо меня и водила пальцем по своим губам. Значит, о чем-то думала. Она всегда так делает.
– О чем думаем? – спросил я.
– Ни о чем, – не сразу ответила она.
– Вообще?
– Я чего-то хочу, – мечтательно произнесла она. – Очень хочу.
– Чего? – спросил я, как приклеенный глядя в ее глаза. Они туманились голубой дымкой, а моя голова туманилась от запаха молочных ирисок. – Скажи, чего?
– Не знаю, – горестно вздохнула она.
Так смешно! Я тогда рассмеялся. И сейчас смеюсь. Эхх! Голова моя, головенция! Короче, я попал. И так все ясно. Прости, Сашка.
Я засунул в рот молочную ириску и закрыл глаза. Вместе с запахом молочных ирисок ко мне пришла Лизка и глянула на меня своими огромными глазенапами. Во мне завиляла хвостом дурацкая щенячья радость. И я улыбнулся до самых ушей.
– Не знаю, – в ответ вздохнула она. Фекла!
А если она все же Сашку?.. Ой, я попал! Ой, попал! В малявку! Ну что с ней делать? Она же ни бе, ни ме… Ну почему мне так хреново, а я при этом улыбаюсь? Как последний придурок! Кто-нибудь скажет? Я вздохнул как старик. Голова вообще не варит. Как жить дальше?
Жить не хотелось, но приходилось. Я вышел в аэродинамическую трубу и увидел Лизку. Струсил, хотел уйти, но зачем-то остался. Она сидела на кровати, маленькая и худенькая. Голова опущена, хохолок поник, руки на коленях, а ладошки лодочкой. Я сел рядом и стал молчать. Нам обоим было не по себе, но ей хуже: она не повернула головы, а я повернул. У нее на ресницах висела прозрачная капля. Она сверкнула на солнце радугой, покатилась по распрекрасной щеке и упала на ее ладонь. И на меня накатило затмение мозга. Мне захотелось взять ее ладонь и дотронуться губами до того места, куда упала радужная капля. Честное слово! Я не вру!
– Ты как? – вместо этого прохрипел я.
Она заревела тихо-тихо. Лицо в ладошках, сложенных лодочкой. Плечи трясутся. И все.
– Лиз, ты чего? – я прокашлялся. – Скажи.
Она помотала головой, хохолок забился маленьким флажком.
– Кто-нибудь обидел? Скажи. Я тебя от кого хочешь защищу!
– Миша, – вдруг сказала она своим тоненьким голосочком. – Помоги мне, – и подняла голову.
Я обмер. Из ее огромных глаз вынырнули две моих головы с синими блюдцами. Ни лба, ни подбородка. Четыре синих блюдца. Все! Ее глаза наполнились слезами, четыре синих блюдца захлебнулись.
– Чем? – выдавил я.
– Мне нужно найти моего отца.
– Так он жив? – поразился я.
– Да, – не сразу сказала она, отвернулась и закорябала ногтем по спинке кровати.
– Так надо мать твою спросить. Она скажет, – неожиданно возгорелся я. – Надави, если что.
– Не надо! – крикнула она.
Я задумался. Как искать человека? Тем более Лизкиного отца.
– Может, спросить у родственников? У деда с бабушкой. Или они молчат?
– Они умерли, – еле слышно ответила она.
– Не все же родственники умерли. А со стороны отца? Ты их знаешь?
– Нет.
Вот это да! У Лизки имелась тайна, а у тайны была конспирация – дай бог!
– Ну, – протянул я. – Надо проверить документы. Письма старые. Фотографии. Они есть?
– Не знаю, – неуверенно произнесла она.
– Как? – удивился я еще больше.
Что такого, если кто-то из родных умер? Всегда что-нибудь остается на память. Это нормально. У моей бабки полно фотографий деда. И родственников, и друзей, и сослуживцев. Даже тех, кого она не помнит. У нее весь письменный стол и секретер забиты документами. Их можно часами изучать.
– Ты хоть что-нибудь об отце знаешь?
– Он был очень хороший человек. – Лизка с вызовом взглянула на меня. – Мне мама говорила.
– А больше ничего?
– Ничего, – Лизкин голос задрожал. – Я спрашивала, она начинала плакать. И я бросила это дело. Маму было жаль.
Я вдруг подумал, что мне повезло. У меня есть батя, мама, а у Лизки нет. Не по-человечески это…
Лизка прерывисто вздохнула. Я взял ее за руку. Ее ладошка была меньше моей раза в два, холодной и мокрой, совсем замерзшей от слез.
– Ты почему куртку не надеваешь? – спросил я, как мать родная.
– Забыла, – снова вздохнула она.
Я рассмеялся. Она подняла голову и уставилась на меня. Ее глазищи были красными от слез, нос сопливый, а губы сложились буквой «о». Мне в голову полезло черт-те что. Я разозлился сам на себя до жути. Олух!