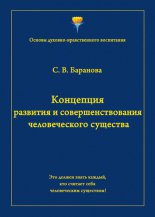Джульетта Фортье Энн

— Ты, — продолжала Джульетта, просунув кончик пальца через крошечное отверстие решетки, — несомненно, говорил бы рифмованными куплетами, как делают мужчины, обольщая строгих дев. Чем меньше у девушки желания, тем изысканнее стихи.
Ромео с трудом подавил смех.
— Во-первых, я никогда не слышал, чтобы бедный крестьянин изъяснялся стихами. Во-вторых, я точно знаю, к какой поэзии прибегнуть. Не слишком утонченной, в нашем-то случае.
— Негодяй! Отныне я стану образцом благонравия и буду избегать твоих поцелуев!
— Легко говорить, обнимаясь через стенку, — усмехнулся он.
Секунду они стояли молча, словно пытаясь прочесть мысли друг друга через деревянные плашки.
— О, Ромео, — вырвался грустный вздох у Джульетты. — Неужели такой и будет наша любовь? Тайна в темной комнате, когда жизнь кипит снаружи?
— Это ненадолго, если у меня все получится. — Ромео закрыл глаза и представил, что прижимается не к стене, а к гордому лбу Джульетты. — Я искал сегодня встречи, чтобы сказать — я решился просить отца дать согласие на нашу свадьбу и пойти к Толомеи сватать тебя.
— Ты хочешь… жениться на мне? — Джульетта не была уверена, что правильно поняла возлюбленного. Он не спрашивал ее, а говорил как о решенном деле. Сиенская манера, не иначе.
— А что мне остается? — простонал он. — Я должен обладать тобой полностью, есть с тобой и спать с тобой, иначе я иссохну, как изголодавшийся узник. Ну, вот я и сделал тебе предложение. Прости за недостаток романтики.
По другую сторону решетки настала тишина. Ромео уже начал волноваться, что оскорбил девушку. Он уже проклинал свою бесшабашную откровенность, когда Джульетта, наконец, нарушила молчание, сразу спугнув все мелкие страхи запахом крупного зверя.
— Если я жена, которую ты ищешь, тебе придется добиться расположения Толомеи.
— Как бы сильно я ни уважал твоего дядю, — не удержался Ромео, — в мою спальню я надеюсь ввести тебя, а не его.
Джульетта, наконец, рассмеялась, но радость Ромео долго не продлилась.
— Он человек огромного честолюбия. Пусть твой отец прихватит длинную родословную, когда придет в палаццо Толомеи.
Ромео задохнулся от оскорбления.
— Мужчины моей семьи носили шлемы с плюмажами и служили кесарям, когда твой дядя Толомеи в медвежьей шкуре кормил свиней ячменной мешанкой! — Спохватившись, что ведет себя по-детски, Ромео продолжал уже более спокойно: — Толомеи не откажет моему отцу. Между нашими семействами исстари был мир.
— Тогда это лишь ровное течение неволнуемой крови, — вздохнула Джульетта. — Ты все еще не понимаешь? Если наши дома не враждуют, что можно выиграть этим браком?
Ромео не хотелось признавать ее правоту.
— Все отцы желают своим детям добра!
— И поэтому дают горькое лекарство, невзирая на слезы.
— Мне восемнадцать. Отец обращается со мной как с равным.
— А, значит, ты старик? Отчего же еще не женат? Неужели схоронил невесту, сговоренную за тебя с колыбели?
— Мой отец не верит в молодых мамаш, которым самим еще впору грудь сосать.
Ее скромная улыбка, едва различимая сквозь густую вязь решетки, была отрадой после всех мучений.
— Ему больше нравятся старые девы?
— Да тебе шестнадцати нет!
— Ровно шестнадцать. Но кто считает лепестки увядшей розы?
— Когда мы поженимся, — прошептал Ромео, торопясь перецеловать кончики ее пальцев, — я полью тебя, положу на мою постель и пересчитаю их все.
Джульетта попыталась нахмуриться:
— А как насчет шипов? Вдруг я тебя уколю и испорчу все блаженство?
— Доверься мне, и удовольствие намного превзойдет боль.
Так они беседовали, волнуясь и поддразнивая друг друга, пока кто-то нетерпеливый не постучал по стенке исповедальни.
— Джульетта! — прошипела монна Антония, отчего ее племянница подскочила от испуга. — Ты уже все свои грехи перечислила. Поторопись, мы уходим!
Прощание получилось кратким и романтичным. Ромео повторил, что хочет жениться на ней, но Джульетта не осмеливалась верить. Когда Джианноцца выходила за человека, которому впору было гроб покупать, а не с молодой супругой тешиться, Джульетта очень хорошо усвоила, что брак — это не то, что влюбленные планируют самостоятельно, а в первую очередь вопрос политики и наследства, не имеющий ничего общего с желаниями жениха и невесты. Любовь, как писала Джианноцца, чьи первые письма вызывали у Джульетты слезы, приходит много позже и с кем-нибудь другим.
Команданте Марескотти редко бывал доволен своим первенцем. Ему часто приходилось напоминать себе — юность и лихорадка со временем проходят. Либо пациент помрет, либо болезнь, в конце концов, отступит; мудрый должен запастись терпением. Увы, как раз этой монетой команданте Марескотти не был богат, и мало-помалу его отцовское сердце превратилось в многоголовое чудовище, охраняющее огромную пещеру с яростью и страхом, бдительное, но невезучее.
Сегодняшнее утро не стало исключением.
— Ромео! — сказал команданте, опуская арбалет после осатанелой стрельбы по мишеням. — Я не желаю больше слушать. Я Марескотти. Много лет Сиеной управляли представители этого самого дома. Войны задумывались в этом самом дворе. Победа при Монтеаперти была объявлена вот с этой вот башни! Эти стены — сами по себе история!
Команданте Марескотти гордо стоял посреди двора, как полководец перед армией, не сводя глаз с новой фрески и увлеченного работой, что-то мурлыкавшего себе под нос маэстро Амброджио, неспособный оценить ни гений произведения, ни гений художника. Красочная батальная сцена, безусловно, оживляла монастырски суровый атриум, все Марескотти были запечатлены в красивых позах и выглядели правдоподобно доблестно, но отчего эта мазня занимает такую чертову прорву времени?
— Но, отец!..
— Хватит! — На этот раз команданте Марескотти повысил голос. — Я не породнюсь с этими людьми! Неужели ты не в состоянии по достоинству оценить того, что мы столько лет живем со всеми в мире, тогда как всякий пришлый алчный сброд, все эти Толомеи, Салимбени, Малавольти, убивают друг друга прямо на улицах? Это с ними ты хочешь смешать нашу кровь? Чтобы твоих младших братьев и юных кузенов тоже убивали в постелях?
Маэстро Амброджио не удержался и обернулся посмотреть на обычно хладнокровного команданте. Все еще выше сына (хотя скорее за счет гордо выпрямленной спины), отец Ромео был одним из самых достойных людей, с которых когда-либо писал портрет художник. Ни в лице, ни в фигуре не замечалось никакого излишества. Это был человек, который ел ровно столько, сколько требовалось телу для здоровой бодрости, и спал ровно столько, чтобы отдохнуть. В отличие от отца Ромео пил и ел, когда хотелось, и охотно превращал ночь в день для своих эскапад, а день — в ночь для запоздалого сна.
Они стояли друг против друга, очень похожие между собой — высокие, с гордой осанкой. Несмотря на привычку Ромео нарушать правила дома, словесная дуэль, когда отец и сын горячо отстаивали свою точку зрения, была редкостью.
— Но, отец! — повторил Ромео и опять не добился внимания.
— И ради чего? Ради какой-то юбки! — Команданте Марескотти вытаращил бы глаза, но ему нужно было целиться. Стрела пробила соломенное чучело точно в области сердца. — Из-за какой-то девки, хотя этого добра полон город! Уж тебе ли не знать…
— Она не какая-то, — спокойно возразил Ромео своему отцу и господину. — Она моя.
Последовала короткая пауза. Две стрелы одна за другой попали в цель, отчего чучело заплясало на своей веревке как настоящий повешенный. Наконец, команданте Марескотти удалось выровнять дыхание, и он заговорил уже спокойнее, твердой рукой ведя корабль беседы по курсу здравого смысла.
— Возможно, но твоя подруга — племянница дурака.
— Влиятельного дурака.
— Власть и лесть отнимают последний разум.
— Я слышал много хорошего о его щедрости к родственникам.
— А что, их много осталось?
Ромео рассмеялся, отлично понимая, что отец вовсе не острил.
— Несколько уж точно имеется, — сказал он. — Примирение не нарушалось уже два года.
— Это, по-твоему, примирение? — Команданте Марескотти все это уже видел, и пустые обещания коробили его сильнее, чем откровенная ложь. — Если Салимбени нападают на замки Толомеи и грабят странствующих монахов, помяни мое слово: мирной жизни конец.
— Так почему не заключить союз теперь же — с Толомеи? — настаивал Ромео.
— И стать врагами Салимбени? — Команданте Марескотти, прищурившись, посмотрел на сына. — Если бы ты в городе набрался столько ума, сколько выпил вина и познал женщин, ты бы знал, что Салимбени вооружает своих людей и собирает силы. Его цель — не только наступить на горло Толомеи и прибрать к рукам меняльный и ссудный промыслы, но осадить Сиену — крепостей вокруг у него достаточно — и захватить власть в республике. — Команданте, хмурясь, ходил по двору взад-вперед. — Я знаю этого человека, Ромео. Я заглянул в его глаза и сделал выбор — запереть за решеткой и уши, и двери дома от его амбиций. Не знаю, кто лучше — его друзья или его враги, поэтому Марескотти не станут на сторону ни тех, ни других. Совсем скоро Салимбени сделают безумную попытку свергнуть закон и напоят город кровью. Придут иностранные наемники, и сиенцы будут сидеть в своих башнях, ожидая зловещего стука в дверь и горько сожалея о заключенных союзах. Я не хочу быть одним из них.
— Но кто сказал, что эти несчастья нельзя предотвратить? — не сдавался Ромео. — Если объединить силы с Толомеи, другие благородные семейства сплотятся под нашим знаменем с орлом, и Салимбени останется без поддержки. Можно вместе переловить головорезов, и дороги вновь станут безопасными. С деньгами Толомеи и твоей славой можно творить великие дела! Новую башню на Кампо закончим за несколько месяцев, новый собор — за несколько лет, и люди будут благословлять в молитвах предусмотрительность Марескотти.
— Мужчина не должен думать о молитвах, пока жив, — заявил команданте Марескотти, остановившись, и вскинул арбалет. Стрела пробила голову соломенной куклы точно в центре и воткнулась в горшок с розмарином. — Вот после смерти — на здоровье. Живым, сын мой, должно искать славы, а не лести. Истинная слава — в глазах Господа. Лесть — пища бездушных. В глубине души ты можешь гордиться, что спас девушке жизнь, но не нужно требовать признания от других мужчин. Тщеславие не к лицу благородному человеку.
— Мне не нужна награда, — возразил Ромео. Совершенно мальчишеская гримаса обиды стянула его мужественное лицо. — Я хочу ее. Меня мало трогает, что подумают люди. Если ты не благословишь мое намерение жениться на ней…
Команданте Марескотти поднял руку в перчатке, чтобы остановить сына, прежде чем он скажет непоправимое.
— Не угрожай мне поступками, которые причинят тебе больше вреда, чем мне. Не веди себя как сопливый мальчишка, иначе я отменю разрешение на твое участие в Палио. Даже мужские игры — в особенности игры! — требуют этикета взрослых мужчин. Как, кстати, и брак. Я тебя не обручал и не сговаривал…
— Уже за одно это я люблю моего отца!
— …потому что разгадал твой характер с младых ногтей. Будь я дурным человеком и пожелай отомстить злейшему врагу, разрешил бы тебе похитить его единственную дочь и позволить растерзать ее сердце, но я не таков. Я упорно ждал, когда ты, наконец, сбросишь одежды ветрености и научишься гоняться за одним зайцем.
Ромео совсем пал духом, но любовное зелье сладко пощипывало на языке, и улыбка не умела долго прятаться. Радость вырвалась как стригунок от конюха и промчалась по его лицу непривычным галопом.
— Отец, но я научился! — горячо ответил он. — Моя истинная натура — постоянство. Я больше никогда не взгляну на других женщин. Вернее, взгляну, но как на стулья или столы. В смысле, не то чтобы я захочу присесть или пообедать — просто они будут для меня как мебель. Пожалуй, лучше будет сказать, что в сравнении с ней все они как луна рядом с солнцем…
— Не сравнивай ее с солнцем, — покачал головой команданте Марескотти, подходя к соломенному чучелу выдернуть стрелы. — Твоей сообщницей всегда была луна.
— Потому что я жил в вечной ночи! Конечно, луна будет госпожой над тварями, никогда не ведавшими солнца. Но настало утро, отец, оно явилось в свадебном золоте и пурпуре и пробудило рассвет в моей душе!
— Но ведь солнце каждый вечер ложится спать, — увещевал сына Марескотти.
— И я тоже буду ложиться! — Ромео прижал к сердцу кулак с зажатыми стрелами. — Оставлю мрак совам и соловьям и буду деятельно встречать дневные часы, не покушаясь на целительный сон.
— Не давай обещаний насчет ночного покоя, — сказал команданте Марескотти, положив, наконец, руку сыну на плечо. — Ибо если твоя жена будет хоть вполовину так хороша, как ты расхваливаешь, у тебя будет много дела и мало сна.
IV.I
Коль встретимся, не миновать нам ссоры.
В жару всегда сильней бушует кровь.
Я снова бродила по замку шепчущих призраков. Как всегда, во сне я шла из зала в зал, разыскивая людей, которые, как я знала, тоже не могут выбраться. Новым на этот раз было то, что золоченые двери открывались, не дожидаясь прикосновения, словно сам воздух был полон невидимых рук, показывающих мне дорогу и мягко подталкивающих в нужном направлении. Так я шла через огромные галереи и пустынные бальные залы, приводившие в дотоле неизвестные мне части замка, пока не уперлась в солидную укрепленную дверь. Может, это и есть выход?
С уважением посмотрев на тяжелые железные скобы, я потянулась к засову, но он вдруг отъехал сам, и дверь широко распахнулась, открыв непроглядную, чернильную темноту.
Стоя в дверях, я щурилась, силясь что-нибудь разглядеть и понять, что передо мной — выход из замка или очередная комната.
Пока я стояла, ослепленная жадным мраком, из вечной ночи налетел ледяной ветер и завихрился вокруг меня, хватая за руки и за ноги. Потеряв равновесие, я ухватилась за дверной косяк, но ветер неожиданно набрал силу и начал трепать мою одежду и волосы, с неистовым воем пытаясь оторвать меня и унести. Шквал был так силен, что дверная рама начала подаваться, а пол — трескаться в мелкую крошку. В поисках спасения я выпустила дверную раму и попыталась убежать в те комнаты, откуда я пришла, но меня окружил плотный рой невидимых демонов, шепчущих и высмеивающих очень хорошо известные мне шекспировские строки. Радуясь возможности наконец-то очистить замок, духи повлекли меня за собой.
Неудержимо съезжая к осыпающемуся порогу, я упала на пол, отчаянно пытаясь уцепиться за что-нибудь прочное. Уже вися на самом краю, я увидела, как откуда-то из комнат выбежал человек в черном мотоциклетном костюме, схватил меня за руки и вытянул наверх. «Ромео!» — позвала я, потянувшись к нему, но под щитком шлема вместо лица увидела зияющую пустоту.
От этого я полетела куда-то вниз, и падала очень долго, пока неожиданно не погрузилась в воду, сразу вспомнив, как в десять лет тонула в густом супе из водорослей и мусора у яхтенного причала в Александрии, штат Виргиния, а Дженис с подружками стояли на пирсе, лизали мороженое и хохотали до упаду.
Рванувшись наверх глотнуть воздуха, изо всех сил пытаясь ухватиться за швартовые концы какой-нибудь яхты, я с громким всхлипом проснулась и увидела, что лежу на диване маэстро Липпи, колючий плед сбился в ком у меня в ногах, и Данте лижет мне руку.
— Доброе утро, — сказал маэстро, ставя передо мной чашку кофе. — Мой Данте не любит Шекспира. Он очень умный пес.
Возвращаясь в отель при ярком утреннем солнце, я вспоминала ночные события как нечто нереальное вроде масштабного театрального представления, устроенного для чьего-то развлечения. Ужин с Салимбени, бегство по темным улицам, невероятное спасение в мастерской маэстро Липпи — все это походило на кошмарный сон, и единственным доказательством реальности случившегося были мои грязные, сбитые в кровь ноги.
Хочешь не хочешь, приходилось признать, что все случилось на самом деле, и чем быстрее я перестану утешать себя фальшивыми надеждами, тем лучше. Это уже второй раз, когда меня преследовали, и не просто какой-то бродяга в грязном спортивном костюме, но и мотоциклист, какими бы мотивами он ни руководствовался. В довершение всего на меня свалилась проблема с Алессандро, который наизусть выучил мое досье и, не задумываясь, пустит его в ход, если я осмелюсь приблизиться к его драгоценной крестной мамаше.
Словом, у меня были все причины выбираться к чертовой матери из Сиены и всей этой аферы, но Джулия Джейкобе не привыкла пасовать перед трудностями, а Джульетта Толомеи и того меньше. В конце концов, на кону весьма ценное сокровище. Если в рассказе маэстро Липпи есть хоть толика правды, и я отыщу могилу Джульетты, то стану обладательницей легендарной золотой статуи с сапфировыми глазами.
Впрочем, может статься, что история со статуей окажется уткой, и наградой за перенесенные испытания станет открытие, что мое родство с шекспировской героиней — чей-то горячечный бред. Тетка Роуз всегда сетовала, что меня совершенно не трогают ни самоотверженная любовь «Ромео и Джульетты», ни литературные достоинства пьесы, и предрекала, что однажды ослепительный свет истины откроет мне мои роковые заблуждения.
Одно из моих первых воспоминаний — поздно ночью тетка сидит за большим столом красного дерева и при свете настольной лампы просматривает через лупу гигантский ворох бумаг. Я до сих пор помню мягкость лапы плюшевого мишки, зажатой в моей руке, и страх, что меня отправят спать. Тетка долго меня не замечала, но когда увидела, то сильно вздрогнула, словно перед ней стоял маленький призрак. Меня посадили на колени, и я оказалась над безбрежным бумажным морем.
— Смотри сюда, — сказала тетка, вручая мне увеличительное стекло. — Это наше генеалогическое древо, а вот твоя мама.
Я помню радостное волнение, тут же сменившееся горьким разочарованием: там не было маминой фотографии, лишь строки, которые я еще не могла прочесть.
— А что здесь написано? — должно быть, спросила я, потому что отчетливо помню теткин ответ.
— Здесь написано, — начала она с несвойственной ей театральностью. — «Дорогая тетка Роуз, пожалуйста, позаботься о моей малышке. Она необыкновенная, и я по ней очень скучаю».
Тут, к своему ужасу, я заметила на ее лице слезы. В первый раз я видела, как плачет большая тетя. До того момента я не догадывалась, что взрослые тоже плачут.
Пока мы с Дженис росли, тетка Роуз упоминала о матери кратко и, я бы сказала, фрагментарно, никогда ничего не рассказывая от начала до конца. Однажды, уже будучи студентками, отрастив немного самостоятельности и дождавшись чудесной погоды, мы повели тетку в сад, усадили в кресло, подставив поближе оладьи и кофе, и начали упрашивать все нам рассказать. Охваченные непривычным единодушием, мы с сестрицей наперебой засыпали тетку вопросами. Какими были наши родители, погибшие в автокатастрофе?
Почему мы не общаемся с родственниками в Италии, если в паспортах сказано, что мы там родились?
Тетка сидела очень тихо, не притрагиваясь к оладьям, и когда мы выдохлись и замолчали, она кивнула:
— Все правильно, вы имели право задать эти вопросы, и однажды вы получите ответы. А пока запаситесь терпением. Я ничего вам не рассказываю для вашего же блага.
Я так и не поняла, что плохого в том, чтобы знать историю своей семьи, хотя бы отчасти, но, видя болезненное отношение тетки Роуз к этой теме, отложила неприятный разговор на потом. Однажды я сяду напротив тетки и потребую объяснений, и тогда она мне все расскажет. Даже когда Роуз исполнилось восемьдесят, я продолжала верить, что когда-нибудь настанет это самое «однажды» и тетка удовлетворит мое любопытство. Как оказалось, я ошибалась.
Когда я вошла в гостиницу, диретторе Россини говорил по телефону в смежной комнате, и я остановилась подождать. По дороге из мастерской маэстро Липпи у меня из головы не шли его слова насчет позднего гостя по имени Ромео, и, в конце концов, я решила, что пора поближе познакомиться с семейством Марескотти и его ныне здравствующими представителями.
Первым делом я собиралась попросить у диретторе Россини телефонный справочник, но, прождав битых десять минут, не выдержала, перегнулась через стойку и сняла ключ со стены.
Досадуя, что не спросила маэстро о Марескотти, пока была возможность, я медленно поднялась по лестнице. Ссадины на подошвах ужасно болели, к тому же я не привыкла ходить и тем более бегать на каблуках. Но едва открыв дверь номера, я сразу забыла о мелочах, ибо в комнате все было не просто перевернуто вверх дном, но, где можно, еще и вывернуто наизнанку.
Кто-то, если не целая компания очень целеустремленных взломщиков, снял дверцы со шкафа и вспорол подушки. Одежда, безделушки, флаконы из ванной были разбросаны по полу. Мои заношенные трусы свисали с угла рамы картины на стене.
Я никогда не видела взрыва бомбы, заложенной в чемодан, но теперь, кажется, представляю, на что это похоже.
— Мисс Толомеи! — Диретторе Россини, тяжело дыша, нагнал меня в дверях. — Графиня Салимбени звонила спросить, лучше ли вы себя чувствуете, но — санта Кристина! — При виде разгромленного номера диретторе забыл продолжение фразы, и секунду мы молча стояли на пороге, взирая на комнату в безмолвном ужасе.
— Ну, — сказала я, понимая, что теперь у меня есть аудитория, — по крайней мере, чемоданы можно не распаковывать.
— Это ужасно! — возопил диретторе Россини, не готовый взглянуть на светлую изнанку событий. — Только посмотрите на это! Теперь люди скажут, что гостиница небезопасна! Осторожно, не наступите на стекло!
Пол был усыпан стеклянными осколками. Злоумышленник явно приходил за маминой шкатулкой, которая, естественно, пропала, но оставался вопрос, почему он перевернул вверх дном мою комнату. Что еще он искал?
— Cavolo! — взорвался диретторе. — Теперь придется вызывать полицию, они сделают снимки, и газеты напишут, что отель «Чиусарелли» ненадежен!
— Подождите, — остановила я его. — Не звоните в полицию, в этом нет необходимости. Я знаю, зачем они приходили. — Я подошла к столу, где оставила шкатулку. — Больше они не вернутся. Уроды.
— О! — вдруг просиял диретторе Россини. — Я забыл вам сказать! Вчера я лично принес ваши чемоданы…
— Да, я это вижу.
— И заметил у вас на столе очень дорогую антикварную вещь, поэтому взял на себя смелость забрать ее из номера и поставить в гостиничный сейф. Надеюсь, вы не возражаете? Обычно я не вмешиваюсь…
Облегчение было таким, что я не стала возмущаться его бесцеремонностью или восхищаться предусмотрительностью, а просто схватила диретторе за плечи:
— Шкатулка у вас?
Разумеется, мамино наследство очень уютно пристроилось в большом сейфе между бухгалтерскими книгами и серебряным канделябром.
— Благослови вас Бог! — искренне сказала я. — Эта шкатулка…. особенная.
— Понимаю. У моей бабушки была точно такая же. Сейчас их не делают. Это старая сиенская традиция. Мы называем их шкатулками секретов — ну, из-за секреток. Там можно прятать что-нибудь от родителей, или от детей, или от кого угодно.
— Вы хотите сказать, что там есть потайное отделение?
— Ну да! — Диретторе Россини взял шкатулку и буквально влез в нее носом. — Я вам покажу. Надо быть сиенцем, чтобы отыскать тайник, — он очень хитро устроен. У моей бабки секретка была вот здесь, сбоку… А здесь нет. Как хитро… Дайте-ка проверю. Здесь нет… Здесь нет… И здесь нет.,. — Он вертел шкатулку под всеми мыслимыми углами, как ребенок радуясь загадке. — У нее там хранилась только прядь волос. Я нашел, когда она спала. Я никогда не спрашивал… Ага!
Непостижимым образом диретторе Россини умудрился найти и нажать запорный механизм потайного ящичка. Он торжествующе улыбнулся, когда четвертая часть днища ларца выпала на стол, а за ней вылетел маленький прямоугольный кусочек тонкого картона — так называемой карточной бумаги. Перевернув шкатулку, мы вдвоем осмотрели секретку, но больше там ничего не было.
— Вы что-нибудь понимаете? — Я протянула диретторе клочок картона с буквами и цифрами, напечатанными на старой пишущей машинке. — Похоже на какой-то код.
— Это, — сказал он, принимая карточку, — старая — как вы это называете? — учетная карточка. Ими пользовались до появления компьютеров. Это было еще до вас. Ах, как меняется мир! Вот я помню…
— У вас есть догадки, откуда это может быть?
— Это? Из библиотеки, наверное. Не знаю, я не эксперт. Но… — Он испытующе взглянул на меня, словно решая, стою ли я его доверия. — Я знаком с одним экспертом.
Я довольно долго проискала крохотный букинистический магазин, который описал диретторе, и когда нашла, он, разумеется, оказался закрытым на обед. Я попыталась рассмотреть через витрину, есть ли кто внутри, но увидела лишь полки с книгами.
Свернув за угол, я вышла на пьяцца Дуомо и присела скоротать время на ступеньку лестницы Сиенского собора. Несмотря на толпы туристов, у меня возникало странное ощущение удивительного спокойствия, незыблемости и вневременности; если бы не дела, я могла бы просидеть под крылышком собора целую вечность, глядя на постоянное возрождение человечества со смесью ностальгии и сочувствия.
Больше всего в соборном ансамбле поражала колокольня. Не такая высокая, как та лилия в расцвете сил на Кампо, она выделялась из общей массы колоколен — башня была полосатая, как зебра. Тонкие ровные слои белого и черного камня чередовались до самого верха, как бисквитная лестница в рай, и я невольно задумалась о символическом значении этого узора. Возможно, камень клали так без задней мысли, или просто хотели, чтобы башня бросалась в глаза, или это аллюзия на геральдический герб Сиены — белую с черным «бальцану», похожую на бокал без ножки, до половины наполненный адским красным вином, что тоже, кстати, озадачивало.
Диретторе Россини рассказывал легенду о детях Рэма, сбежавших от злого дяди на черной и белых лошадях, но я не была убеждена, что цвета бальцаны символизируют именно это событие. Здесь просится объяснение, связанное с контрастом, что-нибудь о сложном искусстве объединения противоположностей и заключения компромиссов, или о том, что жизнь — хрупкий баланс великих противоборствующих сил и что добро потеряет свое могущество, если в мире не останется его извечного противника — зла.
Но я не философ, а погода громко шептала, что в такой час лишь бешеные собаки и англичане рискуют находиться на солнцепеке. Обогнув угол, я увидела, что магазин по-прежнему заперт. Вздохнув, я посмотрела на часы, соображая, где укрыться, пока подруга детства матери диретторе Россини не соблаговолит вернуться с обеда.
Сиенский собор был полон золота и теней. Множество массивных черно-белых колонн поддерживали необъятный рай, сверкавший мелкими звездочками. Мозаичный пол казался гигантским сборным паззлом из символов и легенд, которые я узнавала непостижимым образом — так порой человек угадывает смысл сказанного на незнакомом языке, — но не понимала.
Собор отличался от американских церквей моего детства так, как одна религия отличается от другой, но я чувствовала, что сердце отзывается на увиденное со странным узнаванием, словно давным-давно я уже бывала здесь в поисках Бога. Неожиданно мне пришло в голову, что внутри Сиенский собор очень напоминает замок с шепчущими призраками из моих снов. Не исключено, размышляла я, жадно разглядывая усеянный звездами купол над безмолвной рощей колонн, кто-то водил меня в этот собор, когда я была совсем малышкой, и это зацепилось в памяти без привязки к конкретному человеку или месту.
Единственный раз я была в храме такого размера, когда Умберто водил меня в Национальный храм Непорочного Зачатия в Вашингтоне после посещения стоматолога. Мне было лет шесть-семь, но я живо помню, как он опустился на колени рядом со мной посреди огромного пола и спросил:
— Слышишь их?
— Кого? — спросила я, сжимая в руке маленький пакет с новенькой розовой зубной щеткой. Он игриво наклонил голову.
— Ангелов! Если будешь вести себя тихо, услышишь, как они хихикают.
— Над кем они смеются? — захотела я знать. — Над нами?
— Они учатся летать. Здесь нет ветра, только дыхание Бога.
— А как они летают? На этом дыхании Бога?
— В полетах есть свой фокус. Ангелы мне сами сказали. — Он улыбнулся при виде моих восторженно вытаращенных глаз. — Нужно забыть все, что ты знаешь как человек. Когда ты человек, ты черпаешь великую силу в том, чтобы ненавидеть землю. Настолько великую, что готов взлететь. Но этого никогда не происходит.
Я нахмурилась, не понимая.
— А как надо?
— Нужно любить небо.
Я совсем ушла в свои воспоминания, думая о редком у Умберто проявлении чувств, когда сзади прошла группа британских туристов. Их гид оживленно рассказывала о множестве неудачных попыток отыскать и раскопать старинную крипту собора, предположительно существовавшую в Средние века и навсегда утраченную.
Я некоторое время слушала падкую на научные сенсации женщину, после чего оставила собор туристам и бесцельно побрела по виа дель Капитано. Дойдя до конца улицы, я совершенно неожиданно попала на пьяцца Постьерла, прямо к эспрессо-бару Малены.
Маленькая площадь обычно была оживленной, но сегодня здесь было приятно тихо — видимо, из-за сиесты и невыносимой жары, как в доменной печи. Пьедестал с волчицей и двумя сосущими ее молоко младенцами был установлен напротив маленького фонтана с распластавшей крылья зловещего вида металлической птицей. Двое детей, мальчик и девочка, брызгали друг на друга водой и носились вокруг фонтана, заливаясь смехом, а несколько стариков чинно сидели в тени, в шляпах, но без пиджаков, ласково глядя на собственное бессмертие.
— Привет! — При виде меня Малена обрадовалась как старой знакомой. — Я гляжу, Луиджи постарался на славу.
— Он гений, — Я облокотилась на холодную стойку, чувствуя себя как дома. — Ни за что не уеду из Сиены, пока он тут.
Малена рассмеялась теплым грудным смехом, снова заставившим меня задуматься о каком-то секретном ингредиенте этой натуры. Чем бы ни была эта составляющая, мне ее остро недоставало. Не просто уверенность в себе, но способность любить себя восторженно и щедро, и душу, и тело, и спокойная убежденность, что каждый мужчина на земле дымится от желания заняться с тобой любовью.
— Держи. — Малена поставила передо мной эспрессо и, подмигнув, добавила бисквит. — Ешь побольше. Это придаст тебе… как это… темперамента.
— Какая хищная птица, — сказала я, показывая на фонтан. — Кто это, орел?
— Да, орел, по-итальянски «аквила». Этот фонтан — наш… ну как же это… — Малена закусила нижнюю губу, вспоминая слово. — Фонте баттесимале… крестильный фонтан, вот как! Сюда мы приносим наших младенцев, чтобы они стали аквилини, орлятами.
— Так это контрада Орла? — Я огляделась, отчего-то занервничав. По спине пробежал холодок. — Это правда, что орел изначально был символом рода Марескотти?
— Да, — кивнула Малена. — Орел пришел к нам от римлян, потом его перенял Шарлемань — Карл Великий, в армии которого воевали Марескотти, и впоследствии нам был пожалован этот имперский символ. Но в наши дни этого уже никто не знает.
Я была почти уверена, что Малена так уважительно говорит о Марескотти, потому что и сама принадлежит к этому благородному семейству, но не успела я спросить, как между нами полной луной всплыло улыбающееся лицо официанта:
— За исключением тех, кто работает в этом баре. Мы уже все наизусть выучили историю о ее большой птичке.
— Не обращай внимания, — сказала мне Малена, делая вид, что намеревается ударить его по голове подносом. — Он из контрады делла Торре — Башни. — Она сделала гримасу. — Прирожденные шуты.
Посреди всеобщего веселья мое внимание привлек шум снаружи. Черный мотоцикл, на котором сидел байкер в шлеме с опущенным непрозрачным щитком, на секунду затормозил у кафе, вгляделся внутрь через стеклянную дверь и снова умчался, взревев мотором.
— «Дукати монстр С-4», — нараспев продекламировал официант, словно читая рекламу в журнале, — Настоящий уличный хулиган. Мотор с жидкостным охлаждением. Заставляет мужчин жаждать крови, и они просыпаются в поту, пытаясь поймать мечту. Но у байка нет захватов для рук, так что… — Он намекающе похлопал себя по животу. — Не сажай девушку кататься, если у тебя нет накачанной антиблокировочной системы тормозов.
— Баста, баста, Дарио! — перебила Малена. — Tu parli di Iniente!
— Вам знаком этот тип? — спросила я, стараясь говорить небрежно, но чувствуя себя как на иголках.
— Этот? — Она с пренебрежением округлила глаза. — Знаешь, как люди говорят? Кто гремит на всю улицу, у того в голове много пустоты.
— Я не на всю улицу гремлю! — возмутился Дарио.
— Я не о тебе, тупица! Я говорю об этом ничтожестве на мотоцикле!
— Вы знаете, кто это? — повторила я.
Малена пожала плечами:
— Мне нравятся мужчины с машинами. Парни на мотоциклах — это плейбои. На мотоцикле только девушек катать. Разве посадишь на него детей, невесту, тещу?
— Вот именно, — поддержал Дарио, многозначительно пошевелив бровями. — Поэтому я коплю на мотоцикл.
Несколько клиентов, ожидавших в очереди за мной, начали шумно выражать недовольство и хотя Малена невозмутимо игнорировала их столько, сколько хотела, я сочла за лучшее отложить расспросы о Марескотти до другого раза.
По дороге из бара я беспокойно вертела головой, высматривая мотоцикл, но его нигде не было видно. Конечно, нельзя сказать наверняка, но интуиция подсказывала — это тот самый тип, который пугал меня прошлой ночью. Если этот плейбой действительно ищет ту единственную, которая сумеет по достоинству оценить его великолепный пресс, я знаю массу более удачных способов завязать знакомство.
Когда владелец букинистической лавки, наконец, вернулся с обеда, я сидела на верхней ступеньке, прислонившись спиной к двери, уже почти решив оставить свою затею. Но мое терпение было вознаграждено: милая старушка, чье высохшее тельце, казалось, поддерживает исключительно неуемное природное любопытство, кивнула, едва взглянув на учетную карточку.
— Да-да, — сказала она, ничуть не удивившись. — Это из университетского архива. Историческая коллекция. По-моему, они до сих пор пользуются старым каталогом. Дайте-ка посмотрю… Да, вот это означает «позднее Средневековье», а это — «местный». А вот, смотрите… — она вела пальцем по коду на карточке, — эта буква означает полку К, а это номер ящика, 3-176. Правда, здесь не сказано, что в ящике… Но код, означает именно это. — С ходу разрешив загадку, старушка взглянула на меня, надеясь получить новую: — Откуда у вас эта карточка?
— От матери… Скорее от отца. Он был профессором университета. Патрицио Толомеи.
Бабулька просияла как рождественская елка.
— Я его помню! Я была его студенткой! Вы знаете, именно он собрал ту коллекцию! Я два лета подряд приклеивала номера на ящики. Не понимаю, почему он вынул эту карточку. Он приходил в бешенство, если учетной карточки не оказывалось на месте.
Кафедры Сиенского университета разбросаны по всему городу, но до исторического архива было рукой подать — сразу за городскими воротами Порта Туфи. Некоторое время я искала нужное здание среди безликих фасадов вдоль Дороги. Единственное, что выдавало образовательное учреждение, — коллаж из постеров социалистического направления на бетонном заборе.
Надеясь сойти за студентку, я вошла через дверь, которую мне описала владелица букинистической лавки, и направилась прямо в подвал. Из-за сиесты или потому, что летом здесь никого не было, я спустилась вниз, никого не встретив. В архиве было приятно прохладно и тихо. Дело начинало казаться до неприличия простым.
С единственной учетной карточкой в качестве путеводной нити я бродила по архиву, тщетно пытаясь отыскать нужную полку. Это была отдельная коллекция, как объяснила старушка, и даже двадцать лет назад ей редко пользовались. Мне предстояло зайти в самую дальнюю часть архива, но дело усложнял факт, что все отделы архива казались мне отдаленными. Попадавшиеся мне полки вообще не имели ящиков. Это были обычные книжные полки с книгами, а не артефактами. Среди них не было томика с биркой «К 3-176» на корешке.
После двадцатиминутных хождений мне пришло в голову попробовать сунуться в дверь в дальнем конце зала. Это была герметичная металлическая дверь вроде банковского сейфа в подвале палаццо Толомеи, но открылась она легко и бесшумно. За ней оказалась другая, меньшая комната с кондиционером; воздух в ней был специфическим — вроде смеси нафталина с шоколадом.
Здесь моя карточка, наконец, обрела смысл. Во второй комнате стояли стеллажи с ящиками, в точности как описала букинистка. Коллекция располагалась в хронологическом порядке, начиная с эпохи этрусков и заканчивая, полагаю, годом смерти моего отца. Было совершенно очевидно, что ею не пользовались — везде лежал толстый слой пыли, и когда я пыталась выкатить стремянку, она не сразу поддалась — проржавевшие колесики приросли к полу. Но я с ней справилась, и она с противным визгом покатилась по светлому линолеуму, оставляя за собой коричневые дорожки.
Поставив стремянку у полки К, я забралась наверх, чтобы получше рассмотреть ряд номер три, состоявший из примерно тридцати среднего размера ящиков, незаметных и труднодоступных. Идеальный тайник: добраться можно только с помощью стремянки, и нужно точно знать, что ищешь. Сперва казалось, что ящик 176 заперт, но когда я несколько раз хорошенько стукнула по нему кулаком, он смилостивился и кое-как выехал. Судя по всему, никто не открывал 176 после того, как отец закрыл его больше двадцати лет назад.
Внутри оказался большой сверток в воздухонепроницаемом коричневом пластике. Осторожно потыкав пакет, я поняла, что внутри какая-то упругая субстанция вроде упаковки поролона из магазина тканей. Заинтригованная, я вынула пакет из ящика, спустилась по стремянке и присела на нижнюю ступеньку.
Вместо того чтобы разорвать и снять пластик, я предпочла проковырять ногтем маленькую дырку. Как только внутрь ворвался воздух, пакет словно бы сделал глубокий вдох и из дыры показался уголок бледно-голубой ткани. Надорвав пакет еще немного, я пощупала ткань. Я не эксперт, но это явно был шелк и, несмотря на прекрасное состояние, очень старый.
Понимая, что подвергаю старинный артефакт вредному воздействию света и воздуха, я вынула сверток из пластика и начала разворачивать на коленях. Через секунду из шелка выпало что-то тяжелое, ударившись о пол с металлическим звуком.
Это был большой кинжал в золоченых ножнах, обернутый сложенной шелковой тканью. Я подняла его. На эфесе был выгравирован орел.
Сидя в архиве и взвешивая на руке нежданное сокровище, я вдруг услышала шаги в соседнем зале. Прекрасно сознавая, что нахожусь в хранилище, наверняка содержащем множество уникальных сокровищ, я вскочила, задохнувшись от вины и испуга, и бросилась к двери. Меньше всего мне хотелось, чтобы меня накрыли в затейливо оборудованном подвале с климат-контролем.
Как можно тише я проскользнула в металлическую дверь, прикрыв ее почти так же плотно, как раньше. Съежившись за последним рядом стеллажей, я напряженно прислушивалась, но слышала лишь собственное неровное дыхание. Видимо, показалось. Можно пройти к лестнице и выйти из архива так же небрежно, как я сюда вошла.
Я ошибалась. Я уже решила уходить, когда снова раздались шаги — не библиотекаря, вернувшегося с сиесты, и не студента, разыскивающего книгу, но зловещие шаги человека, не желавшего, чтобы его слышали, потому что его присутствие в архиве было еще более сомнительным, чем мое. Глядя между полками поверх книг, я разглядела, что человек, крадущийся в моем направлении, — тот самый старый бродяга, который преследовал меня вчера ночью. Он медленно шел по проходу, не сводя глаз с металлической двери и сжимая в руке пистолет.
Оставались считанные секунды до того, как он меня заметит. Проклиная себя за неподходящую одежду, я поползла вдоль стеллажа. Узкий проход между стеллажами и стеной архива тянулся до самого стола библиотекаря. Втянув живот, я встала за узкой боковиной шкафа, очень надеясь, что меня не будет видно, когда отморозок пройдет мимо стеллажей.
Стоя там и не осмеливаясь дышать от испуга, я боролась с желанием броситься к выходу. Собрав всю силу воли, я выждала еще несколько секунд, а потом осторожно выглянула. Бандит беззвучно проскользнул за металлическую дверь.
Снова сбросив туфли, я бесшумно побежала по проходу, свернула у стола библиотекаря и, не оглядываясь, припустила по лестнице, перемахивая по три ступеньки за раз.
Лишь оказавшись далеко от архива, на какой-то тихой улочке, я перешла с бега на шаг. Но вскоре меня вновь охватила тревога. По всей вероятности, именно этот тип перевернул вверх дном комнату в отеле, и мне очень повезло, что я не ночевала в номере, когда он наведался в гости.
Увидев меня, Пеппо Толомеи удивился не меньше моего. Еще бы — так скоро вернуться в Музей Совы!
— Джульетта! — воскликнул он, опуская руку с тряпкой, которой протирал какой-то экспонат. — Что случилось? А это что?
Мы оба посмотрели на бесформенный узел у меня в руках.
— Понятия не имею, — призналась я. — Но это принадлежало моему отцу.
— Клади. — Он расчистил место на столе, и я бережно положила на него длинный золотой кинжал в пеленах голубого шелка.
— Вы можете сказать, — спросила я, взяв клинок в руки, — что это такое?
Но Пеппо, не взглянув на кинжал, начал благоговейно разворачивать шелк, а когда отрез был целиком разложен на столе, отступил на шаг в ошеломлении и восхищении и перекрестился.
— Где ты это взяла, черт побери? — спросил он пресекающимся голосом.
— Кгхм… Это из коллекции моего отца, которая хранится в университетском архиве. В это был завернут кинжал. Я не знала, что это тоже ценность.
Пеппо удивленно посмотрел на меня: