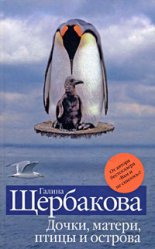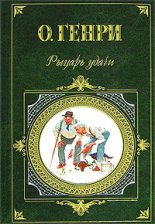Плохие слова (сборник) Гайдук Борис

Читать бесплатно другие книги:
«…Увиденное автором поражает своей точностью, пронзительностью. Галерея женских портретов, как говор...
Выпускник Дипломатической Академии Альберт Новиков был принят в состав Чрезвычайной миссии в должнос...
На далекой планете по пустынной степи идут трое: юноша и девушка – земляне, и Джок, местный житель. ...