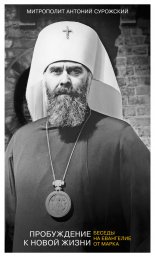Те самые люди, февраль и кофеин Репина Екатерина

ПЕРВАЯ ДЕКАДА ФЕВРАЛЯ
№ 1. Кофеин
Когда она влюблялась в кого-то, то будто менялась, внешне и внутренне. Радостно сияли ее щечки, глазки, зубки, ноготки. Она даже ходить начинала по-другому, одеваться — иначе, говорить — с новым загадочным акцентом. Будто бы только-только понимала, насколько хороша.
Когда же расставалась с любовью — становилась угрюмой, злой. Забывала улыбаться знакомым, молчала с друзьями, грубила прочим, одевалась потеплее и пила кофе.
Лечащий врач запрещал ей пить кофе из-за проблем с сердцем. Она вспоминала про этот запрет, когда было особенно пакостно на душе и меньше всего хотелось заботиться о здоровье. В последние годы жизни вообще не могла жить без кофе.
А умерла случайно. Совсем не из-за кофе.
Итак.
Гвоздикова Галиме Кузьминична работала дворничихой в больнице. Она знала все о жителях дома номер тридцать дробь тридцать два, который называли «больничным» из-за близости к тому самому учреждению, где работала Галиме.
Обитала в старом сарае, где было холодно и зимой, и летом. Зато была предоставлена самой себе и не зависела от чужих прихотей. За стеной не проживали соседи, так что никто не слушал музыку или телепередачи слишком громко, не горланил за полночь песни, не стучал по батареям, не колотил в стену ранним воскресным утром.
Бани или ванны не было. Приходилось подниматься к одной из жительниц «больничного» дома и мыться у нее. Но это были мелочи. Главное же, что сохраняло в Галиме любовь к жизни, был растворимый кофе.
Она любила японский кофе в миниатюрных баночках с иероглифами на этикетке. Точно такой, как у жительницы Валентины, той, что разрешала пользоваться своей ванной.
Оправдывалась перед собой Галиме так:
— У нее слишком много кофе, и сын ей постоянно привозит. Сам он в море, пить кофе некому…
Галиме была несчастной, очень-очень несчастной, но только не знала об этом. Как жаль! Жаль. Если бы знала, может, не таскала бы кофе у доброй Валентины и вообще… Все бы сложилось иначе.
Так легко придумать то, чего никогда уже не будет! Эх!..
Планировать же почти невозможно. Так и Галиме. В юности она влюблялась в негодяев. Почему-то именно они были самыми симпатичными, обаятельными. Кто ж знал, что притворялись? А любовь всякий раз казалась настоящей.
— В жизни так много всего поразительного! — всякий раз, расставаясь с любимым, повторяла Галиме.
После расставания становилась угрюмой, забывала здороваться и пила кофе. Снова кофе. Тут следовало пояснить, что кофе назывались гранулы кофейного цвета и запаха, которые нужно было заливать водой и пить, пока горечь не достигала кончиков пальцев.
Кофе помогал справиться с трудностями. Расставание с любимым человеком было единственной трудностью в жизни Галиме, но слишком уж частой. Может, виной был ее мягкий характер.
Из-за мягкого характера она вообще много хорошего теряла в жизни. Никогда не спорила, прощала людям обиды и старалась не судить их строго. То есть сильно обедняла себя. Добрый человек много чего пропускал в процессе излучения доброты. Имелись в виду не только материальные ценности, но и всякие события и явления, которые проходили мимо добрых людей, вообще были им неведомы.
Опять же, легко придумать, какое бы счастье окутало Галиме, будь она чуточку злее. И все-таки ей не повезло. Прожила жизнь мягко и была очень-очень несчастной.
Жительница Валентина умела считать. До прихода дворничихи в шкафу было десять банок кофе, после ухода — девять, после следующего ее визита — восемь, и так далее. Но сообразить, что исчезновение кофе и приход дворничихи связаны между собой, она не могла.
В подвале дома жило много крыс. Иногда их травили. У дворничихи было несколько мешков крысиного яда, который следовало рассыпать в подвале каждую неделю, после чего закрывать его на большой замок. Травила ли она крыс — никто не знал наверняка. Подвал был закрыт всегда. Хотя крысы находили лазейки и свободно передвигались по зданию.
Однажды Валентина спросила:
— Галиме, ты можешь одолжить мне немного крысиного яда?
— Конечно! Бери, сколько угодно, — ответила та.
Договорились быстро.
— А ты знаешь Таньку из нашего подъезда?
Дворничиха, почуяв славную сплетню, переспросила:
— Кого?
— Ту, что живет этажом ниже.
— Ну, знаю. А что?
— К ней приехал ее музыкант. Они поссорились месяц назад, а сегодня он приехал. Как думаешь, помирятся?
Дворничиха побледнела. Уставилась взглядом в одну точку. Что-то вспомнила. Кажется, улыбнулась.
— Так как? Одолжишь? Яду-то?
Галиме кивнула.
Один из ее возлюбленных не был негодяем — вот что она поняла только что. Вслед за этим поняла, что могла бы стать счастливой, если бы поняла это раньше, тридцать лет назад.
Некоторое время спустя сама принесла Валентине крысиный яд. Вышла из подъезда поздно вечером, не заметила открытый люк и провалилась в него. Вот так и умерла.
А ведь она почти решилась простить своего бывшего жениха. Через тридцать лет. Вот бы он обрадовался…
Валентина насыпала яд в баночки из-под кофе. Она заподозрила в исчезновении кофе крыс. Решила их отравить, подменив кофе на крысиный яд.
В тот момент она также думала о Таньке и ее женихе. Ей хотелось навестить влюбленных и узнать, помирились они или нет. Дворничиха, как оказалось, ничего не знала. Следовало самой немедленно выяснить, чтобы крепко уснуть, ни о чем не думая.
Нарумянилась. Сняла фартук, завязала платок на макушке и огляделась в поисках небольшого сувенира. Она любила передаривать вещи, которые скапливались в шкафу и были совсем ей не нужны, но которые обязательно приносили ее ученики и бывшие коллеги.
Оказалось, что в доме не осталось ничего ненужного.
Но Валентина была женщиной щедрой. Она сняла с полки банку кофе. Одну из семи. Две банки из семи содержали яд, неотличимый по цвету от кофе. Какие именно — она забыла.
Но чтобы не топтать на кухне, она схватила первую попавшую банку и посеменила к двери. Тайна отношений бывших учеников волновала душу.
Открыла дверь Танька.
— Здравствуйте, Валентина Алексеевна!
Валентина протянула банку и заглянула в квартиру:
— Как Толик? Можно войти?
Танька равнодушно пожала плечами.
В большой комнате звучала музыка. Толика не было.
— Что, не помирились?
С непонимающим видом Танька спросила, с кем ей нужно было мириться. Валентина прикусила губу. Воскликнула:
— Тьфу ты! Обманула меня, значит! Вот гадина!
Танька всегда знала, что учительница русского языка любила красочно выражаться. Не удивилась и в этот раз.
— А что такое?
— Да сказала мне одна сплетница возле магазина, мол, к тебе вернулся Толик, я и поверила. А что, точно его нет? Ну, ладно. Я пойду. Кофе заберу. Это — не тебе. Это — ему. Если бы приехал.
Звучала музыка. Танька снова пожала плечами. Ей было все равно.
Валентина вернулась к себе и вскипятила воду. Она совсем не пила кофе. Заварила чай. Семь банок снова стояли в ряд на полке. Две из них были с ядом. Кажется, крайние правые. Или те, что посередине. В любом случае, две из семи, а она кофе не пьет, так что крысы рано или поздно утащат их все и отравятся.
Она продолжала напевать песню, услышанную у Таньки. То была музыка ее молодости. Исполнители зачесывали челочки на лоб, носили рубашки с большими манжетами и просто играли любимую музыку.
Хотя, нет. Голос-то Толика.
— Стоп! Откуда у нее песня Толика? Значит, он все же приехал? Обманула меня, поганка!
В следующую секунду Валентина забыла об этой вспышке гнева. Пила чай. Думала о литературе. Она уже давно не работала в школе, но постоянно думала, о чем именно рассказывала бы на уроке сейчас, на этой неделе, если бы осталась.
Ее мысли невольно возвратились к музыке ушедшей эпохи. В чем заключалась ее прелесть? Ребята в музыкальных коллективах были сплошь обаятельны и юны. Еще они казались наивными. Долго не могли понять, как делать деньги с помощью своего таланта. Они жили красивой музыкой.
Сейчас такого нельзя было встретить…
Каждое последующее поколение относилось к предыдущему негативно. Уничтожало, делало скучным привычное звучание. Наивность ушла в прошлое. Нынче много экспериментировали. И быстро уставали от собственной музыки.
Валентина включила телевизор.
Толик исполнял ту самую песню. Шел концерт в честь одного из заслуженных исполнителей. Толик пел и пританцовывал.
— Ну да, вот же он! Как бы он смог приехать?
№ 2. Глупая статья
На улице Пологой жила особенная старушка. У нее был один внук, три бывших мужа и противный молодой сосед, всегда игнорирующий добрые слова ее приветствия.
Молодой человек по имени Прохор был притворно несчастным из-за своих двадцати пяти лет и черно-белого восприятия жизни. Он знал, что необходимо почитать взрослых. Иногда считал взрослым себя самого. Но отказывался выказывать уважение людям пожилым — таким, как особенная старушка, живущая по соседству.
В один из рабочих дней недели Прохор услышал разговор соседки Александры Валентиновны с другой соседкой, Полиной. Полина была гораздо старше Александры, никогда не выходила из дома и с трудом передвигалась по квартире. Александра Валентиновна каждый день приходила помогать ей по хозяйству.
Александра Валентиновна была очень доброй женщиной, хотя и довольно вздорной. Во время посещений больной соседки она нарочно оставляла дверь открытой, чтобы всякий прохожий мог услышать, как она хлопочет по хозяйству и опекает абсолютно не родного ей человека.
Прохор поднимался по лестнице, когда услышал следующий разговор:
— Полечка, вот наступит весна, и я куплю вам туфли и платье, чтобы мы вместе могли пойти погулять.
Полина вместо ответа всхлипнула. Александра Валентиновна, видимо, услышав шаги на лестнице, повысила голос:
— Куплю вам белое платье с вышивкой, как сейчас модно, высокие-превысокие туфли и серебристую сумочку. А потом мы пойдем в театр. Там сейчас много красивых актеров играет. Очень рекомендую туда сходить!
— Саша, вы так добры! Чем мне вас отблагодарить? — судя по голосу, Полина была весьма растрогана.
— Нет! — нарочито громко сказала Александра Валентиновна, — Что вы так недоверчивы? Ничего мне от вас не надо! Я, прежде всего — за справедливость!
Прохор замедлил шаг.
— Это вся молодежь наша, сплошь да рядом — злая, невнимательная! Ей лишь бы урвать да захапать! Удавятся за копейку, — прошипела добрая женщина, явно имея в виду кого-то конкретно.
— Саша, ну не все же такие…
— Все! И не спорьте! Надо же, я ее кормлю с ложечки, а она спорит еще! — Прохор услышал, как зазвенела тарелка, упала на пол ложка. Он быстро открыл ключом дверь и закрылся изнутри.
Александра Валентиновна протопала в свою квартиру и от души хлопнула дверью, шепча по дороге:
— Вот теперь посмотрим, кто из нас добрый: этот сопляк Прохор, или я. Пусть она хоть помрет с голоду — мне все равно. Лишь бы доказать ему, какой он никчемный. Пусть поймет, что зря родился и зря топчет нашу землю. Пусть…
Прохор, услышав это, похолодел от ужаса. До той минуты он не знал, что мешает кому-то спокойно доживать старость. Он слышал несколько раз, как за стеной Александра Валентиновна громко жаловалась по телефону на «молодого, глупого и жестокого» человека. Но всегда считал, что этот человек — ее внук, и никто иной…
Александра Валентиновна не понравилась ему с того дня, как он арендовал однокомнатную квартиру, расположенную недалеко от работы, в тихом районе возле моря. Старушка не понравилась ему сразу, как только зашла без стука, вслед за грузчиками, и важно сообщила, что не позволит захламлять эту квартиру (хотя квартиру сдавала не она, а совсем другая старушка).
Прохор попросил ее немедленно выйти из квартиры и держаться подальше. Его ответ прозвучал довольно грубо, ведь Прохор старался выглядеть убедительно, по-взрослому. Александра Валентиновна в тот же день пообещала своему лучшему другу — пенсионеру Чысаткину — что не станет мириться с несправедливостью и найдет способ выжить нового соседа. Чысаткин промычал на другом конце телефонного провода о дурном нраве молодежи и аккуратно положил трубку на телефонный аппарат, чтобы через мгновение забыть, о чем и с кем говорил только что.
Александра Валентиновна не оставляла надежду выйти замуж в четвертый раз — возможно, за Чысаткина. Она считала себя красивой, статной женщиной, достигшей роскошного шестидесятилетнего возраста. Используя давнее положение заведующей мясной секции городского гастронома, она до сих пор могла достать любой продукт по оптовой цене, в том числе редкую жемчужную пыль, чудесным образом омолаживающую нежную пожилую кожу.
Обычно первую половину дня она бегала по магазинам и рынкам, цепляла взглядом знакомого продавца и не отпускала его, пока нужный товар не продавался по нужной цене. Остальное время отводила на уборку квартиры и приготовление королевского обеда. Половина обеда доставалась соседке Полине.
А вечером Александра Валентиновна очаровывала в телефонном разговоре пенсионера Чысаткина. И грозилась выселить Прохора из его квартиры…
Оставив больную Полину наедине с разлитой тарелкой борща, она по привычке потянулась к телефону. Чысаткин охотно поднял трубку и обрадовался услышать живой голос. Ему понадобилось около четырех минут, чтобы вспомнить, кто такая Александра Валентиновна, а потом еще некоторое время, чтобы понять, кто такой «злой сопляк».
Чысаткину каждый день приходилось выслушивать жалобы на этого «сопляка», но информация не удерживалась в его голове надолго. Иногда он давал советы. Некоторым из них Александра Валентиновна неукоснительно следовала. Но сам Чысаткин не помнил, что именно он советовал вчера и за что ему благодарна живая собеседница.
Узнав, что сейчас Александре необходим совет, Чысаткин не смог удержаться и заговорил о статье, напечатанной крупным шрифтом в цветной еженедельной газете:
— Уважаемая личность, профессор, большой человек написал, что молодежь стала отвратительной! — свистящим шепотом произнес пенсионер, загадочно помолчал и продолжил. — Они, эти молодые, хотят сразу много денег и там еще чего-то… Забыл!
— Славы, может? — подсказала Александра Валентиновна.
— Да! Будто бы так. Славы! Включи телевизор и увидишь, как они вышагивают, голые и бесстыжие! На все пойдут, лишь бы не работать. Профессор так и написал. Он считает, что уровень развития у молодых — минимальный. У них головы абсолютно пустые. Это мутация или действие компьютеров и жвачек. С таким поколением человечество точно вымрет. Кроме нас, я хотел сказать. Останемся только мы, как самые умные и достойные.
— И что, это точно? — ахнула Александра.
— Ты мне не веришь?!
— Ой, ну что ты, ты меня не слушай, я глупая и необразованная. Окончила всего семь классов — а потом пошла работать в магазин. Я — простая — не чета тебе.
— Ну, я подумал, что ты мне не веришь…
— Верю!
— Останемся мы. Молодые точно не выживут. Средний возраст — так он под вопросом, — важно, старательно шамкая вставной челюстью, сказал Чысаткин.
— Я так и знала!!! — прокричала Александра Валентиновна.
От ее крика зазвенели стекла в квартире Прохора. Он сам сидел на подоконнике и слушал встроенное в телефон радио. Маленькие черные наушники не пропускали ни одного постороннего звука, исходившего, в том числе, из соседней квартиры. Прохор слушал музыку и ни о чем не думал. Ему было крайне неприятно жить рядом со скандальной старухой. Хотелось уехать на край земли. Или — лучше — улететь, вслед за облаками.
Когда зазвенели окна, Прохор очнулся и прислушался, вытащив из уха один наушник. За стеной соседкин голос срывался на крик:
— Я всегда говорила, что он не достоин жить на одной площадке со мной! И вообще, ходить и дышать рядом со мной не должен! Я! Я столько всего пережила: войну, трех мужей, одну злобную свекровь, одну вредную и одну — столетнюю, никак не желающую умирать. Я устала делать ремонт во всех их квартирах и сдавать в аренду таким, как он, этот сопляк! Приехал в наш город! Живет тут! Мы на эти квартиры всю жизнь горбатились, по баракам мотались. А он, такой-сякой, приехал и спокойно живет, как будто так и надо…
Дальше Прохор не стал слушать. В правом наушнике зазвучала дивная мелодия, сперва напомнившая звук разбиваемой посуды, а потом рассыпавшаяся камнями по стеклу. Он быстро вставил левый наушник, и мелодия накрыла его с головой, утащила на глубину.
Песня была точно про него, Прохора. В ней будто бы пелось о кочевой жизни иногороднего студента и мелкого служащего, запертого в чужом городе на всю жизнь, рядом с безумной старухой. Песня советовала посмотреть на сложившуюся ситуацию с другой стороны. Может, старуха совсем не безумна, а город — не чужой?
Чтобы разобраться в этом, Прохор включил компьютер, нашел через всемирную сеть ту самую песню и включил ее громко, очень громко. Прослушал раз, потом еще и еще. Песня совсем не помогла пережить расставание с любимой девушкой, поскольку у Прохора никогда не было любимой девушки, а песня была именно о разбитом сердце и надежде на скорое счастье с новым, излеченным природой, сердцем. Она подсобила в другом.
Казалось, что проблема решена: надо забыть противную соседку и жить самому по себе, радоваться успехам, огорчаться из-за неудач. Надо только найти что-то такое, что помогало бы коротать вечера, сокращать время выходных дней и праздников.
Какого-то человека найти, что ли.
Прохор задумался: «Может, старого друга?»
Кого сейчас не хватает больше всего?
«Мама?».
Нет, не родного, но близкого человека.
«Двоюродная тетка матери? Так она живет на другом конце страны. Вполне счастлива и без меня».
Снова нет. Не хватает дорогого человека. О котором мог бы думать все время. Скучать по нему. Назначать свидания. Дарить цветы. Целовать. Водить в кино. Жить вместе. Ругаться. Мириться. Жениться. Воспитывать детей. Вот такого человека не хватает.
«Откуда взять этого человека?»
Песня тяжело вздохнула, устав объяснять элементарные вещи.
«Хочешь сказать, мне нужно влюбиться?»
Песня промолчала, едва заметно усмехнувшись.
«Нет, не так. Ты намекаешь, что я уже влюблен?!»
Песня зазвучала с самого начала. Старательно повышала темп весь первый куплет, сорвалась вниз в припеве, во втором куплете поползла на вершину снова, увлекая за собой Прохора.
«Это совсем не обыкновенная девушка. Она — особенная. В нее нельзя не влюбиться. Наверное, все окружающие в нее влюблены. Она не может быть одинокой. Зачем ей нужен я?»
Песня завизжала и остановилась, не дойдя до третьего припева. Кто-то отключил электроэнергию во всей квартире. Прохор выглянул во двор. Во всех соседних домах в окнах горел свет. Он обулся и решил выйти на площадку, чтобы выяснить там, что случилось.
Когда открыл дверь, в квартиру ворвались два милиционера, за ними с криками вбежала соседка Александра Валентиновна. Соседка ругалась неприличными словами. Милиционеры молча заломили Прохору руки за спину.
Через минуту соседка замолчала, не заметив сопротивления со стороны ненавистного «сопляка». Один из милиционеров сказал другому:
— Рубильник включи, что стоишь?
Свет зажегся, но экран компьютера оставался темным. Прохор поймал себя на мысли, что невольно напевает песню с того момента, на котором она прервалась, и продолжает вести с ней беседу:
«Может, у такой особенной девушки никого нет?»
— Имя, фамилия! — прокричал один милиционер.
— Паспорт, прописка! — продолжил другой.
Прохор кивнул в сторону комода. Первый милиционер достал документы, второй подозрительно оглядел комнату.
— Почему мешаете отдыхать почтенной женщине?
«В свои двадцать два года она, должно быть, устала от популярности».
— Он — типичный представитель гнусной молодежи! — влезла в разговор соседка. — Вы читали в журнале статью министра о том, что молодых нужно удалять из общества, чтобы они не погубили всех нас?
«Да и какая это популярность? Снялась в одном кинофильме. Но сыграла бесподобно, надо признать. Зачесанные волосы песочного цвета, серые глаза и улыбка розовых губ… Особенные серые глаза и неповторимая улыбка. Если бы это была самая обычная улыбка, я бы так не влюбился. Совершенное существо!»
— Что это за статья такая? Кого будут удалять? — напрягся второй милиционер. Он хорошенько рассмотрел комнату и успел заскучать.
Соседка не смутилась. Она решила, что пришел ее звездный час:
— Важный министр, доктор наук, непререкаемый авторитет сказал, что молодежь погубит всех, если ее не остановить. Потому что хочет разрушить наше достояние, — доложила Александра Валентиновна. — Им лишь бы деньги собирать, ничего при этом не делая, при мизерных мозгах…
Первый милиционер обернулся на слова пожилой женщины:
— Кого вы имеете в виду?
— Как кого? Вот этого сопляка, гнусного мерзавца и негодяя. Помешал мне отдыхать! Врубил музыку на всю катушку. И это, заметьте, повторяется каждый день! Первый милиционер пропустил мимо ушей эти слова и вернулся к своему вопросу:
— Кому именно «лишь бы деньги собирать, ничего при этом не делая?». А?
Александра Валентиновна испуганно выпучила глаза.
«Кто ей подойдет — с тем она и будет. Кто сказал, что я не подойду? У нас схожие характеры. Мы постоянно встречаемся в одном и том же кафе, заказываем один и тот же десерт и читаем одну и ту же книгу. Неужели она не заметила, что мы так похожи друг на друга?»
— Ой, вы не слушайте меня. Я-то всего семь классов окончила. И не читаю никаких газет. Только сериалы смотрю. Про статью мне сказал знакомый — нудный старик. Не берите в голову.
— Гражданка, а как у вас самой с пропиской?
«У нее бойкий характер. Надо будет с ней помягче, чтобы она не разозлилась. Подойду и скажу: «Привет!»».
— Ты, слышь, свободен. Парень, эй, ты не спи! — прокричал первый милиционер Прохору в ухо. — Больше не включай музыку слишком громко. А то не услышишь дверной звонок и упустишь свое счастье. Дверь закрой.
— Гражданка, мы к вам пойдем. Покажете гнусную статью и документы, — весело сказал второй.
— Так я же говорю, я читать не умею. Это все Чысаткин…
Когда квартира опустела, Прохор схватил куртку, шапку и книгу, захлопнул дверь и рванул вниз по лестнице.
№ 3. День Святой Екатерины
— Да, мама, уже еду… Репетиция? Через полчаса… Да знаю я, что нельзя разговаривать, когда за рулем… Ну, мама, не надо вспоминать про гаишников… Все, пока!
В автомобиле запахло терпким табаком, какой молодая актриса Екатерина не могла выносить. Быстро повернувшись назад, она пригрозила подруге Маше, что высадит ее посреди дороги, если сигарета не будет потушена через мгновение.
Подруга Маша не спеша докурила, растянув мгновение до минуты; нанесла бальзам для губ, посмотрелась в зеркало, нечаянно толкнув водителя, отчего актриса Екатерина круто вывернула руль и чуть не столкнулась со встречной машиной.
— Эй-эй! Ты что, совсем чокнулась?
Подруга Маша вернулась на место и недовольно надула губы, отвернувшись и делая вид, что рассматривает здания по правую сторону дороги. Она испугалась гнева актрисы и не хотела теперь оказаться на февральском морозе посреди дороги.
Девушки, подобные Маше, липли к актрисе Екатерине, как канцелярские кнопки к магниту. Сыграв в одном популярном кинофильме, Екатерина почувствовала себя знаменитой и внезапно талантливой. Рядом с ней стало приятно находиться. Даже проехать пару остановок в ее автомобиле было здорово — считали многочисленные подруги.
Екатерина дружила с Машей уже несколько недель. Иногда они встречались за чашкой чая в интеллектуальном молодежном кафе, где актриса обычно читала книги, а Маша — ела пирожные и знакомилась с новыми людьми. Впервые встретились на кастинге сериала, в котором ни одна из них так и не сыграла.
Маша жила неподалеку от актрисы. Часто звонила ей и просила подбросить до нужного места. Сама она нигде не снималась и не играла. У нее даже актерского образования не было. Просто ходила на кастинги и заводила знакомства с людьми, подобными Екатерине.
С момента окончания съемок того фильма, который сделал ее популярной, у актрисы Екатерины не было интересных предложений, и она продолжала играть второстепенную роль в классической театральной пьесе.
— Ты просто мне завидуешь, — раздался голос с заднего сиденья.
Актриса посмотрела в зеркало. На нее исподлобья смотрела Маша. Актриса нервно засмеялась и переспросила:
— Что? Я… просто… что?
— Завидуешь! — сквозь зубы проговорила Маша и пояснила: — Носишься, как угорелая: с репетиции на репетицию, с кастинга на кастинг. Трясешься от страха перед режиссером. Учишь текст и получаешь копейки!
Актриса притормозила у торгового центра и повернулась, чтобы яснее расслышать слова Маши.
— А у меня все хорошо, — звонко продолжила Маша. — Я порхаю, как цветок. Всегда ухожена, свежа, без каких-либо материальных проблем или обязательств. Вот поэтому ты и завидуешь.
Актриса Екатерина не могла понять, из-за чего случилось такое признание. Между собой подруги никогда не были откровенны. Когда ходили за покупками или вместе пили чай, беседовали только на отвлеченные темы. Крайне редко ругались. И отчаянно скрывали, что способны мыслить интересно. Сейчас же подруга Маша круто меняла всю структуру их отношений.
— Может, и завидую, — неожиданно легко призналась актриса.
Всю дорогу она размышляла о своей второстепенной роли в театральной постановке, и ей не так просто было перестроиться под тон собеседницы. Немного подумав, она заметила вслух, что всю жизнь кому-то завидовала, и вполне может быть, что Маше она тоже завидует. Только над этим следовало бы хорошенько поразмыслить.
Маша устроилась поудобнее и приготовилась ждать, пока актриса придумает подходящий ответ на ее выпад.
На тротуаре, рядом с автомобильной стоянкой, снег скатался, и прохожие скользили по его ровной поверхности, иногда падая. На улице было довольно холодно, люди натягивали шапки на самые уши и закутывали шарфом пол-лица.
Актриса Екатерина нервно затеребила большие рыжие бусы и сказала, обращаясь исключительно к ним:
— Вчера я позавидовала тебе, когда тот парень подошел к нашему столику. Он читал такую же книгу, как я, но подошел к тебе и говорил только с тобой. На меня ни разу не взглянул. А как блестели его глаза!..
Она заплакала и высморкалась в салфетку:
— Если бы не моя дурацкая, идиотская гордость, я бы сама к нему подошла! Еще месяц назад! Когда впервые увидела в его руках ту книгу!..
Последовали рыдания.
Маша ждала, сочувственно шмыгая носом. Актриса отдышалась и продолжила:
— В детстве читала «Жития Святых». История про Святую Екатерину выбила меня из реальности: так захотелось прожить ее жизнь, промучиться и стать святой… Боже мой, как я ей завидовала! Меня наизнанку выворачивало, когда я плакала над книгой. Представь, у нее было все: красота, богатство, молодость, а она принесла все в жертву Христу… Она погибла молодой, оставшись верной своему небесному жениху, отказавшись принять языческую веру… С тех пор постоянно кому-то завидую.
Маша радостно отозвалась:
— А мне всегда хотелось быть Валентиной. Когда получала паспорт, даже желание было — поменять имя на Валентину.
— Зачем?!
— Чтобы праздновать День Святого Валентина еще веселее, чем раньше.
Маша при этом рассмеялась. Екатерина заплакала снова.
— Ну ладно, не реви. Я тебя прощаю, — сказала Маша, открывая дверцу машины. — Можешь завидовать мне. Но только мне, больше никому! Давай, пока!
Дверца захлопнулась. Актриса немного поплакала и включила радио погромче. Ведущий объявил новый конкурс. Обещал подарить пару кожаных перчаток тому, кто первый назовет православный праздник, отмечаемый четырнадцатого февраля. Актриса завела машину и недовольно фыркнула.
Она легко догадалась, какой это праздник, но не стала звонить на радио. Вспомнила про репетицию и заторопилась. Ведущий тем временем проговорил:
— Внимание! Осталось одиннадцать дней до четырнадцатого! Что же это за день такой? Кого мы станем поздравлять? Если вы подумали про день влюбленных и некоего Валентина, то сразу скажу, что вы ошибаетесь! Да-да, не удивляйтесь. Никакой это не День Святого Валентина! Мой вопрос звучит так: «Днем какого Святого, согласно православному календарю, считается четырнадцатое февраля?».
Актриса прислушалась. Она больше не фыркала. До репетиции оставалось пять минут. Ей предстояло проехать двадцать километров по переулкам и узким улицам с брошенными на обочине автомобилями, где на оставшемся полотне дороги едва могли разъехаться две машины.
Ведущий говорил без остановки. Он озвучил несколько версий появления Валентинова дня и напомнил, что по православному календарю четырнадцатое февраля — день не Валентина, но… Чей это день, пока никто из радиослушателей не мог угадать.
— Этому мученику молятся о защите поля, нового урожая, — подсказал ведущий. С каждой минутой его голос наполнялся радостью в предвкушении общей неудачи всех слушателей. Наверное, ведущий мысленно примерял пару кожаных перчаток или мечтал, что подарит их своей девушке на День всех влюбленных. Может, он на самом деле примерил перчатки. Они, видимо, подошли по размеру, и поэтому ведущий с каждой минутой становился все счастливее.
Екатерина хорошо знала дорогу до театра. Умело вела машину. Внимательно слушала радиопередачу, боясь пропустить ответ на вопрос.
— На самом деле, православный праздник хорош настолько, что нам незачем праздновать заморский, католический День Святого Валентина и осквернять имя Святого (то самое имя, которое вы уже двадцать минут не можете угадать) пошлыми открытками и вечеринками…
Ведущий даже попросил прощения у того мученика, имя которого так никто и не угадал. Ему было стыдно, что люди забыли об истинном значении праздника и придали ему извращенный смысл. Будто бы ведущий сам никогда не покупал открытки в виде сердечка и не дарил родным, любимым или знакомым людям.
У актрисы сложилось такое впечатление, будто День всех Влюбленных сбегал от нее и просил напоследок забыть о любви вообще и о том парне из кафе в частности. Слезы высохли. Было тоскливо — так, как обычно бывает, когда, наревевшись всласть, понимаешь, что жизнь никуда не делась, не ушла вперед, не отстала, а терпеливо ждала все время, пока ты плакала, и теперь готова быть с тобой и дальше; но ты-то меньше всего ждешь продолжения сотрудничества с ней, ты готова умереть или перейти в иное состояние духа, а теперь, вновь увидев жизнь, понимаешь, что она от тебя так просто не отстанет.
— В православном календаре есть и День Святого Валентина, кстати. Но он празднуется не в феврале. Сейчас скажу, когда. Интересно? Так-то. Слушайте: седьмого мая, девятнадцатого июля и двенадцатого августа. Три дня Валентина, а мы, подобно католикам, празднуем только раз в году, в день совершенно другого мученика, имя которого, увы…