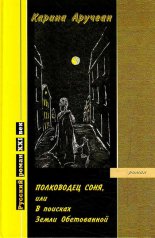Эйзенштейн Шкловский Виктор

Горит кузница.
Бывший сержант спасает жену кузнеца.
В ожогах исчезает «позорное» клеймо.
Когда горит кузница? Много лет спустя? Кого спасает сержант: самого кузнеца или только жену? Кто милует каторжника?
Ничего не помню.
Но сцена клеймения до сих пор стоит неизгладимо в памяти.
В детстве она меня мучила кошмарами.
Представлялась мне ночью.
То я видел себя сержантом,
то кузнецом.
Хватался за собственное плечо.
Иногда оно мне казалось собственным,
иногда чужим.
И становилось неясным, кто же кого клеймит…
Не забудем, однако, и того, что детство мое проходит в Риге в разгар событий пятого года.
И есть сколько угодно более страшных и жестоких впечатлений вокруг – разгул реакции и репрессий Меллер-Закомельских и иже с ними.
Не забудем этого тем более, что в картинах моих жестокость непрерывно сплетена с темой социальной несправедливости и восстания против нее…» (т. 1, стр. 249–250).
Детство сына крупного чиновника и богатой женщины заклеймило его горячим железом, заклеймило сердце обидой и памятью о жестокости, задавило тарелками, мебелью. И он ненавидел свое детство, совершенно благополучное детство. Он не скитался, как Дэвид Копперфилд, по дорогам, не продавал с плеч последней куртки. Он не клеил на фабрике этикеток на банки. Он не был благополучным человеком. Он был заклеймен благополучием.
Клеймо было снято, сожжено Октябрем.
Письма к маме
Сергей Михайлович был «мальчик-пай». Не мальчуган, не мальчишка, а именно мальчик. Мальчик послушный, воспитанный – типичный подросток из Риги.
Но он несчастливый мальчик.
Он писал своей матери: «Мамочка! Почему ты меня жалеешь, что я один, напротив, я принимаю гостей… и хожу по субботам в кинематограф». Через несколько дней он пишет, что в кино видел картину «Потерянный котенок старухи». Он пишет, что расплакался бы, если после этого не шла бы комедия. И он успокоился. Смотрел на то, как люди бросают друг другу в лицо большие пирожные с кремом.
Мама присылала ему открытки с изображением «Шантеклера», который шел в это время в Петербурге. Очень интересный спектакль. Все актеры были загримированы и одеты как петухи и курицы.
Мальчик написал, что это ему очень нравится.
Ему как будто все нравилось в маминых письмах. Подписывается он «Котик», иногда «Твой Котик». Он пишет, что на рождество папа подарил ему черную фарфоровую свинушку: это была копилка в форме свинки. В спине была щель. В нее надо бросать деньги.
Мальчик-пай выпиливал из фанеры карикатуры, полочки, зверей. Спрашивал, как зовут мамину массажистку: мама боялась пополнеть и массировалась.
Через год «Котик» съездил к маме на рождество. В Риге от отца в подарок он получил кружечку, негра из ваты и двух лебедей из целлулоида.
Он был у начальника гарнизона Бертельса, который жил в цитадели (так называлась старинная казарма в Риге). С сыном Бертельса Алешей Сережа был дружен.
Мальчик-пай сообщал о своих отметках. У него была собака Той. Она получила на рождество от отца ошейник. Вечером мальчик поехал на маскарад к генералу Верховскому во фраке, сшитом из папиного шелкового халата, и в цилиндре.
Мальчик в шелковом фраке писал: «Целую тебя крепко. Так крепко, что дырка будет непременно. Твой, тебя любящий искренне, Котик».
Сергею стало легче, потому что папа и мама не встречались. Было только одиночество. И привычные вопросы отца: «Как тебе нравятся мои постройки?»
Тогда он шаркал ногой и говорил, что они очень нравятся. Но потом, уже взрослым человеком, сын-художник говорил про старые постройки в стиле модерн с ненавистью. Он писал:
«Объектом подражания в эту деградирующую эпоху оказалась не другая какая-либо эпоха, а… природа! Но какое это извращенное подражание! Не принципу, не целесообразности природы и явлений природы здесь подражает архитектура, но видимости растительного мира и человеческого тела, дамского по преимуществу. И железо изгибается в лианы. Штукатурка завивается линиями. А формы окон стараются вторить неправильно расходящимся кругам по воде. Фасады подражают раствору крыльев стрекозы. Ручки дверей, вилок и ножей, электрический звонок и ножки ламп извиваются фигурами змеящихся женских тел, в чьих волосах таинственно горят небольшим накалом электрические лампочки» (т. 2, стр. 478).
Стиль модерн очень скоро победил рынок. У нас в Петербурге в стиле модерн в пригороде Охты резали мебель из ольхи для самого немудрящего, непритязательного мещанства, которое быстро поверило изогнутым линиям нового иностранного стиля.
Надворный советник Эйзенштейн был поклонником стиля модерн. Может быть, как практик он стал неплохим архитектором, хорошо располагал комнаты. Но он не столько архитектор, сколько украшатель. Ему надо, чтобы работа нравилась всем. «Все» – это губернатор, начальник гарнизона, дирекция железной дороги и остальные заказчики.
Сын впоследствии говорил об отце, я сказал бы, со свежей враждебностью. Он говорил, что отец – тиран. Была ли тирания? Была невнимательность и жестокость. Он гнул сына мягко – так, как гнут линии орнамента, украшения в стиле модерн. Гнул. Приглашал к нему учительниц. Все это делал невнимательно, небрежно. Сын подчинялся отцу и писал матери: «Я нарисовал узор из гусей и собираюсь делать узор из змей».
Это для маминого вышивания.
Больше всего ему нравился цирк. Он уверял, стараясь подражать хорошему тону, который царил в Риге среди людей, к кругу которых хотел принадлежать и отец, что в цирке ему нравятся лошади, дрессированные лошади, которых привозил из Петербурга Чинизелли – дрессировщик во фраке, с хлыстом, ручка которого была сделана из слоновой кости. Мальчику нравились рыжие клоуны.
В одной из первых своих театральных постановок, «На всякого мудреца довольно простоты», Эйзенштейн вывел на сцену сразу восемь клоунов: все были рыжие.
Помню Сергея Михайловича молодым: золотоволосый, с нежным цветом лица, какой бывает у рыжих людей, с тонкими бровями и с очень красивыми руками. Таким, вероятно, он был и в детстве – высоколобый, нежный, тихий, легко ранимый мальчик.
Много учился; учился английскому, французскому, немецкому языкам и даже фотографии. Все шло успешно.
Когда он вырос, то элегантность приняла форму эксцентриады. Эйзенштейн носил очень широкие штаны, подчеркивал, зачесывая свои золотые волосы, высоту лба. Он не стал толстяком. Был по сложению похож на японского борца с невыделенными сильными мускулами, с очень широкой грудной клеткой и с мягкими движениями.
Маме мальчик писал про цирк так: «Подумай, я был в цирке и видел сразу 14 львов, как они рычали, чуть укротителя не съели! Вчера я был днем в Театре на «Демоне»… а Демон сам мне не понравился, а жених Тамары похож был на твоего куафера. Мне очень надоело в предпоследней картине слушать разговор Тамары и Демона». И дальше он продолжал: «Я пишу уже английские диктовки, учу новый стишок по-английски. Благодарю за открытки…» и т. д.
Он писал условные письма хорошего нескучающего мальчика.
В 1912 году развод состоялся.
Приближается новое
Оказалось, что папины знакомые – мамины знакомые, и в дом теперь мало кто приходит – даже на папины именины и на пасху.
Летом поехали на дачу. Событий там оказалось мало; правда, приходил знакомый мальчик Максим Штраух; он побывал в Москве в Художественном театре: там перед началом представления не звонили, а стучали.
Шла пьеса «Синяя птица».
Пьеса эта еще идет и сейчас, но она теперь шуршит.
Все ее декорации, которые когда-то сделаны прекрасным театральным и позднее кинематографическим, ныне умершим художником В. Егоровым, высохли, стали такими привычными, уже рассказанными заранее, что прежнего удивления на них и на актеров, которые играли роль Хлеба, Сахара, Кота и Пса, нельзя себе вообразить.
Дети в пьесе Метерлинка искали Синюю птицу; она была птицей счастья, а находили только птицу воспоминаний. Актеры изображали неожиданным способом обыденные вещи. У девочки и у мальчика, ищущих счастья, был верный друг Пес и ложный друг – предатель Кот.
Штраух сын врача; папа давно умер, и мама умерла. Неожиданно Штраух оказался мальчиком одиноким, без сверчка и чайника, без уюта дома.
Сергей Эйзенштейн с ним особенно дружил.
Мальчики поставили сами для себя «Синюю птицу».
Эйзенштейн играл роль Огня.
Роль Воды и Молока исполняли сестры Штрауха. Максим Штраух играл роль Пса и имел успех.
Первый театральный успех, потом тысячу раз заново осуществленный.
В качестве зрителей были мобилизованы все соседи по даче, с одним условием: им не разрешалось уходить во время представления…
Отец жил отдельной жизнью, ходил на службу и в оперетту. Мальчик увлекался театром.
Существовал и в то время журнал «Огонек», издаваемый Проппером. Журнальчик стоил пять копеек. Печатался на неважной бумаге и был наполнен скучной суматохой фотографий и неважных рассказов.
Жил он, как и вся тогдашняя пресса, объявлениями. Например, из Лодзи: «За один рубль сто предметов» или «Лучший подарок самому себе». Были объявления о лекарственных средствах, средствах от венерических болезней, от импотенции, объявления о книжках, которые делают тебя непобедимым, потому что ты можешь гипнотизировать своего хозяина, сосредоточивая свой взгляд на его переносице. Такими книжками увлекался в свое время даже Пудовкин. Среди объявлений было объявление о том, что тебе пришлют бесплатно книжку, как бороться с пьянством. Маленькая брошюрка рассказывала о том, как человек пил, как он погубил свою семью, стал убийцей, нищим. Все это было переложением одной старой мелодрамы, кажется Дюканжа «Тридцать лет, или Жизнь игрока». Прочитав брошюру, бойко написанную и содержащую много приключений, человек начинал задумываться о том, что действительно пить не так уж интересно и опасно. В конце ему предлагалось купить пилюлю от пьянства: три пилюли – и он больше пить не будет.
Сергей Михайлович никогда ничего не пил, но брошюра его заинтересовала. Он развернул сюжет: в представлении Штраух играл пьяницу, а Сережа изображал и жену, и убитых детей, и отца.
Это был первый сценарий Сергея Эйзенштейна и первая его постановка. Он шел от кукольного театра и от лубка.
Объявления с их понятной семантикой, с точностью смыслового содержания, с прямым ходом поступков тоже влияли на Сергея Михайловича, как они повлияли на другого моего знакомого, сейчас уже немолодого, Сергея Юткевича, вводящего и сейчас в свои мультипликации графическую манеру тогдашних объявлений.
Но, как говорилось в старинных романах, «вернемся к нашему герою».
Дети поставили «Коляску» Н. Гоголя.
Выбор темы для спектакля, вероятно, объяснялся тем, что недалеко, в сарае, нашли коляску. «Коляска» – прелестный рассказ Гоголя. Им восхищались Толстой и Чехов.
Спектакль поставлен Эйзенштейном, он же играл роль генерала, приехавшего в гости.
Чернокутского, молодого помещика, который расхвастался, выпивши лишнее, перед генералом коляской, потом спрятался от приехавших гостей в той же коляске и был в ней обнаружен, когда гости выкатили коляску из сарая на божий свет, играл М. Штраух.
Штраух провел роль с большим успехом.
Дети на невысоких рижских дюнах играли в индейцев, расписав тело акварельными красками и украсив головы перьями.
Зимой скучно. Большая пустая квартира; к ее эху мальчик уже привык; кататься по пустому залу на трехколесном велосипеде стало невесело.
Радоваться, что увезли рояль и не надо играть гаммы, – надоело.
Отец уходил на службу.
Он спрашивал у сына, какие у него отметки, подписывал дневники по субботам. Ему тоже было скучно. Он опять спрашивал мальчика: «Сережа, тебе нравятся мои дома?» И выслушивал ответ до конца: «Очень, папенька».
Дома все были налицо: они стояли в одном строю на одной улице.
Вечера в пустом доме длинны. Сережа обыскал все шкафы, все перечитал и пересмотрел; как почти все мальчики, начиная с «Евгения Онегина»; книги он прочел слишком рано, но не как все мы – больше всего интересовался рисунками, сумев среди хлама отыскивать хорошие.
Он рано пересмотрел случайно попавшие к инженеру гравюры Домье, отверг гравюры Доре, нашел книги с рисунками Тулуз-Лотрека и бесчисленное количество книг по архитектуре.
Он должен был стать архитектором.
Книги подтвердили ему решение отца.
Сережа увидел в книге огромного формата, как войска бесчисленными канатами подымали Александровскую колонну на Дворцовой площади; это было похоже на борьбу лилипутов с Гулливером.
Стоявшая посреди площади колонна была прекрасна, как победа.
В большой квартире темно, электрический ток учитывался счетчиком, в богатом доме боялись цифр, которые нарастали с тихим стуком.
В темной квартире мальчик листал «Историю архитектуры».
Учился он хорошо – на пятерки и четверки, по субботам ходил в кинематограф, смотрел многосерийные картины с преступлениями и погонями, ужасался и радовался тайнам очередного боевика.
Картины шли длинными сериями, мелькали надписи на русском, немецком и латышском языках.
Зал шумно дышал и шуршал растроганным шепотом.
Сережа сидел на почетном месте: почти все билеты в кино были «почетными».
Сережа сидел и ел конфеты «Ноки-Поки», а в скучные утра воскресений склеивал из присланных мамой рисунков для вырезания театр.
В кинематограф ходили часто. Раз в хронике Сережа увидел тот дом на Альбертштрассе, в котором он жил: дом, построенный папой.
На тот просмотр Сережу повел отец, сидели рядом.
Смотрели вместе, видели разное.
Пока живешь, то неотчетливо понимаешь, насколько изменяется мир вокруг тебя; главное изменение начала века было изменение скоростей, изменение зрелищ и изменение способа видеть, думать, чувствовать, что обозначает смену поколений.
Начнем с того, что после революции 1905 года чрезвычайно возросли тиражи книг. Люди еще не научились доводить до конца революцию, но они заинтересовались миром; он беспокоил своей неустроенностью сознание.
Менялась не только Россия – менялся мир. Появлялись новые способы сообщения, узнавания.
Так, в далекой Америке было много людей, которые недавно приехали и не знали английского; они приходили в кино; в кино можно было смотреть, не зная языка.
Комические картины, простые мелодрамы были понятны для всех.
Поток мелких денег прошел через бесчисленные кассы мельчайших кинотеатриков.
Молодой Чаплин становился одним из самых знаменитых людей в мире.
Мир увидел самого себя, далекие города; видовые картины смотрелись нехотя, но все же смотрелись, и молодой Эйзенштейн их очень любил.
Мир расширился, готовясь к новым потрясениям; как будто сняли перегородки, изменились размеры комнат.
Кинематографические драмы с их убогим сюжетом, с повторяющимися погонями показывали новую быстроту действия, новый способ связывать события. Кино становилось и у нас популярным. Лев Толстой даже пошел в психиатрическую лечебницу, где была киноустановка, для того чтобы посмотреть кинопредставление; смотрел он очень внимательно, и новый способ соединения частей драматургического произведения, к изумлению будущих ценителей, вдруг проявился в драме «Живой труп», которую тогда писал Толстой.
Неузнанным, неназванным входило новое в жизнь. Входило отрицаемым, входило как курьез, как случайная обмолвка.
На улицах появились автомобили; шоферы сидели за прямо поставленными рулями в шубах – предполагалось, что от быстроты движения они зябнут: машины двигались со скоростью 40 километров в час.
Начали летать самолеты, их называли еще аэропланами.
Сергей Эйзенштейн ездил смотреть на них.
Зазвенели телефоны – деревянные аппараты тогда висели в передних. Для того чтобы позвонить по телефону, крутили ручку.
Увеличилось количество людей на улицах.
В деревнях появились городские костюмы.
В Риге громко заговорили по-латышски.
Конки сменились трамваями. Кроме кирпича на постройке стали применять бетон. Заговорили о железобетонных перекрытиях.
Полы начали покрывать линолеумом; большая фабрика линолеума открылась в самой Риге.
Что было важным и что не важным – никто не знал.
Стояло горячее лето 1914 года. Приходили газеты с тревожными сообщениями, но к тревогам уже привыкли.
Появились новые писательские имена, появились брошюры с обрезанными полями, неизвестно где напечатанные.
Было лето, уже созревал хлеб.
В Сараеве какой-то гимназист стрелял в наследника австрийского престола, человека уже очень старого, и убил его.
Газеты начали выходить с вечерними прибавлениями, но еще печатали фельетоны о французской борьбе. Приходили пароходы с разноцветными флагами. На улицах звенели звонки, зазывавшие прохожих в маленькие кинематографы.
Стояла жара.
Пошли слухи о мобилизации. Около призывных пунктов начали собираться люди.
Старая Русса – Старая Русь
Старая Русса – уездный город Новгородской губернии, стоит он при впадении речек Парусья и Перерытица в Полисть. Полисть – приток реки Ловати. Ловать течет в озеро Ильмень.
Русса очень старый город и старый курорт. Создан он еще во времена Аракчеева; в нем воды, грязи, парк, фонтан, семь ванных зданий, гостиницы и церковно-приходское училище имени Ф. М. Достоевского. Лечатся здесь от разных болезней: от того, что прежде называлось золотухой, от плевритов, от болезней печени и от женских.
Летом в 1914 году здесь лечилась Юлия Ивановна.
В городе много церквей – старые, но перестроенные, перекрашенные. Перекрашивали их маляры вольные и маляры монастырские. Я видел в 1910 году такую запись в Новгороде, кажется в церкви Федора Стратилата. Записи были жестокие – для того чтобы краска лучше держалась, старые фрески, написанные по сырой штукатурке вечными минеральными красками, насекали.
А потом писали по памяти, как по грамоте, писали и лики, и по простоте душевной записывали промежутки легкими орнаментами даже с дудочками и бубнами, как в купеческих залах.
Однажды Николай I в Новгороде посмотрел такую роспись, и хотя он не очень углублялся в искусство, но все-таки был человек насмотренный и изволил спросить:
– У кого учились ваши мастера?
– У матери божьей, – ответил игумен.
– Оно и видно, – изволил ответить император.
Старая Русса уездный город с большим каменным гостиным двором, манежем, колокольным звоном, крестными ходами.
Их видел молодой Эйзенштейн; вспоминал в картинах.
Здесь мама познакомила юношу со строгой дамой А. Г. Достоевской – вдовой великого писателя, крупной издательницей-благотворительницей и владелицей многих дач в Сочи.
Дамы оказались соседками по ванным.
Прежде белокурая, теперь седая, Достоевская была спокойна и милостива. Казалось, с ней больше ничего не может случиться; случилась война.
В галерее курзала испуганно бросались друг другу в объятия не знающие друг друга люди.
В креслах плакал, сняв со слепых глаз черные очки, лысый полковник, прикрытый клетчатым пледом.
Вокзал был набит до отказа.
Мама хорошо знала пароходные пути и сообразила, что можно поехать через озеро Ильмень по Волхову к Тихвину, оттуда – поездом.
Пароходик, лапая воду красными плицами, шел по узкой речке Полисте. Рыжие поля спешно жнут, река узка, ее не видно за поворотом. Высокий пароходик как будто брюхом ползет среди прибрежной травы; так, говорят, ползают ужи по гороховому полю.
Ехали, не останавливались. Ехали через старые дедушкины места. Ехали по незнакомому прошлому, здесь еще не переделанному, не закрашенному, к будущему. Белые церкви сгрудились, как будто они собирались поговорить, что же будет дальше? Стояли они на закате в белых стихирях. Ильмень – древнее озеро, славянское озеро – что только не выросло на его низменных берегах!
Озеро тенистое и кажется мраморным. Белая колоколенка стоит на другом берегу – капитан ее использует как маяк.
Пятьдесят два километра по Ловати – это уже не близко. Старый Ильмень широк. Это большое озеро, вписано в реки.
Берега у входа в Волхов подымаются. Тут наступила ночь, ночь лунная. Пароход, переполненный перепуганными, торопящимися к своим квартирам и вещам людьми, нигде не останавливался.
Зажглись неяркие огни – зеленые и красные на боках, желтые на мачте.
Стучала ко всему привыкшая паровая машина, кланялся, как поденщик, пилящий дрова, балансир машины. Медленно Волховом проплыли мимо залитого луной Новгорода, посмотрели на старые сваи.
Мост вспомнится в сценарии «Александр Невский».
На этом мосту девка Чернавка коромыслом зашибла богатыря Буслая и, смирив, привела его к матери.
Мама спит в каюте. Душно, но что же делать, надо терпеть – война.
Пройдет немного времени. Юноша приедет смотреть на этот Новгород, увидит храмы молодыми глазами, посмотрит, насколько они углубились в землю, и на киноплощадке на горе Потылиха, над малой рекой Сетунь, построит стройные церкви с золотыми главками.
Как далеко разошлись новгородские церкви. Между ними луга, поля, когда-то они окружали город; сейчас как будто ушли, потерялись, гуляя среди лугов.
Вот маленькая одноглавая церквушка Спаса Нередицы. Говорят, слово это значит, что она из ряда вышла.
Десятый век.
А пароход едет, едет и едет, и люди спят и не знают, что старые лоцманы проводят пароход через пороги, сперва через гостинопольские с высокими берегами, потом через другие – длинные, долгие, струистые.
Хорошо поставлены храмы в старой России. Люди, если не торопятся, строят хорошо. Это увидит потом юноша Сергей Михайлович, увидит, еще не состарившись, и в Мексике.
Сейчас он едет недалеко: в Питер, потом в Ригу.
Война и Рига
Война! Организованы патриотические манифестации, ходят люди с трехцветными флагами и с портретами Николая П.
Сережа тоже ходил на манифестации и потом нарисовал их, только несли знамена не люди, а животные.
Письма всегда характеризуют не только того, кто пишет, но и того, кому пишут. Письма Сережи Эйзенштейна написаны в уменьшенном масштабе. Они сыграны. Взрослеющий мальчик играет в маленького, преувеличивает свое недопонимание.
Мальчик пишет: «В субботу у нас были грандиозные манифестации, пошел вместе с нею, ходил я по городу около l – 2 часов… Кричали «Ура», заставляли встречных снимать шляпы… Одним словом, было очень хорошо». И к письму сделал приписку: «Только мне очень нужно, очень хочется, чень, очень Достоевского». В это время ему шестнадцать лет.
Мальчик просит, чтобы ему подарили собаку. Та собака, которой папа купил ошейник, умерла. Мама обещала прислать новую собаку – Джона. Но папа сказал, что пускай пришлют собаку после войны. Во время войны с продовольствием возможны затруднения.
Это было самое начало войны, сентябрь.
Мальчик, согласившись, написал:
«Итак, жду Джона по окончании войны».
Он был терпелив.
Появляются имена знакомых даже среди убитых. Сережа ходит по госпиталям. Он уже учится в шестом классе. У него изменяется почерк, становится шире, крепче, своеобразнее. Он просит, чтобы ему прислали Шекспира по-английски. Он видел «Гамлета» и заболел после спектакля. Диккенса по-английски уже прочел; просит еще, чтобы на пасху ему не присылали шоколадные яйца, потому что ему папа их запрещает есть.
Сергей ждет с нетерпением студенческой жизни: война – вещь не вечная, все говорят, что она скоро кончится. Теперь он готовится к приемным экзаменам.
Фронт приближался к Риге. Помрачнели люди. Участились эшелоны с ранеными с войны; пошли слухи, что на фронте нет снарядов – совсем нет.
Шел 1915 год. Сергею Эйзенштейну семнадцать лет. Он кончил реальное училище и утешал маму в письмах, что война не может долго продолжаться, и он на войну не попадет.
Кончил он очень хорошо. Документы были посланы в Петроград. Отец сам с ним поехал на приемные испытания.
Они ехали в вагоне первого класса, в вагоне много офицеров. Разговоры были осторожно-испуганные.
Все читают газеты.
Желтели деревья. Окна в вагоне спущены. За поездом бежали дети, кричали: «Газет! Газет!»
В вагоне говорили, надо ли бросать газеты – в газетах плохие вести; а газеты нужны на папиросы или для того, чтобы делать из них фунтики для ягод.
Поезд шел тихо: мешали эшелоны. Эшелоны стояли с раскрытыми настежь дверьми теплушек. Из теплушек смотрели солдаты. Они не спрашивали газет.
Под Петербургом начались еловые леса, пустые, но зеленые, потом переполненные платформы, на них больше женщины – мужчины на войне.
Вагоны первого класса внутри обиты красным бархатом и очень удобны.
Папа объяснял сыну, что во время войны надо работать. В дороге папа объяснял соседям по купе, что Институт гражданских инженеров очень важный – гражданские инженеры строят дома.
Они архитекторы деловые. Дома нужны для того, чтоб в них были квартиры, которые бы снимали жильцы. Надо уметь планировать квартиры так, чтобы было побольше квартир с парадными ходами. Квартиры надо делать небольшие – трехкомнатные, четырехкомнатные, по-новому, с водяным отоплением. Фасад нужно делать просто и элегантно. Рустовка – декор парадного входа, легенький орнамент и никаких излишеств, например статуй.
Приехав в Петербург, после сдачи документов остановились у знакомых. На другой день опять в институт. Ехали мимо огромных боен, у ворот боен стояли прекрасно вылепленные быки – такие красивые, что не хотелось думать, что их убьют на мясо.
Переехали через скучный Обводный канал, пошли доходные дома – пятиэтажные, шестиэтажные, все серые. Везде солдаты; везде строевое учение; на солдатах ластиковые шинели – не суконные.
Переехали через прекрасный мост с цепями, гранитными беседками.
– Фонтанка. Чернышев мост, – сказал папа.
Въехали на полукруглую площадь, повернули направо.
Стояла улица дивной красоты – длинный ряд домов с прекрасными пропорциями как будто отражался в другом ряду, все это сужалось перспективой к прекрасному зданию.
– Росси! – сообщил отец.
– Очень красиво! – сказал Сергей.
– Устаревшая классика! – поправил Михаил Осипович.
Выехали на Екатерининскую площадь. Рыжий осенний сад, кони над театром, Публичная библиотека слева, потом Невский – широкий, красивый. Церкви, похожие на рамы для огромных картин, и трамваи, переполненные солдатами.
– Это беспорядок, – сказал действительный статский советник. – Это запрещено! Они не платят. Ты идешь сдавать экзамены в институт, который происходит от Института военных инженеров. Видал «Пиковую даму»?
– Видал.
– Германн был военным инженером, – сказал отец. – Военные инженеры имели право носить усы, как офицеры. Он никогда бы не разрешил такого безобразия, чтобы низшие чины ездили в трамвае не платив.
– Германн сошел с ума, – ответил Сергей. Это было его первым возражением отцу.
Отец ответил:
– Это в опере.
– В том же институте, – продолжал Сергей, – учился Достоевский, писал прокламации, попал на каторгу, потом служил в солдатах, а потом писал романы.
– Никогда не пиши прокламаций.