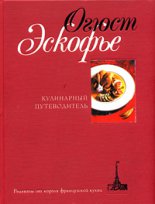Русская проза рубежа ХХ–XXI веков: учебное пособие Коллектив авторов
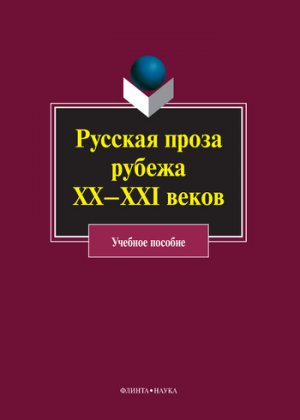
Создавая план прошлого, используя прием воспоминаний, Т. Толстая заменяет традиционные для данного типа повествования конструкции типа «я помню», «мне припоминается» модальными конструкциями – «будем думать», «можно было бы порасспрашивать», «да, кажется так». Встречаются и риторические конструкции: «Ну что о ней еще можно сказать? Да это, пожалуй, и все! Кто сейчас помнит какие-то детали». «Они также становятся сигналами, помогающими переместиться в прошлое».
Осознавая, что тип героя, подчиняющего свою жизнь природному времени, и традиционен, Т. Толстая показывает соотнесенность частного и общественного времени (личного и исторического):
«Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии Михайловиче.
<...> «В будни они входили в магазины, покупали мертвую желтую вермишель, старческое коричневое мыло...»
Поскольку данное состояние типично, налицо и стремление автора к обобщению, оно проявляется через эпическое время:
«Плывет улыбаясь, по дрожащему переулку за угол, на юг, на немыслимо далекий сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем полдне» («Милая Шура»).
Так удается преодолеть бытовой план, выйти на более широкий уровень. Одновременно подобный переход разрушает мир вещества и выводит в мир мечты. Ключевым при этом становится слово «романтический». Скажем, героиня Александра Эрнестовна живет воспоминаниями, в которых доминирует образ дальних стран и морей, вводится описание влюбленного, годами пишущего письма. Отсюда и авторская характеристика «реальная как мираж» («Милая Шура»). «О зеленом королевском хвосте, о жемчужном зерне, о разливе золотой зари над просыпающимся миром» мечтает и Петерс из одноименного рассказа.
Подобная временная система позволяет выстроить отношения, основанные на стремлении автора прояснить отношение к вечным проблемам: ради чего живет человек, в чем заключается для него система нравственных ценностей. Вл. Новиков в предисловии к сборнику «Любишь – не любишь» замечает: «…Ценна сама энергия вопроса, передающаяся читателю». Он также подчеркивает, что писательница не спешит за бегущим днем, а смотрит «на повседневную жизнь обыкновеннейших людей. с точки зрения вечности».
Обрисовывая подобных героев, автор часто вводит условную ситуацию. Она становится своеобразным переходом к сказочности бытия или, по определению критики, диктует сказочность ее прозы. Действительно, мир сказки имеет особое значение для героев Т. Толстой как своеобразное защитное средство от суровой и жестокой действительности. Н. Иванова отмечает: «Главным полем ее художественной деятельности является современное мифологизированное безрелигиозное сознание, находящее утешение в выдуманном, изобретенном, фантастическом или легендарном мире».
Мифопоэтическое пространство Т. Толстой организуется как особый внутренний мир героя, описывается его состояние, реакция на внешние обстоятельства. Своеобразными сигналами становятся клише и фольклорные формулы:
«Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские голубые страны» («Милая Шура»).
Клише предопределяют замкнутое пространство, в котором и происходит своеобразное исследование социального типа. Реальность и ирреальность повествования поддерживаются присутствием конкретных и абстрактных персонажей. Выше отмечалась их функция для обозначения перехода к определенным выводам, обобщениям, темам. В подобных случаях возможно и использование цветового определения: «судьба, черным ветром вылетевшая в распахнувшуюся форточку». Так создается и определенное настроение. Отметим, что судьба, как и тоска, становится одним из условных персонажей Т. Толстой.
Особую роль в повествовании играет деталь, помогая автору переместиться в прошлое, воскресить запахи, звуки, усиливая одновременно конкретную осязательность изображаемого с помощью цвета, часто строящегося на оппозиции (черного и красного, светлого и темного). Деталь используется и для организации повествовательных планов, автором как бы постепенно собирается картина мира. В бытовом плане чаще всего встречаются предметная, интерьерная или портретная детали. Здесь она выступает в своей основной функции – как «определитель» предмета, вещи или человека, придавая описанию обстоятельность, точность и осязаемость.
Использующаяся в воспоминаниях сходная временная деталь часто вводится через сравнение, отчего и описание становится более зрительным. Соединяя деталь с цепочкой эпитетов, автор усиливает общее впечатление:
«Легкая карельская ночь. Нет ни тьмы, ни алой зари – вечный белый вечер. Ушли все сказки. по земле ползут переливы серого сада.» («Самая любимая»)
Деталь может проявляться из простого перечисления однородных предметов, из которых складывается общая картина.
«Несложная пьеска на чайном ксилофоне: крышечка, крышечка, дощечка, крышечка, тряпочка, крышечка, тряпочка, тряпочка, ложечка, ручка, ручка» («Милая Шура»).
Приобретая дополнительное значение, кроме прямой, предметной или образной характеристики, участвуя в обобщении, деталь способствует созданию образа-символа, что расширяет ее функции.
Автор использует самые разнообразные детали: временные («нес в руке две копейки, чтобы позвонить»); портретные (деталь – описание ног: «переставляя свои дореволюционные ноги», «кряхтит и нашаривает узловатыми ступнями тапки»); интерьерные («оранжевый горб абажура»; «прохудившийся диван», «смятая постель»); пейзажные («в холодном дожде, в холодном городе, под низкими холодными тучами», «красная персидская сирень»); сновидческие («ночью Петя бродил по подземным переходам, по лестницам, по коридорам метро»); символические (героиня несет «баночку довоенного сока»). Иногда используется градация: «Голубые шторы. Нет, белые. Белые, шелковые, пышные, сборчатые. И кровать белая». Детали соединяются, усиливая авторскую оценку: «ноздреватый мартовский снег» (соединена пейзажная и временная детали), «трещала мятым шоколадным серебром» (вещественная и характерологическая).
Подобный «густой», насыщенный текст, на первый взгляд, должен замедлять повествование. Вл. Новиков даже предлагает его «не бездумно глотать, а дегустировать со вкусом и толком, вникая в оттенки и детали». Конечно, внешняя незатейливость требует и своего читателя, способного следить за медленно разворачивающимся повествованием, останавливаясь на эпитетах, метафорах, скрытых аллюзиях.
Однако дальше критик замечает, что читатель остается в постоянном недоумении, пытаясь понять, что хочет сказать автор. Действительно, часто читатель ждет, что должно что-то случиться, но все не случается, а затем следует неожиданная смерть героини. Описание строится на резкой смене интонации: «Мусор распарился на солнце, растекся черной банановой слизью» («Милая Шура»).
Ложный драматизм создает особую повествовательную динамику. Уже в названиях произведения часто дается намек на конфликт («Поэт и муза»), обозначается герой «(Соня», «Милая Шура», «Серафим») и даже основная тема («Охота на мамонта»). Иногда действие строится на антитезе («Любишь – не любишь»), символических образах («Лимпопо», «Река Оккервиль»).
Организуя текст, Т. Толстая выстраивает его из сцен, эпизодов, пейзажных зарисовок. Отдельные рассказы представляют фотоснимки запечатленного времени (в рассказе «Женский день» описана подготовка к конкретному празднику). Б. Тух верно подметил, что прозе Т. Толстой свойственна кинематографичность, когда постепенно отфокусируется и проявится картинка. В описаниях сохраняется и внутренняя динамичность действия, основанная на последовательном перемещении от одного события к другому.
Принцип случайности приводит к появлению темы рока. Оказывается, что многое в жизни человека заранее предопределено и обусловлено. Как устойчивое определение автор использует определение «чужой». Скажем, в «Реке Оккервиль» «чужие люди вмиг населили туманные оккервильские берега» и разрушили мир мечты – «пели уже свое». В тексты Т. Толстой входит стихия быта: «рожали, размножались, ходили друг к другу в гости».
Справедливо замечая, что повторяющаяся случайность – свидетельство алогичности (абсурдности) жизни, А. Карпов замечает, что абсурд возникает в силу особенностей самой жизни. Таковы последствия отсутствия нравственных ориентиров в обществе. Появляется герой, просто существующий в данном мире, не стремящийся не только к подвигу, но и вообще к какому-либо поступку, действию. Закономерно, что любое несовпадение его личного мира с миром общественным вызывает раздвоенность и расщепленность. Т. Толстая нередко использует для выражения подобного состояния гротеск, чтобы разрушить тот официальный мир, в котором живет герой, и переместить его в особое пространство, обозначаемое как «сказочное». Такая гротескная модель мироустройства использована при описании героя в рассказе «Факир», где противопоставлены мир высотки и окраин.
Уплотнение пространства, ограничение его масштабами личной жизни приводят к появлению давнопрошедшего времени, где значение имеет только данная судьба, конкретный человеческий опыт. Вместе с тем отдельные истории образуют общее пространство, в котором легко определяются общие темы, проблемы и герои. Автора интересуют различные состояния, не только те, которые образуют мир детства (болезни, страха), но и те, которые принадлежат уже миру взрослых (одиночества, тоски).
«Петин дедушка лежал больной в задней комнате, часто дышал, смотрел в низкое окно, тосковал.
Сверху капали капли. Мертвое озеро, мертвый лес; птицы свалились с деревьев и лежат кверху лапами; мертвый, пустой мир пропитан серой, глухой, сочащейся тоской. Все – ложь» («Свидание с птицей»).
Здесь усиление авторской оценки происходит с помощью повторяющегося эпитета «мертвый».
В образной системе доминируют образы детей и стариков, они выстроены как продолжение одного состояния, разнесенного во времени. Оппозиционно противопоставлены мужчины и женщины, которые наделяются разными нравственными качествами. Изображение героев-мечтателей приводит к превращению их в фантомы.
Обычно в романном повествовании широко присутствуют второстепенные персонажи, упоминаемые в тексте и выполняющие характерологическую функцию. Главная из них – обрисовка исторического фона или места действия. Тяготение Т. Толстой к вещественности повествования обусловливает появление целого ряда второстепенных персонажей, хотя обычно в рассказе подобные герои просто упоминаются.
Образовав общее текстовое пространство, Т. Толстая размещает в нем своих героев. Не только ребенок становится центральным персонажем рассказов Т. Толстой, но и взрослые с детскими чертами, которые так и не перешли в иное возрастное состояние. Поэтому дядя Паша «маленький, робкий, затюканный», Петерс, сохраняя наивно-созерцательный настрой ребенка, продолжает мечтать. Герой живет с редким ощущением, что в его мире не может произойти ничего плохого. И даже, когда действительность оказывается иной, чем ему хотелось, у него не возникает желания изменить или переломить ситуацию. Своеобразным «охранителем» часто выступают матери или бабушки как носители родового начала.
«Мамочка всевластна. Как она скажет, так оно и будет». <...> «Все хорошо, что ты делаешь. Все правильно» («Ночь»).
Использование архетипов, символических фигур позволяет автору перейти к обобщениям, в частности ввести представление о жизни и смерти. Не случайно в день смерти бабушки Петерса «по реке идет лед» – начинается переход в новое состояние.
Критика рассматривает подобных героев как романтиков, чудиков, «дурачков». Можно согласиться с рассуждением О. Богдановой, отмечающей сходство «чудиков» В. Шукшина с героями Т. Толстой. Доказывая верность своего суждения, она приводит слова писателя: «Герой нашего времени – это всегда дурачок, в котором наиболее выразительным образом живет его время, правда его времени.»
Напомним начальную характеристику героини одноименного рассказа: «Соня была дура». Если подобное определение соотнести с семантикой имени героини, то оно превратится в контрастную характеристику (имя Софья (София) образовано от слова «мудрость»). Создается фольклорная ситуация, когда за маской дурачка скрывается иной по своей сути герой.
Т. Толстая часто использует алогизмы. На их основе выстраивается поведение Сони. Описывается несовпадение между внутренними качествами и реакцией окружающих. Первоначальный постулат «Ясно одно – Соня была дура» одновременно и оспаривается, и подтверждается в повествовании. Неадекватность социального поведения компенсируется общечеловеческими качествами героини, способностью к самопожертвованию в обществе, настроенном только на потребление. Поэтому и ее личные качества кажутся просто неуместными. Конец неожидан и организуется автором по законам эпического повествования. Соня отправляется спасать любимого – «готовая испепелить себя ради спасения своего единственного», и несет «баночку довоенного сока». «Сока там было ровно на одну жизнь». Формульность, клишированность и определенную афористичность также можно считать особенностями прозы Т. Толстой.
Интересен и образ Ады. В авторском описании использован ряд эпитетов, дополняющих и уточняющих характер героини: «женщина острая, худая, по-змеиному элегантная». Ключевое слово «змея» повторяется, но авторский комментарий необычен: «Жаль, что вы ее не знали в молодости. Интересная женщина». Первоначальная характеристика дополняется указанием на «смугло-розовое» личико.
Т. Толстая отходит от привычного деления персонажей на положительных и отрицательных с четко продуманной системой координат. В литературе социалистического реализма было принято выводить определенный социальный идеал и последовательно подчинять его раскрытию структуру текста. Как представитель «новой прозы», или альтернативной литературы, Т. Толстая сделала своими героями стариков и детей. Она фиксирует то или иное состояние, некоторые сущностные качества как атрибутивные признаки (мечтательность, незащищенность, романтичность). Психологический анализ обычно сводится к воспроизведению внутреннего монолога героя или автора. При этом сохраняется скрытая повествовательная динамика, которая проявляется в использовании риторических конструкций, неполных предложений.
В прозе Т. Толстой критикам явно не хватало социальной активности персонажей, они начинали искать особые смыслы, завуалированную авторскую позицию, выводя их из структуры текста, фиксируя многозначность названий и предопределенность имен героев. Поиски традиционного начала привели к установлению преемственности, между героем писательницы и «маленьким человеком» русской классической литературы. Если, однако, воспринимать данного героя как типичного носителя определенных социальных, моральных и нравственных качеств, то вряд ли можно говорить о том, что он привлекает особое внимание Т. Толстой. Не случайно она заявляла, «что ее герой не маленький, а нормальный человек».
Скорее речь идет о нарицательности образа, признании за ним своеобразного права быть незначительным, невыдающимся и даже обыденным. Именно такой персонаж и интересен Т. Толстой, поскольку он позволяет корректировать свою позицию, систему нравственных ориентиров.
Каждый из персонажей Т. Толстой наделяется своей: прямой (портретной) и косвенной опосредованной характеристикой. Описание внешности бывает объективным, нейтральным и оценочным. Портретная характеристика необычна, в ней часто выделяется доминирующий признак или содержится указание на отдельные качества или возраст:
«Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину» («Милая Шура»).
Используются и другие приемы для создания героя: синекдоха – «полотняная сгорбленная спина», «чистый мыльный запах», «ивовый скрип»; оксюморон – «реальная, как мираж». Встречается анафорический зачин:
«А мы ничего не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима»... («Милая Шура»).
Автор часто использует звукопись, усиливая характеристику или подводя к определенному выводу:
«Военный медик был Павел Анатольевич, борец с чумой, человек пожилой, сложный, скорый на решения, в гневе страшный, в работе честный» («Спи спокойно, сынок»).
Важна и психологическая параллель между жизнью человека и временами года. В произведениях Т. Толстой время измеряется по природному календарю, смене времен года: наступает «темная городская зима», «надвигается август, спускается вечер», описывается потемневший осенний песок. В передаче времен года доминируют глаголы, причастия и метафорические эпитеты: спичечный коробок, «мерцающий вечной тоской».
Собственный стиль Т. Толстой проявляется, как отмечалось, в особой повествовательной интонации, создаваемой повторами и перечислениями:
«Ветер речной, ветер садовый, ветер каменный сталкиваются, взвихриваются и, соединившись в могущем напоре, несутся в пустых желобах улиц.» («Самая любимая»)
Доминирует разговорная интонация:
«Красивое имя – Зоя, правда? Будто пчелы прожужжали. И сама красива: хороший рост и все такое прочее. Подробности? Пожалуйста, подробности: ноги хорошие, фигура хорошая, кожа хорошая, нос, глаза – все хорошее. Шатенка. Почему не блондинка? Потому что не всем в жизни счастье» («Охота на мамонта»).
Разговорная интонация («а где прежняя-то», «иди, свищи») соединяется с модальной конструкцией («будет ли»). Происходит перебивка повествовательной интонации, усиленной в том же абзаце определением: «мир на миг показался кладбищенски страшным» («Чистый лист»). Субъективные и эмоционально маркированные речевые фигуры в сочетании с перечислением иногда создают лирическую тональность. Обычно такой прием используется не для воссоздания плана настоящего, а плана воспоминаний. Тогда оказывается возможным говорить о ритмизованной прозе, создающейся на основе повторов («Мы выберем день», «Мы сойдем с электрички.», «Мы идем через траву вброд.»).
Синтаксический параллелизм с троекратным повтором обычно используется в народно-поэтической речи. В тексте Т. Толстой подобное расположение фразы («облетели листья // потемнели дни // сгорбилась Маргарита») позволяет автору включить героя в общий временной ряд, превратить его из конкретной фигуры в обобщенную. Иногда допускается цитация, включения строчек из детского фольклора (считалки, сказки, страшные рассказы):
«Ах ты, зверь, ты, зверина, ты скажи свое имя: ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня? Я не смерть твоя, я не съем тебя: ведь я заинька, ведь я серенький» («Спи спокойно, сынок»).
Среди клишированных и устойчивых формул – мифологические выражения, библеизмы, строчки из классических произведений, парафразы песен:
«За развороченные рельсы, за взрыв, за опаленную голову сына, за вспыхнувшую факелом маму, за шашку, выбившую детскую память» («Спи спокойно, сынок»).
Функции клише в текстах Т. Толстой равнозначны скрытому цитированию, они необходимы для большей узнаваемости мира детства, вынесения оценок:
«Нянечка заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет сердцем, как понимает зверь – зверя, старик – дитя, бессловесная тварь – своего собрата» («Любишь – не любишь»).
Интересно организована несобственно-прямая речь. В повествовании переплетаются несколько голосов – автора-повествователя, героя и второстепенных действующих лиц:
«Мы пьем чай на веранде. Давай тут заночуем. Почему мы сюда не ездим? Тут можно жить! Только сумки таскать далеко. Крапиву бы повыдергать. Цветочки какие-нибудь посадить. Крыльцо починить. Подпереть чем-нибудь. Слова падают в тишину, сирень нетерпеливо вломилась в распахнутое окно и слушает, покачиваясь, наши пустые обещания. Невыполнимые проекты...» («Самая любимая»).
Голос автора обрамляет диалог, который размещается внутри описания, выделение диалога происходит с помощью риторических фраз, инверсии, синтаксической паузы. Используются также разговорные конструкции, обобщенно-личные формы («мы стояли»).
Функции автора разнообразны: он выступает в роли комментатора события, рассказчика. Его индивидуальная характеристика отсутствует, обычно он уподобляется своим героям и воспринимается как один из них (в воспоминаниях о детстве или в описаниях мира детства). Важно отметить роль авторской иронии, с помощью которой опосредованно передается отношение автора к герою: «склеивая вязкой сладкой глиной хрупкие аптечные челюсти» («Милая Шура»).
Особая роль уделяется семантике имени, легко расшифровываемой: Зоя – жизнь, Софья – мудрая, Александра – защитница, Евгения – благородная. Некоторые из них образованы от мужских имен. Интересно обыгрывается имя Фаина:
«Все дороги вели к Фаине, все ветры трубили ей славу, выкрикивали ее темное имя... змеились снежными жгутами и бросались к ее ногам... все сливалось в кольцо, сплетая для возлюбленной гремящий зимний венок» («Петерс»).
Возможно, сосредоточенность на конкретном эпизоде или истории обусловили использование Т. Толстой формы рассказа, оказавшейся удобной для изложения выбранной истории, чаще всего посвященной конкретной личности, ее нелегкой судьбе. Можно было подхватить ее историю практически в любом месте и так же произвольно остановить. Поэтому так часто встречаются открытые финалы. Форма случая диктует, как у Д. Хармса, использование разговорной интонации: «Дети у него уже взрослые. Жена от него давно ушла, а снова жениться он не хотел».
Т. Толстая создает сложное текстовое пространство, в котором значимо каждое предложение, наполненное своеобразными эпитетами, деталями, лейтмотивными сравнениями. Несомненно, интертекстуальность ее текста потребует дальнейшего изучения. Связь прозы Т. Толстой с русской классической традицией проявляется на уровне парафраза, переклички отдельных образов, деталей, совпадения некоторых мотивов. Но более отчетлива связь с авангардной традицией первого двадцатилетия 20-х годов. Не случайно Т. Толстую то зачисляют в реалисты, то относят к постмодернистам. Контаминационный характер ее стиля позволяет говорить о широком использовании синтеза, когда писатель одинаково свободно владеет манерой письма реалистов и символистов, нередко соединяя их в одном тексте. Подобный симбиоз был характерен именно для экспериментальной прозы первой трети ХХ в., когда отрицание традиции считалось нормой.
Л. Е. Улицкая (р. 1943)
Ярко проявляющееся социальное начало прозы Л. Улицкой позволяет относить ее творчество к разным направлениям, говорит о ее связях с «жесткой прозой» или с «новой волной», хотя по проблематике она близка к «женской» прозе. Немецкий исследователь Б. Тесмер полагает, что Л. Улицкую «скорее можно считать одним из наиболее традиционных авторов современной русской беллетристики, хотя ей не чужды новые художественные структуры».
К литературе Л. Улицкая обратилась не сразу. В соответствии с семейной традицией она закончила биофак МГУ, затем работала в Институте общей генетики (1968-1970), занималась научной работой, писала статьи. Оставшись без работы, вела домашнее хозяйство, когда дети подросли, стала завлитом Еврейского музыкального театра (1979-1982).
Свой драматургический опыт Л. Улицкая считает необычайно важным, именно в пьесах она научилась особым образом организовывать текстовое пространство, «закрывать занавес» в нужный момент. Среди ее пьес как оригинальные сочинения, так и переработки («Кармен, Хосе и Смерть», «Мой внук Вениамин» (1988), «Куда несет меня лиса», «Лотос небесный». Она также написала сценарии к фильмам «Сестричка Либерти» (поставлен В. Грамматиковым), «Женщина для всех», «Русское варенье». По роману «Казус Кукоцкого» снят одноименный 8-серийный телефильм, спектакль по повести «Сонечка» поставлен в МХТ.
Кроме пьес и киносценариев, Л. Улицкая писала стихи, но лишь одно стихотворение вошло в роман «Медея и ее дети». Она начинает как автор рассказов для детей, позже объединенных в сборник «Сто пуговиц» (1983) . Позже она вернется к творчеству для детей, напишет сборник «Истории про зверей и людей», проиллюстрированный художницей С. Филипповой. Рассказы Л. Улицкой регулярно появляются на страницах журналов, чаще всего в «Новом мире», где опубликованы ее основные произведения.
Творческий путь Л. Улицкой традиционен – от небольшой формы к более крупной. В 1989 г. она пишет первый рассказ из цикла «Бедные родственники». Позже он станет основой сборника, вышедшего в 1994 г. Следующим появился цикл «Девочки». Цикл «Новые рассказы» пока не сформирован: некоторые рассказы печатались отдельно и в составе цикла «Пиковая дама». Цикл «Люди нашего царя» (2005) был удостоен приза зрительских симпатий в формате премии «Большая книга» в 2006 г.
Признание творчества Л. Улицкой выразилось в включении ее в списки номинантов «Русского Букера», которого она удостоится в 2001 г. за роман «Казус Кукоцкого». Роман «Медея и ее дети» был отмечен французской международной премией «Prix Medicis Etranger» (Премии Медичи за лучшую иностранную книгу) в 1996 г. Среди других наград: французский орден литературы и искусства, премии Д. Адсерби (Италия, 1999), XVII Московской международной книжной выставки-ярмарки «Венец» (2006), премии «Большая книга» (2007), премии Грин-цане Кавур (Италия, 2008). Роман «Искренне Ваш Шурик» удостоен премии китайских книгоиздателей как лучший зарубежный роман 2005 г.
«Взрослая» проза Л. Улицкой стала популярной за рубежом: ее книги выходили в парижском издательстве «Gallimard», а также в США и Израиле, переведены на 25 языков, включая китайский.
Широкую известность Л. Улицкой приносит повесть «Сонечка» (1992), за которой практически сразу следует другая – «Дочь Бухары» (1994). Жанровая специфика сочинений Л. Улицкой зависит от широты обобщений, постановки круга вопросов. В повести автор идет от частных конфликтов к более пространным, социальным; рассказы конкретны и локальны, посвящены частным вопросам. Общим свойством ее текстов является изображение индивидуальной судьбы.
Центральными персонажами почти всех произведений, за исключением романов «Казус Кукоцкого» и «Даниэль Штайн, переводчик» писательница делает женщину или молоденькую девушку. Она отходит от канонов советской литературы и восстанавливает традицию изображения «маленького человека» как носителя гуманитарных идеалов.
Роман «Медея и ее дети» (1996) вызывает неоднозначную реакцию критики и читателей. Не всем показался удачным сюжет произведения, насыщенный повторяющимися мотивами (главный из них – мотив преступления и наказания). Мифо-поэтическая составляющая является характерологической особенностью прозы Л. Улицкой, для которой важны подтекст, внутренний смысл. О неоднозначности и насыщенности содержания говорят и названия появившихся позднее произведений. Так, роман «Казус Кукоцкого» был опубликован в журнале «Новый мир» под названием «Путешествие в седьмую сторону света» (2000, № 8-9).
Писательница неоднократно признавалась, что многие темы уже избирались ее предшественниками, но ее задача состоит в том, чтобы представить только свой взгляд на заявленную в произведении проблему (мотив преступления и наказания рассматривается в «Медее», без вины виноватые появляются в «Казусе Кукоцкого» и в некоторых рассказах). Она отмечает: «Мои темы не возникают и не исчезают. Я с ними живу». Или: «.Прошлое вообще от меня не совсем уходит, продолжает существовать». Внимание к прошлому также предопределило широкое использование мифологем, построение текста на авторском мифе.
Создавая собственную картину мира, Л. Улицкая своеобразно выстраивает сюжет: он возникает словно исподволь, вырисовывается из непосредственных наблюдений. В одном из интервью писательница объяснила подобную манеру изображения: «Жизнь полна сюжетов – простых, иногда до пошлости, и очень заковыристых. Сюжетов – как голодных котов на помойке. И все они давно записаны. Новый сюжет – страшно редкое литературное событие. Меня же гораздо больше увлекает построение характеров».
Л. Улицкой не свойствен такой ярко выраженный автобиографизм, как, например, Т. Толстой, хотя в некоторых произведениях можно обнаружить отдельные факты жизни писательницы. Л. Улицкая отмечала, что ее рассказы – это скорее «фантазии на тему, чем пережитые события». Автор чаще передает героям не факты собственной жизни, а свои мысли, настроения, философские наблюдения. В ее произведениях доминирует описание повседневной реальности, где люди сходятся и расходятся, живут и умирают. Пройдя через любовь, измену, предательство, они открывают для себя мир чувств и страстей. Ее интерес к взаимоотношениям героев, их личным судьбам приводит к усложнению сюжета разнообразными вставными новеллами и историями.
На вопрос об отнесенности своей прозы к «женской» Л. Улицкая ответила: «Моя основная сфера частная жизнь, некоторая часть – писательство, но никак не культурология». Она считает, что занимается, по сути дела, прикладной антропологией, только в романной форме. В частности, ее интересуют даже сны, помогающие запечатлеть события, происходящие между двумя мирами: «Пока ее тряс озноб и мучила жажда, ей снился один и тот же повторяющийся сон, как будто она встает с постели, идет на кухню и пытается зачерпнуть из ведра, в котором воды на самом дне, и кружка только шкрябает по жести, а вода не набирается. » («Сонечка»). В мире сна или промежуточного состояния достигается то, чего не удалось достичь в предыдущей жизни, прежде всего гармонии в личной жизни («Зверь», «Казус Кукоцкого»). Иногда сны классифицируются: «Им снились обычные воскресные сны, послеобеденные сны, счастливейшие восемь лет, которые они прожили втроем.» («Сонечка»)
Обозначим доминантные особенности рассказов Л. Улицкой. Их действие в основном происходит в послевоенное время. Изредка вводятся реалии начала XX в.: «Когда они учились в одном классе гимназии, ходили в одинаковых серо-голубых форменных платьях, пошитых у лучшего в Калуге портного, носили на пышных грудях одинаковые гимназические значки «КЖГС», означавшие «калужскую женскую гимназию Саловой» («Медея и ее дети»).
Автор полагает, что существует не только дух времени, но и его вкус, и запах, и музыка: «Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми из светлой смолы, и лежали на плечах как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме «Колдунья» («Медея и ее дети»). Время обозначено с помощью детали (картина появилась в СССР в 1959 г., после показа на Первом Московском кинофестивале).
Из подробностей создается и образ поколения определенного времени: «Все дети мелкие, недокормленные, толстяков нет. Про нарушения обмена веществ стало известно позже, в более сытые бескарточные времена». Иногда прошлое описывается с ностальгирующей интонацией, используются архетипические образы сада, рая: «Теперь она, как Ева из изгнания, смотрела в сторону своего прошлого, и все ей там казалось прекрасным» («Зверь»).
Объединению рассказов в циклы способствует также организация пространства. Действие происходит в замкнутом топосе, мир героев ограничен, они редко выходят за пределы своей территории. Л. Улицкая всегда тщательно, используя разные типы деталей, описывает место действия: «Кончились последние остатки провинциальной Москвы с немощеными дворами, бельевыми веревками, натянутыми между старых тополей, и пышными палисадами с бамбуками и золотыми шарами.» («Сонечка»).
По этим подобным подробностям легко установить время действия как природное, так и историческое. Позже героиня выходит из локального, домашнего пространства в более широкое, чаще всего городское, которое описывается не менее подробно, чем мир детства. Особую повествовательную интонацию создает инверсия, переводящая план настоящего в прошлое, расширяя место действия.
Вместе с тем у читателя создается ощущение удаленности подобных событий во времени, они воспринимаются как ирреальные, фантастические. Такое впечатление усиливается использованием традиционных формул, устойчивых выражений и инверсии: «в более сытые бескарточные времена», «так вертелась она с пяти утра до поздней ночи и жила не хуже других». Стремясь к обобщениям, автор вводит эпическое и даже мифологическое время (помимо бытового, биографического и природного). Аналогичную функцию выполняют и временные наречия: «потом», «как только» и форма прошедшего времени глагола «быть»: «Потом настали новые времена. Казалось даже, что именно с Котяшкиной деревни они и начинались»; «.Для слов были отведены другие часы и другие годы».
Конкретное личное время постоянно переходит в эпическое, вечное, поэтому герой часто существует не только в повседневном пространстве, но и в снах: «Во сне она легко, как в соседнюю комнату, входила в прошлое и легко двигалась в нем, счастливо дыша одним воздухом со своим сыном» («Медея и ее дети»).
Наиболее подробно автором описано событийное настоящее: «Дома, за обедом, Матиас выпивал воскресные полбутылки водки» («Счастливые»). Читатель узнает, что делают его герои, какие события происходят в их жизни: «Вот вчера я была у Берты. Она хочет Матиасу пальто купить, а он не дается» («Счастливые»).
Подобные случаи, разговоры, сплетни (автор называет их «житейским вздором») встречаются в ранних рассказах, затем повторяются, поскольку по законам организации цикла в них действуют одни и те же герои, только новые истории дополняются новыми событиями.
Предметный мир остается неизменным, в нем доминируют изображения «чашки» и «сумки». Так в романе появляется «брюхастая сумка» Медеи, в дальнейшем описание уточняется: «Перекинула через плечо старую татарскую сумку, в которой лежал ее дорожный припас и купальник».
Предметы превращаются в атрибутивные признаки героев и среды, становясь частью характеристики – героиня (Генеле) получает прозвище «сумочница», а сам предмет проживает не менее сложную жизнь, чем ее хозяйка, когда-то обучавшаяся на врача в Швейцарии, а затем ведущая одинокую нищенскую жизнь: «С годами она сначала темнела, стала почти черной, а потом вместе с хозяйкой начала седеть и приобрела неописуемо изысканный желтовато-серый цвет. Сумка эта несколько раз входила в моду и выходила из нее».
Обычно автором используются обобщенные характеристики: чиненная Матиасом, «доисторическая» «с большим черепаховым замком на устах». Встречаются и драгоценные авоськи. Семантика слова обыгрывается, усиливается определениями. Слова «сумка» и «чашка» становятся опорными, вокруг них постепенно складываются семантические поля, с их помощью происходит перемещение в прошлое: «Бронька поставила на стол синие кобальтовые чашки с густым золотом внутри. Знакомые, знакомые чашки. Ирочка очень отчетливо вдруг увидела, как молодая Симка с синей чашкой в руках сидит перед жесткой белизной их семейного стола.» («Бронька»).
Мир вещей одушевляется, а люди начинают походить на неодушевленные предметы: «С годами Матиас делался все приземистее и все более походил на шкаф красного дерева; его рыжая масть угадывалась по темно-розовому лицу и бурым веснушкам на руках» («Счастливые»). История овеществляется, ключевым становится слово «мир», обозначающее знаки времени.
В обозначенном пространстве и разворачиваются судьбы героев. Одни описываются подробно, переходят в другие рассказы (повествование о судьбе Колывановой, вышедшей замуж за шведа). Сюжетный настрой рассказа не позволяет предположить счастливый конец, но необычность ситуации делает его возможной. Похожая история описана в рассказе В. Токаревой «Happy end», написанном примерно в то же время.
Обычно рассказы выстраиваются на противопоставлении. Название («Бедные родственники») формирует интригу (ожидание счастливого конца, обернувшееся крушением иллюзий), раскрывает образы героев («Бедная счастливая Колыванова»).
Способы описания действующих лиц разнообразны. Первоначальное определение дополняется, встречаются развернутые и сжатые характеристики – простодушная нахалка, «тряпку в жилистых руках она держала с нежностью и твердостью профессионала». На контрасте персонажей, наделенных постоянными признаками, выстраивается основная сюжетная линия. Одним из средств создания образа становится ирония, с помощью которой передается авторское отношение: «.Не должно было быть у этой маленькой бывшей потаскушки, посмешища всего двора, таких сложных чувств, глубоких переживаний. Это нарушало представления о жизни, которые были у Ирины Михайловны тверды и плотны...»
С помощью иронии создается и топос, место действия, его атрибутивным признаком могут стать наглые козы, «блуждающие по улицам будущей столицы космонавтики». Введение несобственно-прямой речи позволяет усилить голос героя. Имена или прозвища героев часто выносятся в заголовки («Дочь Бухары», «Лялин дом», «Орловы – Соколовы», «Пиковая Дама»). С помощью названий писательница предлагает разгадать будущую судьбу героев.
Сюжетная основа практически всех произведений романной формы одинакова и основывается на любовной коллизии. Повесть «Сонечка» развивается как рассказ о счастливой любви. «Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из трех неравных кусков» – так описывает автор «великую цель» своей героини.
Повествование развертывается как последовательный рассказ о жизни героини, о превращении возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку, а затем в толстую усатую старуху. Все состояния подробно описываются и констатируются автором. Первая часть жизни персонажа, до двадцати семи лет, сопровождается «бесконечным чтением». Вначале дается опосредованная характеристика одним из героев, старшим братом Ефимом: «От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос – форму груши». За характеристикой действующего лица следует авторская характеристика, в ней также соединяются разные точки зрения: «Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие».
Вторая часть жизни героини связана с ее счастливым замужеством. Лейтмотивом можно считать слова самой героини: «Господи, Господи, за что же мне все это.» И наконец, следует финальный аккорд: «Толстая усатая старуха Софья Иосифовна. вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды». Характеристика выстроена на определениях нейтрального («толстая усатая старуха») и аллюзивного («в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды») характера. Обычно автор использует или прямую цитату, или центонную полистилистику (рассеянное разноречие).
Особенности построения временной системы определяются разделением повествования на плоскости. Внешний план организуется историческими событиями: упоминается война, эвакуация, возвращение в столицу. Он в основном связан с событиями мира героя. Автор замечает, что он «пионер художественного направления, изо всех сил расцветающего теперь в Европе». Вернувшийся на родину легендарный художник оказывается в лагере, но считает себя счастливейшим из неудачников, отсидевшим «ничтожный пятилетний срок» и работающим «теперь условно художником в управлении».
Последняя ипостась героя обозначена как «блаженный возлюбленный». Автор описывает это состояние следующим образом: сначала происходящие «ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого», потом наступает период счастья с девочкой – «рядом с ним будет эта молодая красота, нежная, тонкая и равная ему по исключительности и незаурядности». Хотя автор чаще перечисляет события, чем анализирует и исследует их, из разнообразных упоминаний деятельности героя складывается сложное и противоречивое время: «Тяжко молчавшая много лет страна заговорила, но этот вольный разговор велся при закрытых дверях, страх еще стоял за спиной».
В виде реплик появляются оценки и характеристики: «Это было хорошее ателье, окнами на стадион «Динамо», ничуть не хуже того последнего парижского, мансарды на улице Гей-Люссак, с видом на Люксембургский сад». В ряде случаев прошлое характеризуется резко отрицательно: «Ее живот был располосован грубыми советскими швами, оставшимися после кесарева сечения».
Героиня замкнута в своих бытовых проблемах, образующих внутренний план, они конкретны и предопределены течением повседневности. Только в конце автор приходит к обобщениям: «Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую».
Конспективно излагая некоторые события из жизни основных героев и сосредоточиваясь на том времени, когда они были вместе, Л. Улицкая раздвигает повествование с помощью вставных историй (эпилог о судьбе дочери героини и любовнице ее мужа), лирических отступлений: «Много лет спустя Роберт Викторович не раз удивлялся неразборчивой памятливости жены, сложившей на потаенное дно весь ворох чисел, часов, деталей».
Используя инверсию и чаще всего нейтральную или книжную лексику, добавляя слова из разговорной речи, Л. Улицкая создает особую интонацию, напоминающую сказ: «Властная прихоть судьбы, некогда определившая Сонечку в жены Роберту Викторовичу, настигла и Таню.» Налицо мифологизация: Роберт Викторович воспринимает своих жен как традиционный эпический супруг, полагающий, что женщина – хранительница семейного очага. Поэтому они и занимаются в хозяйстве каждая своей функцией.
В романе «Медея и ее дети» повествование выстраивается уже из множества сюжетных линий. В центре располагаются два любовных треугольника, зеркально отражающихся друг в друге. Сама Л. Улицкая так определила жанр и содержание своей книги: «Роман «Медея и ее дети» – семейная хроника. История Медеи и ее сестры Александры, соблазнившей мужа Медеи и родившей от него дочку Нику, повторяется в следующем поколении, когда Ника и ее племянница Маша влюбляются в одного и того же мужчину, что в результате приводит Машу к само убийству».
Заявленный в названии через мифологическое имя героини сюжет «Медеи» своеобразно интерпретируется автором. Это не только история преступления и наказания, но прежде всего история роковой страсти, за которую человек рано или поздно расплачивается. Она раскрывается через историю конкретного человека – Маши, живущей с осознанием собственной вины.
Медея тоже проходит своеобразный путь очищения. Лейтмотивом становятся слова: «Она верующий человек, другая над ней власть». Путешествие Медеи к родным в Ташкент воспринимается как искупление лежащих на ней грехов предков. Центральная линия Медеи определяет общее движение сюжета, в нее вливаются остальные. В конце романа на похороны Маши собираются все представители рода, повествование завершается, линии сходятся. Писательница сообщает: «Семья Синопли была представлена всеми своими ветвями – ташкентской, тбилисской, вильнюсской, сибирской». Об этих людях с той или иной степенью подробности и рассказывается в романе.
Одни обрисованы подробно, и тогда каждая глава открывается новой историей (рассказ о Елене Степанян, матери Георгия, жене брата Медеи). Другие появляются во вставных, вне-сюжетных историях, в письмах (о встрече Медеи с потомком татар, выселенных из Алушты после войны), воспоминаниях героини.
Центром сюжетного движения становится судьба личности в сложных и трагических событиях истории. Поэтому датировка проводится не по конкретным событиям, а по фактам из жизни героев (даты смерти Харлампия, родоначальника семьи; рождения самой Медеи). Снова появляются знаки времени, предметные детали: «Медея надела купальник. Это была смелая новинка парижской моды двадцать четвертого года, привезенная Медее одной литературной знаменитостью тех лет. Сооружение было совсем уже потерявшегося цвета, с короткими рукавчиками и вроде как с юбочкой.»
Такими знаками становятся запахи («смолистый запах», «пахли они вкусней любой еды» – о лыжных палках), звуки («Все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом»), состояния природы («Зимой здесь было холодней, в теплое время – жарче; ветры в этом, казалось бы, укрытом месте крутились с бешеной силой.»).
Эпическое время становится главным, движущим повествование. Оно создается с помощью интонации, повторов, последовательного размещения глаголов: «За свою долгую жизнь они к смерти притерпелись, сроднились с ней: научились встречать ее в доме, занавешивая зеркала, тихо и строго жить двое суток при мертвом теле, под бормотанье псалмов, под свистовый лепет свечей.»
Обычно встречается свободно текущее, ассоциативное, разветвленное, осложненное вставными историями и авторскими объяснениями-переходами время. Перемещения происходят с помощью традиционных устойчивых конструкций: «как в старые времена», «много переменилось за это время». Настоящее вбирает в себя прошлое (время мифа, библейские времена, историю России). Параллельно оно открыто будущему, в эпилоге сообщается о том, что сын героини издает стихи своей матери, далее следует авторская ремарка: «Стихи ее оценивать я не берусь – они часть моей жизни, потому что последнее лето я тоже провела с моими детьми в Поселке, в доме Медеи». В одном эпизоде сопрягаются несколько времен.
Приемы раскрытия образов действующих лиц традиционны: через описание, оценку другими действующими лицами, вставные новеллы (истории), несобственно-прямую речь. Характеристика образуется из определений: «его жена Алдона с мужским лицом и женственной, в парикмахерских локонах, прической» (использован контраст). «Они были одного роста, муж и жена, и если принять во внимание, что Маша в своей семье была самой мелкой, рост Алика никак не относился к числу его достоинств» (ирония); «принадлежал к той породе еврейских мальчиков раннего включения, которые усваивают грамоту из воздуха» (афористичность).
Автор не скрывает своего отношения к некоторым героям, доминантной характеристикой «героя-любовника» Бутова становится мир его вещей, к примеру «чемодан – кожаный, со слоеной толстой ручкой, в заграничных наклейках». Первоначальная характеристика дополняется традиционным описанием: «Рослый мужчина с длинными волосами, по-женски схваченными резинкой, в белых, в облипочку, джинсах и розовой майке». Оно сопровождается косвенной оценкой (в примере авторская речь передает и особенности речи героини): «У Ады аж дыханье сперло от нахальства его вида».
Встречается и другая оценка: «Георгий смотрел неодобрительно. Парень был ловкий, но не пижон». Косвенно затрагивается семантика имени Бутова: «Валерий», что значит «сильный, здоровый». Она оттеняется повторением оценочного эпитета «уснул здоровым сном». Авторская характеристика часто построена на иронии: «При всем своем броском великолепии он был простенькой дичью: отказывал женщинам редко. Но в руки не давался, предпочитая разовые выступления долгосрочным отношениям».
Имясловие имеет для Л. Улицкой особое значение, она отмечает, что носящего родовое имя старшего в роду Синопли мужчину зовут Георгий, что значит «земледелец». Он занимается палеонтологией, лейтмотивом проходит мысль о его возвращении на родину, что в конце концов и происходит. Вторую жену Георгия зовут Нора, возникает невольный аналог с известной героиней Ибсена, разрушающей свой дом. На самом деле, разрушая один дом, героиня выстраивает другой.
Семантика жилища обыгрывается в эпилоге, где становится известно, что Георгий, как и хотел, выстроил себе дом «выше Медеиного». Его описание («Летняя кухня очень похожа на Медеину, стоят те же медные кувшины, та же посуда. Нора научилась собирать местные травы, и так же, как в старые времена, со стен свисают пучки подсыхающих трав») подчеркивает, что Нора, рождающая Георгию двух дочек, воспринимается как преемница Медеи.
Сохранение родового начала, детородной функции является обязательным качеством героинь Л. Улицкой. Поэтому и возникает устойчивое понятие «Медея и ее дети», даже бухточки на побережье называют Медеиными.
Л. Улицкая обыгрывает семантику дома, его символическое значение. Стоящий на самом краю поселка дом Медеи становится не только местом весенне-летнего пребывания («гощения») бесчисленных разнонациональных потомков ее сестер и братьев, но и своего рода «семейной Меккой», местом очищения, а сама Медея приобретает черты доброго гения, охраняющего это место (история отношений с Равилем). С помощью ремарок автор создает оппозицию свой/чужой, расширяя пространство, центром которого является уже не конкретный дом, а то место, где живут персонажи.
В каждом образе прослеживается мифологическая составляющая: скажем, девятилетний цикл обновления обозначен в судьбе Маши, дочери Сергея, сына младшей Синопли – Александры. Все ее изменения происходят с определенной регулярностью: в семь лет героиня потеряла родителей, в шестнадцать в первый раз влюбилась, в двадцать пять сошлась с красавцем-обольстителем.
Нередки и прямые аллюзии на Библию («Был Самуил сыном вдовы») и европейскую античность. Л. Улицкая создает многоуровневый аллюзивный ряд – от портрета героини с «древнегреческим профилем на фоне беленой стены» до ренессансного осознания мира как театра («тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории»).
Создавая не только авторские мифы, но и пересказывая некоторые мифологические сюжеты, писательница часто «разыгрывает» повторяющиеся мотивы. Л. Улицкая полагает, что «любовь, измена, ревность, самоубийство на любовной почве – все это вещи такие же древние, как сам человек».
Судьба Броньки, героини одноименного рассказа, раскрывается через мотив «непорочного зачатия»: «все сыновья как на подбор, одинаковые, ладненькие и ниоткуда», «и были они ровные, как дети одного отца». В иронической форме тот же мотив обыгрывается в истории Александры, сестры Медеи. Тайна рождения раскрывается опосредованно, через найденное после смерти героя письмо.
Организация текстового пространства повести «Веселые похороны» (2001) начинается с названия, построенного на парафразе и контрасте. Его значение раскрывается только в конце, когда на похоронах собравшиеся родственники и друзья слушают последнюю запись главного героя. Лейтмотивом повести можно считать слова молитвы «смертью смерть поправ».
Последовательный рассказ о болезни и уходе героя из жизни позволяет провести аналогию с повестью Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886). Только повествование Л. Улицкой более обобщенное, предстоящий уход героя показан и через авторское описание, и через воспоминания, сны, разговоры, несобственно-прямую речь других действующих лиц. В интервью с А. Гостевой писательница отмечает, что не побоялась ввести тему смерти, в некотором роде табуированную для западной литературы и открытую для русской культуры в связи с тем, что «смерть – одна из важнейших точек каждой жизни».
Местом действия повести становится Нью-Йорк, русская диаспора, поскольку эмиграция – «такое место, где все обостряется: характер, болезни, отношения». Введены и некоторые факты из жизни автора: «История Алика – история моей жизни. Даже не одна, а несколько. И она могла происходить в России. Очень похоже, но все-таки по-другому». «Инакость» жизни в эмиграции заключается для Л. Улицкой в том, что там возникают необычные коллизии и состояния, которые она увлеченно исследует.
Вначале все происходящее воспринимается «как маленький сумасшедший дом». Вокруг героя закручивается множество историй, причем сюжетно их ничто не объединяет. Используя принцип эссеистической организации, писательница сводит романное начало к минимуму. Рассказы просто разворачиваются один за другим. Чтобы читатель не утратил интереса к происходящему, Л. Улицкая использует элемент тайны (загадку дочери художника Ани), которая разрешается только в самом конце.
Портретная характеристика персонажей строится на их несоответствии окружающему миру, которое автор подчеркивает с помощью эпитетов: «Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием». Первоначальное определение «малиновая, дымящаяся» усиливается: «А Марья Игнатьевна взялась за чайник. Она была единственным человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский, ледяной, а русский, горячий, с сахаром и вареньем».
Роман «Казус Кукоцкого» также собирается из историй персонажей, но все они связаны с главным героем, врачом Кукоцким. Его фамилия символична, она вызывает ассоциации со знаменитым хирургом С.И. Спасокукоцким (1870-1943). Подчеркивая, что герой, носящий такую фамилию, никем, кроме врача, быть не может, автор наделяет его своеобразным мистическим знанием, способностью предвидеть болезни.
Общаясь с главным героем, остальные персонажи добавляют новые подробности к его биографии. Сюжетные линии, таким образом, фокусируются. Герои знают о себе не всю правду, она известна только автору и читателю, который становится не только собеседником и двойником автора, но в ряде случаев и повествователем. Л. Улицкая соединяет в одном романе несколько жанровых моделей: хроники (история рода Кукоцких), романа тайны (история домработницы Кукоцкого), исповеди (рассказы от лица героинь).
Как и в других произведениях, выявляется отношение героев ко времени, собственно фабульные координаты не имеют особого значения, поэтому иногда создается ощущение, что время не движется, «стоит» на месте. Даже отсутствие ощущения себя во времени становится косвенной характеристикой (описания Елены Георгиевны). Время останавливается на старом кладбище для Тани, вне времени существует после смерти любовницы Сергей.
Как обычно, повествование в романе Л. Улицкой развивается ассоциативно-хронологически. Пространство его расширяется за счет внесюжетных вставок, в том числе дневника одной из героинь, ее записок, обращенных к дочери. Их появление не случайно. Как потом выяснится, из-за пережитых событий и болезни героиня замыкается в собственном мире, прошлое же проясняется в основном в данных записях.
Название романа «Искренне Ваш Шурик» (2004) можно считать симптоматичным. Им автор обозначает позицию главного героя (как отмечает одна из его женщин: «В нем есть что-то особенное – он как будто немного святой»). Многие его считают чудаком, человеком не от мира сего.
Вторая линия связана с описанием Москвы конца 1970-х, любовно, подробно и ностальгически воссозданной автором. Этот мир держится на представителях старой интеллигенции, доминантные свойства которых и передает нам автор. Шурик является их потомком, несет в себе те качества, которые в сегодняшнем мире отсутствуют. Некоторые критики называли роман семейной сагой, а мир Шурика и его близких – родовым гнездом. Сохранилось и традиционное для Л. Улицкой переплетение лирической, трагической, иронической и мифологической составляющих.
Следующий роман Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» (2006) вызывал неодноначные оценки. Одни сочли его слишком сложным, даже заумным, сравнивая с богословским трактатом, другие увидели в нем блестящую авторскую игру, переплетение нескольких составляющих, которые раскрывают непростую судьбу главного героя. Думается, что истина, как обычно, лежит посредине. Прототипом главного героя стал монах-кармелит Даниэль Руфайзен, известный своим милосердием, желанием помочь ближнему в сложных и непростых исторических событиях Второй мировой войны. Однако Л. Улицкая придает своему герою эпический масштаб, намекая его фамилией (Штайн – камень) на святого Петра, второй намек – основание им церкви святого Иакова (как известно, св. Петр был основателем католической церкви и первым папой).
Но история основания церкви представляет лишь очередной элемент игры, главное – воссоздание человека. Автор выстраивает сюжет по модели агиографической прозы, рассказывая о многотрудной жизни своего героя. Повествование образуется полифонией дневниковых и магнитных записей, писем, докладных записок в вышестоящие органы и выдержек из туристических путеводителей.
Современному читателю непросто дается восприятие давно прошедших событий, особенно таких сложных и неоднозначных, как Вторая мировая война, религиозные противостояния, показанные через призму человеческих судеб. Частная жизнь героя Л. Улицкой отразила судьбы нескольких народов. Еврейская тема подается как проблема общечеловеческих ценностей, речь скорее идет о христианстве и символах веры. Эпистолярная форма используется как способ выражения собственных взглядов (публикации ее современных писем).
К общим особенностям прозы Л. Улицкой следует отнести умение составить сложный политекст, в котором переплетаются обыденные события, описания жесткой и трагической реальности, сны и миражи (видения). Создается ощущение, что автор стремится передать героям свою жизненную психологию: умение любить жизнь как праздник, предвкушать радость, искать в обыденном необыкновенное. За частной историей встает общая, трагическая история всей страны. От читателя требуется только умение «читать между строк». И тогда ему открывается трагизм типа замечания о бежавшей в Россию польской коммунистке: «Ей не удалось раствориться в миллионной стране, и она была человеколюбиво сослана в Казахстан, где, промыкавшись горько десять лет, но не утратив возвышенных, безумных идеалов, умерла» («Сонечка»).
Отдельные авторские наблюдения соединяются в единую панораму, поскольку Л. Улицкая широко использует интертекст, скрытые цитаты из других текстов, выстраивает повествование по законам мифопоэтического пространства. Так, в рассказе «Конец сюжета» из повести-цикла «Сквозная линия» включена строчка из «Божественной комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу.» Цитата служит средством оценки, расширяя круг авторских наблюдений. Интертекст присутствует и на мотивном уровне (в виде реминисценций) и качестве разнообразных языковых клише.
Действие в произведениях Л. Улицкой развивается медленно, кажется вязким и тягучим, поэтому именуется критиками «густым». Осложнение повествования происходит за счет многочисленных линий, разнообразных историй, вставных новелл. Динамика создается неожиданными поворотами сюжета, например открытием тайны жизни героев. Так, рассказ «Счастливые» построен на поэпизодном развитии действия, с использованием приема монтажа, в нем доминируют яркие слова-образы: «Все произошло мгновенно и напоминало плохой плакат – большой красно-синий мяч резко выкатило на середину дороги, за ним вылетел, как пущенный из рогатки мальчик, раздался скрежет тормозов чуть ли не единственной проехавшей за все воскресное утро машины».
Одновременно автор использует прием ретардации, повествование замедляется на кульминации, замедление усиливается цепочкой определений: «Мяч еще продолжал свое ленивое движение, успев пересечь дорогу грузовику и утратить к движению всякий интерес».
Отметим подбор эпитетов, выстраивающихся в своеобразные цепочки: «Была замухрышка на тонких ножках, рыжая, хмурая». Слово «рыжая» становится и атрибутивным признаком – обычно таких людей воспринимали как неординарных, наделенных особыми качествами. Не случаен и комментарий героини: «В те годы мы такой красоты не понимали». Рыжеволосые герои чаще всего являются и представителями творческих профессий.
Эпитеты, равно как и метафоры, можно считать своеобразной визитной карточкой писательницы: «жизнерадостное безвкусие», «оттенок вкусной грусти, с гримасой гордого достоинства», «изысканно восточный юноша», «мысли были большие, одутловатые, неповоротливые», «глухая мокрая осень», «ясноглазый трамвай». Увлеченность ими приводит к самоповторам. Одна и та же характеристика свойственна разным героям: «Бронька была и впрямь существом особенным, нездешним – с какой-то балетной летучей походкой, натянутым как тетива позвоночником и запрокинутой головой». И описание в «Медее и ее детях»: «Катя первой сняла тапочки и пошла к воде своей жеманной балетной походкой».
Автор в повествовании выступает как комментатор, интерпретатор и действующий герой. За ней всегда остается оценка, нередко прямая, однозначная, что отличает Л. Улицкую от Л. Петрушевской.
Чаще всего в прозе Л. Улицкой встречается несложная фраза, поэтому ее язык афористичен («душа, закаленная в тысячелетних огнях и водах диаспоры», «несколько не завершенное высшее образование»). Предложения, осложненные однородными членами, причастными и деепричастными оборотами, создают особую повествовательную интонацию: «Была середина мая, сезон только начинался, была холодная, не купальная пора, зато южная осень не огрубела, не выцвела, а утра были такие ясные и чистые, что с первого дня, когда Женя случайно просыпалась на рассвете, она не пропустила ни одного восхода солнца, ежедневного спектакля, о котором она прежде и не слыхивала» («Диана»). Назывные предложения, инверсии, глаголы состояния усиливают впечатление от переживаний героя: «Все. Конец. Сюжета. Он понял. Ужаснулся. Расхохотался. Выразил желание взглянуть на девочку, раскатавшую с ним умозрительный роман.» («Конец романа»).
Концентрируя внимание на героях, которые видят смысл своей жизни не в служении обществу, а в обретении личного счастья и семейного благополучия, Л. Улицкая позволила критикам отнести свои произведения к «неосентиментализму», или «новой сентиментальности». Возвышенные страсти и отношения говорят о ее следовании традициям романтизма и расхождении с постмодернистской литературой. Однако отдельные приемы художественной изобретательности (использование разговорной лексики, некоторая натуралистичность и даже физиологичность) определяют Л. Улицкую как писателя своего времени, сформировавшегося к концу XX в.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в настоящем пособии явления позволяют прийти к следующим выводам. Резко меняется содержание современной литературы, авторы фиксируют внимание на разнообразных явлениях повседневной реальности. Критика отмечает нарочито натуралистическое, излишне детальное изображение конкретной реальности. Конфликтные ситуации нарочито утрируются, гротескно заостряются, что приводит к введению условных, фантасмагорических элементов. Нередко вводятся документы, стихотворные фрагменты, используются элементы других форм искусства (кинематографическая или музыкальная составляющие текста).
Отвечая на вопрос о «взрыве современной русской мемуаристики» и возможном собственном обращении к воспоминаниям, Д. Рубина пишет, что «это вполне естественное явление – появление автобиографической составляющей в текстах и обращение к собственному прошлому». Ушла целая империя, советская страна, гигантский материк со всеми ее составляющими: идеологией, историей, особым языком, законами, культурой и литературой. Стремясь оставить свидетельства этой эпохи, авторы избирают эпистолярную форму. Появляются «романы в письмах»: Л. Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик»; А. Слаповский «Победительница»; Д. Липскеров «Леонид обязательно умрет». Это произведения разного художественного достоинства, но прием воспоминаний явственно становится доминантным. Не случайно перенесение блоговских дневников в текстовый вариант и популярность такого образования у читателей (Е. Гришковец «Год Жжизни» и его продолжение).
Столь разнообразные составляющие обусловливают иное построение текстов, скрепляющихся авторскими рассуждениями, многообразными отступлениями или просто внесюжетными элементами. Однако далеко не всегда дается объяснение происходящего, и тогда сюжет выстраивается по сериальному принципу, из отдельных блоков, в каждом из которых представляется своя история.
Трудно говорить о конкретной форме, границы между отдельными жанровыми образованиями размываются, например, форма социально-психологического романа нередко становится основой, в которую вплетаются и детективный, и любовный, и фантастический сюжеты. Кажется, что автор стремится выговориться, передать читателю информацию, не заботясь о развитии сюжета и героев. Поэтому нередко произведения даже у одного автора получаются похожими, создаются по однажды отработанной схеме и отличаются лишь временем действия и именами героев.
Встречается и другая крайность, когда придумывается лихая история, где отношения между героями не продуманы, не закончены, основываются на случайных связях и отношениях, нередко абсурдны и алогичны. А. Немзер определяет такой процесс как «вихляющую двусмысленность», полагая, что автор наслаивает одну потасовку на другую, увлекается описанием секса, рефлексии героев, стремясь выйти из сюжетной коллизии, поскольку нет четкой позиции автора, прописанной структуры. Причина в том, что писатели ориентируются на разного читателя, выбирающего текст по интересующей его проблематике; так появляются бизнес-романы и развивается глянцевый формат. Влияет на ситуацию и издательская политика, связанная с выпуском развлекательной литературы с доминанированием трех жанров – детектива, любовных романов и фантастики.
Вместе с тем именно издательская политика способствовала выпуску «возвращенной литературы», произведений писателей русской эмиграции. Происходит процесс своеобразного объединения русской литературы, вхождение ее в мировой контекст, развиваются связи писателей, пишущих на русском языке в разных странах.
Следование традиции приводит к возрождению отдельных форм: саги (семейного романа), воспоминаний, авантюрно-приключенческих произведений. Хотя продолжающаяся зависимость литературы от социальных и общественных событий особенным образом влияет на литературную ситуацию, приводит к появлению форм антиутопии, ретродетективов, исторических фантасмагорий.
Типы героев становятся разнообразнее, точная и детальная фиксация повседневности обусловила введение героев, максимально приближенных к читателю, границы между прототипом и персонажем оказались размытыми. Появились и представители социального дна, таким образом продолжилось изображение героев «маргинального типа», отмеченное в литературе предшествующих десятилетий. Практически героями произведений, носителями авторских идеалов становятся представители всех слоев общества – герои-мечтатели, супермены и даже представители неформальных кругов.
Ностальгия писателей по героическому характеру и целостному мировосприятию приводит к появлению современного героя-победителя в противовес моделям героя-жертвы, доминировавшим в прозе «новой волны» и произведениях 70-80-х годов. Такой персонаж появляется и в массовой литературе, представляющей свою версию отечественного супергероя – борца со злом и хаосом. Отходит на второй план отношение героев к работе, производственным процессам. Они имеют значение только как одна из сторон характеристики персонажей, становясь своеобразным атрибутивным признаком, помогающим обозначить социальные явления, присутствуют в повествовании как время и место действия. Появляются «непарадные» персонажи. Правда, авторская рефлексия минимальна, поэтому редко появляются качественные описания переживаний героя.
Отметим, что литература постепенно начала возвращаться к реалистической конструкции, пусть весьма своеобразно, осуществляя более свободно стилевой поиск, синтезируя разные жанры, уходя в подсознание, сны. Иногда реальность предстает и в виде игровой ситуации, «чужого текста» («интертекста»). Широко используются модели культуры разного времени, например, мифа (чаще космогонического и эсхатологического), предания или легенды.
Новые отношения обусловили смену языковой парадигмы, вводятся слова разные по происхождению, в том числе разговорная, просторечная, вульгарная лексика. Раньше подобный словарный состав позволял дифференцировать героев, служил средством психологической характеристики, теперь чаще используется как одна из форм авторской оценки. Среди других языковых особенностей отметим частое использование устойчивых словосочетаний (в виде клише): мифологических выражений, библеизмов, скрытых цитат. Стремясь отразить сознание и подсознание героев, авторы нередко используют тяжелый, вязкий стиль, отсюда обилие определений, метафор, символов.
Точная принадлежность к той или иной литературной школе или направлению становятся вовсе необязательными. Заметен синтез как форм, так и внутренних структур, сходный с тем процессом, который происходил в литературе в начале ХХ в. Однако в отличие от такого цельного явления, как модернизм, постмодернистские произведения разнородны по своим общим особенностям, скорее следует говорить о некоем культурном феномене.
Приход молодых авторов объясняется строго прагматически: благодаря издательской (редакторской) политике, из Сети, по рекомендациям. О последнем факторе пишет, например, А. Снегирев (Александр Владимирович, р. 1980), чей роман «Нефтяная Венера» стал финалистом премии «Национальный бестселлер» (2008): «Фактор рекомендации на первых порах очень важен, издательства завалены рукописями графоманов и с большой опаской относятся к новичкам».
Анализ прозы последнего десятилетия ХХ в. позволяет заключить, что в русской литературе данного периода отразилась смена культурных парадигм, но точка перелома уже пройдена. Если в работах конца 80-х – начала 90-х годов звучала мысль о потере самого смысла существования литературы, то теперь картина иная: литература постепенно обретает свое положение в системе современной культуры.
Раньше литература существовала в жестких рамках стереотипов, теперь вступают (и во многом уже вступили в действие) иные факторы, определяющие ее развитие. Литература последнего десятилетия ХХ в. представляет собой не единое целое, а совокупность нескольких векторов поисков.
Пока контуры новой художественной целостности еще не определены, но общая тенденция очевидна. Она связана с отходом от старых парадигм, причем не только соцреализма, но и от диссидентства. Следует говорить о создании литературы, стремящейся отобразить в разных формах современную реальность, вывести некоторые общие закономерности и представить авторскую, а не официальную точку зрения.
В центре данной системы не традиционная иерархия жанров, а такие полистилистические образования, как метапроза, воспоминания писателей. Прежние определения, связанные с выделением направлений, таких как «фантастика», «деревенская проза», «деревенская литература», «женская» проза, отражают содержательную сторону, но не связаны с литературоведческой классификацией. Этот процесс только начинается в трудах исследователей академических институтов.
В настоящем пособии предпринята попытка описания явления, но не его теоретического обоснования. В целом литературный процесс находится в центре пристального внимания исследователей. Следует отметить выход монографий М. Абашевой, М. Звягиной, М. Липовецкого, А. Мережинской; пособий О. Богдановой, Г. Нефагиной, Ю. Минералова, И. Скоропановой и ряда других авторов, публикации в виде самостоятельных сборников статей, выходивших ранее в периодических изданиях (А. Архангельского, В. Курицына, А. Немзера). Авторы пособия предлагают свой взгляд на проблемы литературы «переходного периода».
Создание законченной истории литературы осложняется тем, что, к сожалению, полной литературной хроники ХХ столетия пока не существует, хотя она просто необходима. Появляются произведения как созданные в данное десятилетие, так и написанные ранее. Отсюда возникают сложности в датировке, иногда приходится обозначать произведения двумя датами, временем написания и временем публикации или републикации. Другая задача связана с выработкой новых критериев описания и обобщения материала.
Возник новый инструментарий описания литературного процесса, обусловленный использованием материалов, которые раньше не становились объектом научной рефлексии. Это интервью, презентации, колонки, репортажи, сообщения о премиях. Одна из подобных методик представлена в пособии «Русская проза XXI в. в критике: рефлексия, оценки, методика описания» (авторы Т.М. Колядич, Ф. С. Капица).
Сочетание критических и внелитературных форм презентации литературного процесса связано прежде всего с его увеличившимся объемом. Каждый критик охватывает пул примерно в 100-200 имен, при этом никто не скрывает своих пристрастий. Хотя и говорят об обслуживающем характере публикаций, все же усиление роли обозревателей позволяет отследить повторяющиеся имена и, следовательно, провести отбор. Теперь впереди переход к качеству; как нам кажется, он связан с появлением новых публицистических изданий и оперативностью откликов.
Ограниченные объемы пособия не позволили раскрыть ряд проблем. Конечно, в дальнейшем, после выхода академических исследований, посвященных литературному процессу XX в., некоторые положения скорректируются и уточнятся.
Интересно проследить и движение отдельных направлений, скажем, развитие производственного романа, представленного именами, достаточно интересными по своему творческому почерку. В западной культуре очень популярны романы о разных профессиях, обычно они рассматриваются как одно из направлений «дамской прозы». Представляется возможным и дальнейший разговор о развитии некоторых жанровых форм, например антиутопии, не случайно к ней обращаются практически все поколения писателей (например, В. Аксенов, К. Букша, О. Славникова).
Отдельного разговора заслуживает также малая форма – небольшие рассказы, эссе, лирические миниатюры. Практически это самостоятельный культурный слой, служащий основанием для общего культурного пространства. Ощущая эту тенденцию, издатели начали публикацию разнообразных антологий.
Получение дополнительных статистических данных позволит повести обстоятельный разговор о взаимоотношениях автора и читателя, современного собеседника. Нельзя не исключать и роли многочисленных конференций (в том числе интернетовских), симпозиумов, форумов, радиобесед по проблемам литературы.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
Учебники, учебные пособия, хрестоматии[81]
Агеносов В. Литература русского зарубежья (1918-1996). М., 1998.
Богданова О. Ю. Современный литературный процесс. СПб., 2001.
Большев А., Васильева О. Современная русская литература (197090-е годы). СПб., 2000.
Вегеманс Э. Русская литература от Петра Великого до наших дней. М., 2002.
Геопанорама русской культуры: провинция и ее локальные тексты / Отв. ред. Л. О. Зайонц; Сост. В.В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. М.: Языки русской культуры, 2004.
Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века (1920-1990-е годы). М., Академия, 2008.
Глинтерщик Р. Очерки новейшей русской литературы: Постмодернизм. Вильнюс, 1996.
Гордович К. История отечественной литературы ХХ века. СПб., 2000.
Забайкалов Л., Шапинский В. Постмодернизм: Учеб. пособие. М., 1993.
Заманская В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века: Диалоги на границах столетий. М., 2002.
Колядич Т.М., Капица Ф.С. Русская проза XXI века в критике. Рефлексии. Оценки. Методика описания. М., 2010.
Ланин Б. Проза русской эмиграции (Третья волна). М., 1997.
Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: В 3 кн. М., 2001.
Литература русского зарубежья (1920-1990) / Под ред. А. Смирновой. М., 2006.
Массовая культура: современные западные исследования / Отв. ред. и предисл. В.В. Зверевой; Посл. В.А. Подороги. М., 2005.
Минералов Ю. История русской литературы: 90-е годы ХХ века. М., 2002.
Нефагина Г. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х годов ХХ века. Минск, 1998.
Огрызко В. Изборник. Материалы к словарю русских писателей конца XX – начала XXI века. М.: Литературная Россия, 2003.
Огрызко В. Кто делает литературу в России. Вып. 1: Современные русские писатели. М., 2006.
Огрызко В. Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон. М., 2004. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в.) / Науч. редактор С.И. Тимина. СПб., 2005.
Современная русская литература (конец XX – начало XXI века): Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост. И. Скоропанова, С. Гончарова-Грабовская. М., 2002.