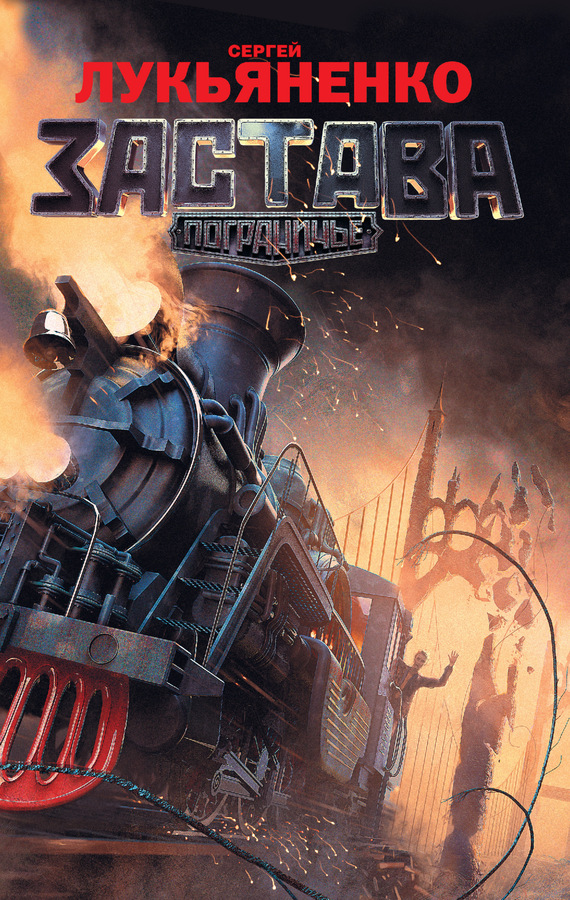Детство 45-53: а завтра будет счастье Улицкая Людмила

Анна Сальникова
Сбежать с уроков
В нашей школе было шесть десятых классов. Надо заметить, что в те годы школы были раздельными: мужские и женские. В старших классах обучение было платным, но дети военных и дети инвалидов учились бесплатно. Я относилась к одной из этих категорий. Я училась в 10 «А» классе. До сих пор не могу вспомнить, чтобы какой-то класс был «плохим» или «хорошим». Но позже, из уст учителей, мы узнали, что наш класс был самый лучший и по успеваемости, и по дисциплине. Пока… мы не выкинули нечто из ряда вон выходящее. Я и сейчас не могу понять, как это мы отчаялись на такое?
30 апреля 1955 года. Мы отсидели 2 или 3 урока, и вдруг по классу пронеслось: сбежать с уроков. Нет, это было произнесено не вслух, а как-то так, потихоньку, как бы между прочим. И все дружно поддержали. И через запасной ход все до единого вышли и растворились кто куда.
Дома надо было помыть полы перед Великим Первомаем. Прежде чем мыть полы, обычно наводишь «лоск» по мелочам. Я протирала каждый лист огромного цветка – фикуса, когда вдруг вбегает одноклассница и, задохнувшись то ли от бега, то ли от предстоящего ужаса, сообщает, что мы должны «срочно собраться в школе». Так, по цепочке, обегая друг друга, стали собираться мы в школе. А школа была далековато. На сборы ушло около часа.
Явка была сто процентов, то есть пришли абсолютно все. Нас закрыли в каком-то кабинете, продержали часа два, затем стали спрашивать: кто был инициатором побега «в канун Первомая»? Все молчали. Раз не нашлось виновника, то нас продержали еще два часа. Здесь мы и сами заинтересовались: «А действительно, кому это пришло в голову?» Но молчание продолжалось. И тогда стали вести опрос каждого под «честное комсомольское», а для «беспартийных» под «честное слово». Все как один произнесли эти слова, равнозначные КЛЯТВЕ! «Нет, значит, виновника?! Сидите еще час!» Мы уже не рады были побегу, так как почувствовали, что время потеряли больше, чем если бы отсидели все уроки по-честному. Чувствовалось внутреннее недоумение, но никто не наезжал друг на друга. Молчали «как партизаны». Так ничего не выбив из нас, отпустили домой.
Родителей не вызывали в школу. Шума в школе не поднимали. Но мы долго сами все интересовались: кто же подал такую идею? И лишь несколько дней спустя оказалось, что одна ученица в шутку кому-то предложила: «…А давайте сбежим с уроков».
Так «шутка» стала явью. Но какая была СОЛИДАРНОСТЬ!!! Если вспомнить, какие это были времена, то это выглядело святотатством в КАНУН 1 МАЯ!!! Преступление!!!
Но все обошлось. Видимо, решили не выносить сор из избы?
Аркадий Мильковицкий
Независимый пацан
Я почти все лето провел у бабушки в Моспино. (Небольшой шахтерский городок Моспино, по железной дороге недалеко, где-то не больше двадцати километров, от столицы Донбасса г. Сталино. Там у бабуси был свой маленький домик и садик. Там – моя Родина, я там родился.) И именно сегодня бабушка (Стрельцова Вера Назаровна) привезла меня домой, в город. И вот только сегодня я узнал от нее, что, оказывается, меня зачислили в первый класс мужской средней школы № 1. По дороге домой мы сначала зашли в парикмахерскую, где меня постригли наголо, под машинку. Мне, конечно, очень жаль было своих выгоревших на солнце светло-русых волос, которые мамочка все пыталась закрутить на папильотки, чтобы эти жалкие волосенки казались хоть немного кудрявей и пушистей. Но ни моя вдруг образовавшаяся безволосая, лысая головешка и ни сама эта унизительная процедура (отсечение волос от головы) не смогли омрачить мою радость. Ведь если человека принимают в школу, значит, он уже не какая-нибудь там маленькая детка, не черт знает что и сбоку бантик, а – УЧЕНИК! УЧАЩИЙСЯ! Можно сказать, – ШКОЛЬНИК! Да! Стало быть, подрос, созрел, как физически, так и вообще… Теперь, наконец, я – такой же, как и они, эти мальчишки с нашего двора, которые вечно не пускают меня в свою компанию. Вот, брательнику моему почему-то можно, а мне – уже нельзя! Только потому, что он родился до войны, а меня угораздило появиться на свет в самый разгар оккупации. И вот странно, почему так? Наш двор, почти в самом центре города, прямо возле оперного театра, с трех сторон огороженный огромными домами, – наверное, самый большой в городе, а пацанов, моих сверстников, – раз, два и обчелся. Старше – есть! Младше – есть! А таких, как я, – и вовсе нет! А девчонок – навалом!
Чуть что, сразу…
– …Маленький ишо! Понял? Маленький, тебе горрят. И чеши отсюдыва! Понял? Катись колбаской по Малой Спасской, пока цел! – И камнями в мою сторону. Чтоб не бегал за ними.
– Пшел! Без сопливых обойдемси! Во как дам щас по кумполу, своих не узнаешь! Шмакодявка!
А чем я хуже? Чем? Ну, теперь-то я имею полное право… Пусть только попробуют!..
Я очень рад, что я уже в городе. Но пока всем домашним не до меня, мне не терпится как можно быстрее смыться из дому, обрадовать народ своим приездом. Сегодня, как только мы с бабушкой вошли во двор, я сразу заметил, что недалеко от нашего подъезда появилась огромная куча свежего песка, и в ней копошилась целая орава детей, от мала до велика. Мне как-то сразу захотелось, чтобы вся детвора нашего двора полюбовалась мною, чтобы все заметили, как я подрос, как я окреп, как я загорел, каким я стал красивым и, в общем, взрослым.
Для солидности я надеваю (естественно, без спроса) здоровенные трусы моего старшего брата. Они мне по колено и очень широкие, но, чтобы не спадали, я вытаскиваю из них край резинки, и, как делала в таких случаях моя бабушка, сокращаю длину ее простым узлом. Сверху напяливаю на себя майку (с того же плеча), все вырезы которой мне до пояса. Пояс, то есть резинку трусов, я спускаю намного ниже пупа, до предельного уровня, чтобы трусы закрывали мои некрасивые коленки, отмеченные, как всегда, бриллиантовой зеленью или йодом. И вот уже в зеркале отражается не хлюпик какой-то, не маменькин сыночек, а вполне самостоятельный, независимый пацан, в сандалиях на босу ногу, сияющий своей отвратительной, совершенно незагорелой макушкой. И выглядит он, по моим тогдашним представлениям, вполне достойно.
Я кричу маме, чтоб закрыли за мной дверь, и, проходя мимо вешалки, беру из отделения для зонтов свою заветную палочку, точнее – тоненькую, но упругую трость, без которой я на улицу давно уже не хожу.
Вячеслав Ищенко
Полинушка
Невероятно, но факт: в те годы в Гурьеве, как мне сейчас представляется, не было плохих людей! Полагаю, что так же думают все, кто помнит то время. Никогда я не слышал, чтобы взрослые кого-либо ругали или устраивали скандалы при детях. Наверное, доброты требовало само время. Война и первые годы после ее окончания были временем неслыханного ни до, ни после человеческого братства, взаимного внимания и взаи– мопомощи.
Да, помню, как со страхом говорили о бандитах, о «черной кошке», как запирались на все засовы, но соседи, друзья, знакомые сплошь были настоящими и верными товарищами моих родителей.
Впрочем, нет. Были редкие исключения. Об одном из них придется рассказать. Это была, как ни странно, моя первая учительница. Не помню ее фамилии, и даже отчество забылось. Но имя осталось в памяти – Полина.
Это была уже совсем немолодая, очень строгая женщина с морщинистым лицом и косами вокруг головы. Мать привела меня к ней в первый класс в 1947 году. Первого сентября мы шли по городу и, не дойдя до школы, увидели толпу. Люди обступили лежащего на земле мальчика. Это был нищий оборвыш дошкольного возраста. В момент, когда подошли мы, над ним уже склонилась врач из стоявшей неподалеку машины. Причем малыш продолжал лежать на сырой земле. Под ним была лужица – мальчик описался. Потом его взяли на руки и понесли к машине. Мне было страшно расспрашивать о нем матушку. Так я и не знаю, что случилось с тем малышом. Может быть, у него был голодный обморок. А возможно, он просто спал. Но почему прямо на дороге?
Это было 1 сентября 1947 года, в мой первый школьный день. Случай с мальчиком, потерявшим сознание, каким-то непостижимым образом сказался потом на моем представлении о школе. Если сказать просто, школу я недолюбливал.
К тому же учительница наша, Полина (условно говоря – Александровна), буквально с первого же дня проявила ко мне некий повышенный интерес. Она приходила к нам домой, разговаривала с моей матушкой, что-то говорила ей о моем неадекватном поведении. К чести моей матери, критика со стороны Полины Александровны никак не отражалась на мне дома, в семье. Мать мне попросту ничего не говорила про то, что ей рассказывала пожилая учительница.
Однажды во время одной из бесед с моей матерью Полина Александровна потребовала, чтобы я предстал перед нею. Меня позвали со двора. Я зашел и встал чуть поодаль, у порога.
– Подойди ближе, – строго сказала Полина Александровна.
Я подошел.
– Еще ближе, – повелела учительница.
Мне пришлось приблизиться почти вплотную к «Полинушке», как я ее звал про себя. При этом, видимо от волнения, я оперся руками в бока.
– Ты что, танцевать собрался?! – закричала на меня Полина Александровна. – Опусти сейчас же руки.
Что мне оставалось делать? Опустил, конечно. Полина Александровна меня крепенько поругала. Кажется, речь шла в основном о том, что я неаккуратно пишу палочки и крючки в тетрадях. О буквах тогда не было и речи, ведь шла первая четверть первого класса. Но буквы я уже давно знал, и поэтому крючки мне были неинтересны.
Помню, как она ставила меня на колени перед всем классом. Стоять было жестко. Спасибо еще за то, что соли не посыпала на пол. Говорили, что такое раньше она практиковала. Ну не нравился я ей, бедняге, и все тут. Ничего не поделаешь.
Прошло несколько дней. Полина Александровна потребовала, чтобы мой отец обеспечил весь класс новенькими букварями. Эта просьба была выполнена. Дело в том, что отец работал председателем Облрыболовпотребсоюза и буквари он достал по своим каналам. Хотя это было тогда нелегко даже для него.
Еще спустя какое-то время Полина Александровна (может, она и впрямь была Александровной по отчеству?) подозвала меня к своему столу и сказала буквально следующее:
– Передай отцу, чтобы приготовил мне картошки, капусты и других овощей. И фрукты, какие возможно. Я приеду за ними завтра вечером.
Я передал все слово в слово матери.
И вот наступил вечер следующего дня, когда Полина Александровна на подводе (!) приехала к нашему дому. Навстречу ей вышла моя мать и так ее пристыдила, «спустила на нее таких чертей», как потом рассказывали очевидцы, что телега вместе с Полиной Александровной громко загрохотала по неровностям нашей улицы.
Мать возвратилась домой, где я тихо сидел на диване, ожидая финала. Она была разгоряченная, но явно довольная собой. В красках матушка рассказала, как «отшила эту нахалку», как буквально «показала ей от ворот крутой поворот».
Наивная Полина Александровна! Она-то думала, что дома у председателя крупной торговой организации целый склад всякой еды. А у нас, надо сказать, порой не было даже самого необходимого, например сахара. Кстати, в очередь за хлебом мы ходили так же, как и все остальные жители нашего двора.
С тех пор я у Полины Александровны не получал оценки выше тройки. Даже по пению и по рисованию, моим любимым предметам, где я считался очень способным, в табеле стояли тройки. Табель за год был коричневый, изготовленный, как ни странно, типографским способом на очень плохой бумаге, на которой просматривались даже деревянные частички.
Неудивительно, что родители перевели меня в другую школу, где я учился вполне прилично. А в третьем классе, уже в Доссоре, по итогам года был даже удостоен похвальной грамоты.
А Полина Александровна, которая жила недалеко от нас, вслед за тем моральным ударом, который на нее обрушила моя мать, пережила еще одно потрясение – ее дом сгорел. Я был на том пожаре среди множества зевак. Пожар случился, когда я учился уже в другой школе.
Мать говорила, что Полина Александровна была чуть ли не старейшей учительницей Гурьева. За успехи в народном просвещении вскоре после дикого случая с телегой ее наградили орденом Ленина. Я по радио слышал, когда диктор зачитывал Указ о ее награждении.
«Учительница первая моя» была, видимо, очень несчастным человеком. Я ее не боялся, но она сделала мне некую странную «прививку», вызвавшую детскую ненависть к школьным «угнетателям». Далеко не ко всем, конечно. В более старших классах это вылилось в упрямое стремление не повиноваться некоторым преподавателям во что бы то ни стало. По возможности делать многое вопреки тому, что они требовали. Иногда я их прерывал и бесцеремонно поправлял прямо во время урока.
По окончании седьмого класса, перед самым нашим отъездом из Казахстана в Мурманскую область, в соответствии с правилами того времени было необходимо взять в школе мое личное дело и получить характеристику от классного руководителя. Характеристика была ужасная: грубиян, хулиган, невоспитанный человек.
Моя матушка, царствие ей небесное, и в этот раз поступила не очень-то педагогично. Она пришла в школу, поругала учительницу и на ее глазах порвала написанную ею характеристику. Я был тут же, рядом. Мы повернулись и ушли. В Мурманской области, а точнее в поселке Ура-Губа, при поступлении в школу у меня характеристику никто не спросил.
Кажется, я и сейчас не полностью преодолел это странное свойство характера – поступать иррационально, в противовес тому, что принято и «как надо». Делать «назло». Конечно, не всем. Но в первую очередь – себе самому. Быть или, по крайней мере, казаться «плохим» мне хотелось еще очень долго. Даже в зрелые годы. Отличники, люди успешные, бодро шагающие от победы к победе, и сегодня мне в чем-то подозрительны. Жена квалифицирует это мое качество просто природной вредностью. Вероятно, она права.
Александр Никифоров
Богатырь
Я сижу в школьном классе и рисую. Но сижу не за партой, как все ученики, а за маленьким столиком, поставленным в сторонке специально для меня. Потому что мне четыре с половиной года, потому что идет война, потому что папа на фронте, а мы с мамой в эвакуации в городе Горьком и живем у родственников, а еще потому, что моя троюродная сестра Инна привела меня с собой в школу, где она учится, так как меня сегодня не с кем оставить дома.
Но это все неважно. А важно то, что я сижу и рисую богатыря. Я всегда рисую богатырей. Это самые сильные и смелые люди. Их никто никогда не победит. И еще они очень добрые – всегда защитят маленьких и слабых.
Все мои богатыри похожи на богатырей из книжки про Руслана и его невесту Людмилу. Я без конца могу разглядывать картинки из этой книжки. Поэтому всегда рисую богатырей. И всегда начинаю рисовать их с сапог. Сапоги у меня получаются точь-в-точь как настоящие. Я знаю, что голенища у сапог в самом низу надо рисовать «гармошечкой», поэтому в этих местах я вместо прямых линий старательно вывожу зигзаги.
Конечно, сапоги я размещаю в нижней части листа бумаги, так как после того, как я заканчиваю их рисовать, то начинаю постепенно пририсовывать к ним все остальное – штаны, кольчугу, бороду, шлем. В свою очередь появляются руки, а в них – щит и меч.
Сейчас я уже не смогу внятно объяснить эту особенность моего детского творчества. Но, очевидно, ребенок интуитивно чувствовал, что рисовать надо именно в такой последовательности. Теперь, прожив целую жизнь, в течение которой всегда надо было все и всем объяснять и за все постоянно оправдываться (из-за чего, кстати, становишься законченным демагогом), я бы стал рассуждать следующим образом: вот, мол, богатырь черпает силу от матушки-земли, а значит, он и начинаться должен от нее, и т. д. и т. п.
Возможно, большинство людей начинает рисовать богатыря с головы. И что? На некоторое время его голова как бы оказывается одиноко висящей в воздухе. Это лучше? Ну, не знаю, не знаю…
Итак, я сижу в классе и рисую богатыря. Сапоги уже почти готовы. Осталось только погуще зачернить голенище второго сапога.
– Ну, покажи, что ты там рисуешь? – раздался надо мной громкий голос. Я понял, что это подошла ко мне учительница, и немного отстранился от рисунка, давая возможность его получше разглядеть. Не поднимая головы, пробурчал, что рисую богатыря.
– Где же тут богатырь? Я вижу только сапоги! – недоуменно заявила учительница и, не дожидаясь моего ответа, вернулась к своим ученикам.
Я даже не поверил своим ушам. Что она сказала? Как это – «только сапоги»? Неужели не видно, что это начало богатыря? Разве этого может не понимать УЧИТЕЛЬНИЦА? Она что, сама никогда не рисовала богатырей?
Никто из взрослых еще меня так не обижал. Ну надо же: «только сапоги»! И это было сказано МНЕ, чьи рисунки всегда хвалили домашние, МНЕ, кто лучше всех приятелей с нашей Ремесленной улицы рисовал богатырей! Я сидел, переживая обиду, которая все разрасталась и разрасталась во мне. Казалось, я сейчас лопну от обиды. Моя голова все ниже опускалась над столом. Рисовать больше не хотелось ни капельки. Карандаш замер в руке, уткнувшись в одну точку, а потом и вовсе выпал из пальцев.
Не-е-е-т! Мне здесь больше делать было нечего! Отодвинув стул, я вылез из-за стола и выбежал из класса. На улице было тепло, все ходили без пальто, и я сразу выскочил на крыльцо. Скатился со ступенек и бросился прочь от школы. За мной с криком неслась Инна.
Дорогу домой я, конечно, не знал. Просто бежал, лишь бы оказаться подальше от школы. Поэтому, может быть, даже лучше, что десятилетние девочки бегают быстрее, чем мальчики, которым недавно исполнилось четыре с половиной года.
Вечером Инна с плачем заявила взрослым, что больше меня с собой в школу не возьмет, – столько стыда она натерпелась с «этим сумасшедшим». Больше я в этой школе не появлялся. Как-то все устроилось, к моему и Инниному удовольствию.
Я давно уже не рисую богатырей. Может, и напрасно. Но я уверен, что дети не перестают и не перестанут их рисовать, неважно, откуда начиная рисунок, с сапог или с головы. Ведь богатыри – это самые сильные и справедливые люди. Они всегда защитят маленьких и слабых.
Вячеслав Кабанов
Валентин Панкратьевич, необыкновенный директор
В шестом классе я стал погружаться в беспризорность. 6 «А» тоже походил на улицу, и в нашем классе появился Эрик Мазурин, взрослый человек. Высокий блондин с лицом нестрашным, он носил синий в полоску пиджак. В свои шестнадцать лет Эрик уже избрал профессию, а в школе уклонялся от тюрьмы. С иными одноклассниками он изредка здоровался – несильным шлепком ладони по щеке. Уроки английского занимали Эрика более других, он смотрел на Веру Михайловну с большим интересом и невпопад произносил какие-нибудь два слова, неясные по смыслу. Вера Михайловна сбивалась с английской речи и предлагала Эрику выйти из класса. На это Эрик отвечал:
– Но я красив и молод!
Я отворил дверь класса и столкнулся с Эриком. Он поднял руку для приветствия, а я отпрянул и стукнулся виском о косяк. Ничего не случилось, но меня обступили и повели в медпункт. Потом отправили домой с провожатым.
Назавтра меня допрашивал директор, желая сбыть Эрика в тюрьму:
– За что он тебя ударил?
– Он не ударил.
– Как не ударил! У тебя сотрясение мозга.
– Я сам ударился.
– Все видели, что он тебя ударил.
– Да нет… Он просто… Он всегда так…
– Бьет?
– Да нет…
Не знал я, как сказать. Директор же так понимал, что я отмазываю Эрика из страха перед ним, и дожимал. Но я ведь правду говорил. Ведь Эрик никого не бил. В его шлепках была доброжелательность. И я не мог сказать неправду.
А Эрика из школы удалили, и он предался воровскому делу, пока не пропал совсем. Я же вовсе перестал учиться, и мой табель наполнился двойками. Избыток их меня нервировал, я начал двоечки стирать красным ластиком, но советские чернила были лучшими в мире, и на месте двоек получались дырки.
За прогулы меня отконвоировали в кабинет директора. И тут уж о директоре самое время сказать особо.
Валентин Панкратьевич Мясин, директор наш, был личностью весьма необыкновенной. На иных директоров или учителей никак не походил. До него был Исаак Лазаревич, и он был директор как директор – седой и в шинели. А Валентин Панкратьевич явился – строен, высок, стремителен, бел лицом и черен волосом, бегущим легкими волнами по разным сторонам прорезанного бритвою пробора. Он облачал себя в костюмы невиданной доселе красоты и свежести. Но главное – лицо.
Если кто-то видел в телевизоре английского Шерлока Холмса, то могут себе представить Валентина Панкратьевича. Только лицо у него было еще резче, асимметричнее и дьяволоподобней. Ну а в глазах играла адская веселость. Говорили, что до школы он служил не знаю кем в стране Албании.
Директор посадил меня на стул, спросил про мать. Я ответил.
– Отец?
– Нету.
– А где он?
– Не знаю.
– Но он был?
– Нет.
– Как это… Он что… погиб на фронте?
– Нет.
– А где же он?!
– Нету.
Валентин Панкратьевич задумался. Он сидел спиной к окну, лицо его было в тени, и сквозь хрящеватые раскинутые уши просвечивало солнце.
– Он что, репрессирован?
Вопроса я не понял.
– А мать что говорит?
– Ничего.
– Но ты у матери спрашивал?
– Не спрашивал.
– Но почему?!
Я чуть пожал одним плечом, а Валентин Панкратьевич немного похрустел ушами.
– Ну хорошо, посмотрим табель…
Солнце ушло, и лицо директора стало виднее. Брови его взлетели.
– Это что?! Кто стирал?! Ты?!
– Я.
– А ты знаешь, что табель – это государственный документ? Знаешь, что бывает за подделку государственных документов? Под суд пойдешь!
Не помню, чтобы я перепугался. Мне скучно было, и я хотел на улицу, на волю. Не знаю, вызывал ли директор мою маму, а если вызывал, ходила ли она… Мама не любила, когда ее куда-то вызывали.
Не сразу, но в седьмой класс я все же перешел, а семилетка считалась тогда вполне достаточным образованием – неполным средним. Поэтому директор Валентин Панкратьевич стал терпеливо ждать начала лета, когда мы с ним расстанемся навеки. Однако час настал, и он прочитал мое заявление.
– Что?! Кабанов – в восьмой класс?!
Но он же ведь не знал, что я из хорошей семьи, где не то что десятилетка, а даже институт считался обязательным. В восьмой класс я все-таки пришел, и тут что-то со мной случилось. Вернее, Вовка Митрошин меня надоумил. Он способ изобрел, как прилично учиться без мук. И я перенял этот способ. Благо у нас была вторая смена.
Часам к двенадцати ночи, когда все в доме засыпали, я садился к столу, засветив несильную лампу, и делал все уроки… Ну, почти все. Конечно, для этого пришлось записывать домашние задания, чего я прежде не имел в привычке. На все мои уроки уходило два часа. Потом я ложился и спал сколько хотел, иногда до самой школы.
Зато за партой я испытывал блаженство. Мог слушать ход урока, мог думать о своем, читать, беседовать с соседом… Я был свободным человеком, готовым отстоять свою свободу ответом на любой вопрос. Но объяснение нового старался слушать, поскольку это упрощало домашнюю работу, а по устным предметам и вовсе ее отменяло.
Только урок истории вводил мою свободу в рамки, потому что историю преподавал сам директор. Он вынудил нас иметь тетради по истории, и в ходе урока приходилось все время что-то писать: то план, то даты, то вопросы, то выводы, а в завершение каждой темы Валентин Панкратьевич торжественно и грозно нам диктовал высказывания на этот счет самого товарища Сталина и предлагал потом эту запись заключить в красную рамку или же всю ее подчеркнуть красным.
Валентин Панкратьевич Мясин не дождался, пока мы окончим школу. Почему и куда он ушел, я не знаю. Это был исторический 1954–1955-й – послесталинский – учебный год. Похоже, что историк наш попал под колесо истории. Уже обозначился слом, и первые ученики сталинских университетов иной раз из гнезда выпадали. Но первая четверть десятого класса прошла еще при нем. Школа перестала быть мужской, и в каждом коридоре из двух уборных осталась нам одна. Но десятые классы не воссоединили. На первой же встрече с директором этот вопрос прозвучал. И Валентин Панкратьевич ответил:
– Коваль, ты о чем говоришь? К вам девочек пустить? Ты что же, хочешь, чтобы мне при школе еще родильный дом открыть?
В последний раз я видел нашего директора году в пятьдесят девятом, когда уже пришел из армии. Валентин Панкратьевич сутулился рядом с моим домом. Он думал что-то свое и немного шевелил губами. В руке у него была авоська с кефиром и белым батоном. Двубортный костюм его увял, и лацканы понуро загибались книзу. Меня он не заметил.
Куда же делись вы потом, Валентин Панкратьевич, сталинский сокол, наш славный директор 657-й мужской средней школы, что до недавних пор была на улице Чаплыгина, бывшем Машковом переулке? Только номер у нее потом стал другой…
Ян Хуторянский
Двое на одного
Приближалось первое сентября, родители записали меня в школу неподалеку от Куликова поля, а учебников для седьмого класса и портфеля не было. Папа снял с антресолей «зингеровскую» швейную машину и выразительно посмотрел на меня. Дело в том, что незадолго до этого я решил проверить, есть ли у меня воля. Подставив под иглу палец, крутанул ручку. «Подвиг» был примерно «отмечен» родителями. Запомнил надолго…
Подобие портфеля, который застегивался на большую пуговицу, сшили из старого пальто. С лицевой стороны был пристрочен кусок клеенки, которой покрывали кухонный стол. По моей просьбе бабушка расставила внизу мои брюки, чтобы получились клеши, которые тогда носили многие одесские мальчики.
В классе меня встретили, как любого другого новенького. Прочитав позднее очерк Помяловского о нравах бурсы, вспомнил свою послевоенную одесскую школу.
За партой сидело по трое ребят. С наступлением холодов пальто разрешали не снимать, отчего становилось еще более тесно и неудобно писать. Меня подсадили к двум второгодникам.
На перемене хотел подкрепиться, поделившись с соседями, но они выхватили сверток и разделили «трофей» между собой. Нагло жуя, пригрозили: «Пожалуешься – после уроков рожу начистим».
Я никому не рассказал, но мои обидчики поджидали на пустыре. Один больно толкнул плечом, другой добавил. В это время из школы вышли старшеклассники и пристыдили их:
– Вы че, пацаны, двое на одного?..
По неписаным правилам тех лет подростки выясняли отношения один на один и дрались до первой крови. Тогда лежачего не били ногами, что нынче делают не только в телесериалах…
С одним я справился. Вмешаться второму не позволили «зрители», окружившие нас. Однако продолжение не заставило себя ждать. На другой день соседи по парте подкараулили, и мне крепко досталось…
Дома соврал, что поскользнулся, а своему старшему другу рассказал, как было. На следующий день как ни наклонялся над тетрадкой, учитель математики, наш классный руководитель, заметил «автографы» на моем лице.
– Вижу, знакомство состоялось, – сказал он. – После уроков жду всех троих в учительской.
Нас рассадили, а мой друг дал несколько уроков «культурного мордобоя». Специальные упражнения напомнили рубку дров, с которой я знаком с детства. В эвакуации мы жили в уральской деревне, и я был единственным мужчиной в семье.
Через месяц тренировка дала результат. В это время в классе появились два новеньких, и до боли знакомый сценарий повторился. Один мальчик отбивался, а другой постоять за себя не мог. Я предложил объединиться, и в случае нападения мы вставали спинами друг к другу и защищались.
Учителя не могли не знать об этих драках, но криминогенная обстановка в послевоенной Одессе была так тревожна, что школьные потасовки никто и в голову не брал.
Исключением был классный руководитель. Когда он заболел, мы пришли на Пироговскую улицу, где у него была комната в коммуналке. Рассказывая школьные новости, скрывали, что в классе по-прежнему нездоровая обстановка. Между тем опытный педагог уже тогда понимал, какими жестокими могут быть подростки, о чем сегодня не пишут только ленивые…
Как-то он сказал: «Спасибо, что навестили, а сейчас запишите домашнее задание. В следующий раз жду весь класс. Увижу вас в окно, и мне станет легче».
Пришли почти все. Не знаю, заметил ли он это: на улице смеркалось, шел дождь. Через месяц в школьном вестибюле появился его портрет в траурной кайме. На столике, покрытом красным бархатом, лежали боевые ордена, которых он никогда не надевал. С этого дня драки между одноклассниками считались предательством памяти Учителя.
Альбина Огородникова-Ястребова
Про Марусю
Одна история из моего детства не дает покоя, тревожит душу поздним раскаянием. Давно я хочу рассказать об этом, но даже сейчас, более чем через шестьдесят лет, стыд и боль охватывают меня. Несколько раз принималась я за эту грустную повесть, но каждый раз, доходя до кульминации, не могла продолжать – слезы душили меня, как и сейчас. Но надо, надо написать…
Это было во втором классе. В школе у нас и в классе было много девочек из семей насильно переселенных из сел и деревень, оказавшихся под немецкой оккупацией. Матери с грудными детьми, больные, старики были посажены в «телячьи» вагоны и отправлены в Сибирь. Эти несчастные люди обвинялись в содей-ствии немецким оккупантам. Многие до Сибири не доехали, погибли в дороге, а уцелевшие строили себе бараки из сырых кирпичей, слепленных из соломы и глины, – «саманные бараки», «саманы», как их называли. Они простояли до шестидесятых годов, и мой брат Коля, женившись в 1955 году на дочери ссыльных украинцев, жил там несколько лет с женой и сыном.
Выжившие ссыльные окрепли, дети выросли, многие выучились и получили хорошую специальность – жизнь продолжалась. Сталин умер в марте 1953 года, массовые репрессии кончились, погибшие в лагерях и оставшиеся там живыми «враги народа» были реабилитированы; люди с надеждой смотрели в будущее.
Но вернусь к моей печальной истории. Итак, наш класс – 2 «Б». Наша учительница, Наталья Ивановна, время от времени любила пересаживать нас. Однажды она посадила меня за одну парту с Марусей – девочкой из такой вот бедной семьи переселенцев. Никто не хотел сидеть с этой Марусей: она была одета в неряшливое серое платьице из какой-то грубой мешковины; жидкие волосенки заплетены в две крысиные косицы с тряпочками на концах вместо ленточных бантов. И еще мы знали, что у нее были вши: мы видели их в ее волосах и сторонились ее. И вот однажды Наталья Ивановна разделила нас с Ниной Соболевой и посадила меня с Марусей.
Поскольку моя семья жила более-менее благополучно, мама каждый день давала мне в школу четвертинку молока в бутылке, два кусочка хлеба с маслом. Дети часто бывают эгоистичными и даже жестокими: никогда я не обращала внимание на то, что ели на перемене мои одноклассницы, не замечали мы тех, кто рядом с нами был голоден.
Однажды, после звонка на перемену, я сунула руку в парту, чтобы достать свой завтрак, – рука ощутила пустоту. Я взглянула на Марусю. Положив голову на руки, она, видно было, что-то быстро жевала. Косички ее дергались, уши горели… Я начала громко плакать. Наталья Ивановна спросила: «Что случилось?» Показывая на Марусю, я пожаловалась: «Маруся съела мой хлеб». Маруся, перестав жевать, не поднимая головы, плакала… Сцена эта врезалась мне в память навсегда. Вот почему я плачу, вспоминая это, и не могу закончить рассказ.
В этот день Наталья Ивановна говорила с нами о жизни. Она была тоже из семьи ссыльных, такой же жертвой жестокости и несправедливости, как и Марусина семья и многие тысячи других. Ни она, ни другие не могли выразить недовольство или несогласие с политикой Сталина: за это люди шли не только в Сибирь на жительство, но и в тюрьмы и лагеря. Многие искренне любили Сталина и верили ему, а его злодеяния объясняли чьей-то ошибкой. Умные, образованные люди, такие как наша учительница, понимали все правильно, но вынуждены были молчать. Наталья Ивановна сказала: «Аля, ты счастливая девочка – твой отец вернулся с войны, вот и школьную форму тебе уже купили. Но запомни: это не главное, важно, что у тебя в душе – добро или зло. Я верю, что ты – добрая девочка, только многого не понимаешь».
Ни в чем учительница не упрекнула меня, но я была красная как мак, и слезы ручьем лились из глаз. Мне было ужасно стыдно и жалко Марусю. Наталья Ивановна подошла к нашей парте, погладила Марусю, которая тоже плакала, по голове, погладила и мою голову: «Девочки, не будьте жестокими друг к другу».
Когда я вернулась домой, я снова начала плакать, но на расспросы матери не рассказала, что случилось в школе. «Никогда больше не надену эту форму, – рыдала я. – Я хочу быть, как Маруся. Наталья Ивановна не любит меня, сшей мне платье из мешка, как у Маруси!» Я плакала больше о себе, чем о Марусе, – мой детский ум не мог постичь всего того, что было в одном этом эпизоде. Я была по-детски эгоистична и начала понимать все о жизни значительно позднее. А Маруся вскоре как-то незаметно исчезла из нашего класса, куда – не знаю.
Я не выросла жестокой, всегда чувствовала боль других, старалась помочь по мере сил. Наверное, эта история с Марусей дала мне на всю жизнь урок сочувствия и сопереживания.
Маруся, ты не слышишь меня, но всю жизнь стоишь перед моими глазами со своими хвостиками-косичками, в своем платьице… Наверное, много ты испытала и во взрослой жизни горя, бедности и унижения. Помнишь ли ты меня и, если помнишь, – простила ли?
Прости меня, Маруся.
Детдом
Население детских домов в послевоенные годы возросло почти вдвое за счет военных сирот, полусирот и детей, тайно оставленных матерями у порога детских домов ради сохранения их жизни: так сделала мать одной из наших корреспонденток. Еле живая от голода мать приходила несколько раз издали взглянуть на двух своих дочек во время прогулки. Ближе подходить боялась: вдруг дети ее узнают и ей придется их забрать – а кормить их было нечем.
Прошло то голодное время, но количество детских домов в нашей стране не уменьшилось, а увеличилось.
В послевоенном 45-м году в нашей стране насчитывалось 600 тысяч детей-сирот. Спустя более полувека, в 2010 году, количество сирот по статистике перевалило за 800 тысяч. Это значит, что 2,8 % детей в нашей стране – сироты. Огромное большинство сирот (90–95 %) имеют одного или даже обоих родителей. Это социальные сироты, родители которых либо отказались от них, либо лишены материнства.
Последние годы, относительно благополучные и сытые, наша страна занимает первое место в мире по количеству оставленных в родильных домах детей. Нужны ли здесь комментарии?
Антонина Паршакова
Очень хотелось одеться…
Я закончила семь классов, и меня из детдома отправили на работу учеником токаря в цех № 2. Мне было неполных четырнадцать лет. 22 августа исполнится четырнадцать. Работа моя заключалась в следующем: собирать стружку вокруг станков и на станке обрабатывать детали по подсказке мастера.
Завод казался мне огромным. Было девять или десять цехов, по территории ездил трамвай: перевозил детали по мере их обработки из одного цеха в другой. Люди в рабочей одежде казались серой строгой массой. В конце десятого цеха стояли танки и вездеходы, готовые к погрузке на железнодорожные платформы, рядом – большие деревянные ящики, также готовые к погрузке. Все были заняты своими делами, на меня попросту не обращали внимания. Я казалась никому не нужной, и моя работа – это насмешка надо мной. Казалось, станки и корзины для стружки смотрели на меня осуждающе.
Горе мое в том, что ростом я была 147 см. Хотя для меня мастер сколотил вдоль всего станка помост, но не слишком высокий. Я становилась на цыпочки, потому что не доставала до верха станка, чтобы закрепить деталь. Сосредоточившись на закрутке детали, ручкой станка била себя по носу. Так я и ходила: худая девочка с тоненькими светло-русыми косичками, да еще и с подбитым носом.
Однажды директор завода, проходя по цеху, вдруг взял меня за руку и привел в заводскую столовую. С этого дня я работник общепита: собираю посуду в зале и мою столы и стулья! Я счастлива!
Директором столовой был старик на деревянном протезе, всегда одетый в гимнастерку, увешанную орденами и медалями. Я успевала перемыть в перерыв столы и стулья, в оставшееся время помогала на кухне: чистила картошку, лепила пельмени и вообще делала всё что скажут.
А по вечерам училась в вечерней школе. Это было обязательно: нас, выпускников детдома, проверял участковый. Мы обязательно должны были учиться. А вечерняя школа была платной. Когда нужно было платить за обучение, на работе мне выписывали премию (в размере оплаты за обучение, не больше и не меньше).
И так прошли три года. Я закончила десять классов.
Прошли годы, пока я поняла, что фронтовики жалели меня, поэтому помогли выжить.
Очень хотелось одеться. Ведь из детского дома меня выпустили в мир с «приданым»: фэзэушная шинель, которая была мне очень велика, ботинки с обмотками (на все случаи жизни; летом можно и босиком!), две белые сорочки, белая блузка (по размеру!), юбка и спортивные штаны-шаровары. В детском доме всех девочек научили вязать оренбургские пуховые платки, это был и небольшой заработок. Учили нас этому с первого класса. Сначала перебирали пух, затем чесали его и потом уж пряли. К третьему классу все девочки моего возраста умели прясть пух. А дальше учили вязать: платок отдельно, кайму отдельно.
В первый год самостоятельной жизни связала себе из серого козьего пуха кофту, перчатки и шапочку. За пух вскопала бабке пятнадцать соток огорода.
Одевалась по тем временам неплохо. Выручал маленький рост и тридцать пятый размер ноги. Всё покупала на барахолке, кому что мало – мне в самый раз.
Выдали нам на работе фуфайки – это такие ватные куртки. Поскольку фуфаек сорокового размера не было, выдали сорок восьмой. Пришла домой и из фуфайки сделала модную куртку: по талии в три ряда протянула тесьму. Сделала воротник-стойку и внутренние карманы в боковых швах. Очень красиво! Завскладом, когда увидел такую красоту, дал мне еще одну фуфайку, но поношенную и пятьдесят второго размера. Ее я тоже переделала. Вся вечерняя школа на меня смотрела с восхищением!
Я часто вспоминала свой детдом, помню мальчишек-чеченцев: Зортова, Лечо, Хуршета. Это были мои одноклассники в детдоме, а на заводе их не было, наверно, пошли в ФЗУ и на стройку.
Так закончилось мое детство.
Клара Павлова
Моя мечта – быть артисткой…
Отца, Ушакова Василия Михайловича, репрессировали в 1938 году. Мама была больна туберкулезом. Мы с братом Игорем попали в детдом – как враги народа.
Все три детдома находились на территории Коми АССР – в Пыелдино, в Подъельске.
В первый детдом нас мама привезла в 1938 году, мы были совсем маленькими. В этом детдоме всех стригли одинаково – налысо. А у меня белые, очень пушистые волосы. Посадили нас всех в большом зале, вдоль стены. Посреди зала стоял стул, около него мужчина в белом халате и с ножницами в руке. Он нас вызывал по одному к себе, сажал на стул и стриг. Все молча подходили и садились. Но когда подошла моя очередь садиться, брат мой, Игорь, бросился в ноги мужчине, обнял его и так громко заплакал, умоляя его: «Дяденька, миленький, я вас очень прошу – не стригите Ляльку! Она такая красивая, у нее такие красивые волосики!» Он плакал так, что мужчина тоже заплакал и ответил: «Да, она очень красивая, но я выполняю приказ директора». И он меня остриг. После этого брат пролежал с температурой неделю.
Вскоре мама нас забрала, но ненадолго – ее болезнь прогрессировала, и нас снова отправили уже в другой детдом, где я пошла в первый класс. Здесь было намного хуже. Кормили одной кислой капустой (кусочек хлеба старшие отнимали). Мы ходили ночью на картофельные поля и собирали прошлогоднюю картошку – куски грязного крахмала. Завтрак – капуста, обед в школе – баланда из травы, голова постоянно кружилась, падали в обморок, писались. Нас не будили ночью, но зато мокрых били, заворачивали рулоном в матрас и клали головой вниз. Ноги привязывали вверху над матрасом веревкой, чтобы моча текла нам на голову.
Однажды я нашла в песке лист зеленой капусты, забралась на печку-голландку (она высокая, под потолок) и стала грызть этот листочек. Песок хрустел на зубах, он меня выдал. Подошла «воспитательница», подтянулась, достала мою руку, схватила ее в запястье, где у меня была рана (я вся была в чиреях), и попала пальцем прямо в рану; я упала на пол без сознания, ударилась об пол, проснулась в медпункте.
Как-то раз брат Игорь позвал меня на гороховое поле. Эта деревня-колхоз была у реки, кругом лес – красиво. Мы убежали в тихий час. По дороге на поле мы повстречали группу колхозников. Они нам ни слова не сказали. Детдомовские девочки все носили капоры, мальчики – шапочки. Расставаться с этим было запрещено – это знак: детдомовцы! Потому-то колхозники и промолчали. Они шли на обед, а мы – на поле.
Добрались, боже! Какой горох – больше я такого не видела. Крупный, сочный. Мы так наелись, что животы вздулись, и мы начали за пазуху складывать. Про время мы не понимали. Гонг – удар об железо, пора выходить… Мы вышли. Они сидят все у арыка. Он сухой, воды нет. Нас посадили рядом с собой.
Сначала расспрашивали по-хорошему, а потом стали стыдить. Забрали горох и начали над нами смеяться. Игоря положили вдоль канавы и пустили на него колесный трактор. Он лежал между колес, молчал от страха, а я ревела, кричала во весь голос. Игорь встал, когда трактор прошел, весь белый и волосы белые. С нас сняли головные уборы, а без них возвращаться в детдом нельзя. Наказывали. Сажали в уборную. Она большая, цементированная, высокая, холодная.
Нас посадили туда и забыли. Мы от боли в животе корчились до утра, а утром Игорь встал на мою спину, дотянулся до окошечка, вылез, потом подтянул меня за руки, и мы сбежали. Ночевали в свежевырытой могиле, а утром нас вытащили из могилы. Мы убежали до реки. Голодные, холодные, раздетые. Лесом. Дальше еще хуже.
Поймали нас в деревне Вильгорт, около Сыктывкара, и снова сдали в детдом, где жили одни дети-поляки. Они не лучше наших – издевались.
Вот оттуда меня украла тетя Маша и увезла в Воркуту. В 1945 году мне исполнилось десять лет.
О жизни тех лет писать очень трудно, еще труднее читать. Мария Васильевна (тетя) получила комнату на первом этаже. Я пошла в первый класс, а вскоре превратилась в няньку. Мария Васильевна работала заведующей базой, которая снабжала лагеря – лагеря политзаключенных. И шахты.
Всего несколько домов, большая школа и драмтеатр, где работали артисты-заключенные. Остальные на шахте добывали уголь.
Артисткой побывала и я. Пришли к нам в школу режиссеры и отбирали детей на роли в театре. Меня с одним мальчиком сразу отобрали. Мне с большим трудом удавалось убегать из дома на репетиции, за что тетя меня ужасно избивала. Иногда соседи заступались.
Это была моя мечта – быть артисткой. Мама рассказывала мне позже, что я танцевала, где только услышу музыку. Часто приходила на репетиции с синяками, рваными ранами, взрослые меня подлечивали, и я все равно выходила на сцену.
Самое страшное было утром, очень рано, в пять-шесть часов, когда заключенных гнали на шахту. Зимой и летом, в любую погоду они, худые, оборванные, цепи на ногах, чтобы шаг был меньше, шли мимо моего окна. Так гремели-лязгали эти цепи, что уснуть уже было невозможно.
Жизнь города
Все, что здесь описано, ушло в прошлое. Нет больше хлебных карточек, толкучек. Нет очередей с фиолетовыми номерами на руках, нет колонок во дворах, столов с доминошниками, агитаторов, старьевщиков и домоуправов…
Сегодня соседи, живущие в одном подъезде многоэтажки, не знакомы между собой, разве что кивнут в лифте. Большие города изменили свой облик, широкие проспекты разрезали прежние малоэтажные кварталы, вместо изредка проезжавших машин – многочасовые транспортные пробки. Урбанизация стирает индивидуальные черты, городская застройка деловых кварталов больших городов так мало отличается в разных странах, что, проезжая в Москве по Третьему транспортному кольцу, временами испытываешь чувство выпадения из привычного пространства: что за небоскребы по сторонам? Это Манхэттен, Пекин, Сеул или Дубаи?
Взгляд на современный город наводит на размышления о том, что перемены, происходящие вокруг, касаются не только живущих сегодня поколений. Происходит такое глубокое изменение мира, который создан руками человека, что оно не вполне оценивается нашим сознанием. Как будто человек немного запаздывает, не успевает постичь драматизм и новизну перемен, которые касаются не только устройства города и его ландшафта, но абсолютно всего, что составляет жизнь человека. Совершенно очевидно, что молодые люди всегда легче приспосабливаются к переменам. Современный ребенок не может представить себе жизни без мобильного телефона, Интернета, в то время как их бабушки и дедушки в детстве замирали в немом изумлении перед первым телевизором, в юности впервые совершали путешествие на самолете, и далеко не все мои сверстники преодолели страх перед компьютером. Наша недавняя, можно сказать, вчерашняя жизнь кажется им столь же далекой, как жизнь Древнего Рима. Недавно один малыш, внук моего приятеля, спросил: дедушка, а ты динозавров застал?
Нет, мой сверстник не застал ни динозавров, ни Юлия Цезаря. Признаться, очень бы не хотелось, чтобы новое поколение относилось к нам как к динозаврам. И как хотелось бы, чтобы сохранялась преемственность мыслей и чувств между поколениями. И мы, дети послевоенных лет, оглядываясь назад с умилением, храня в памяти ушедшие черты уютных дворов, узких переулков, мощенных камнем улиц, хотели бы, чтобы молодые люди знали, что происходило в недавнем прошлом на этом месте, на этой улице, в этой стране…
Галина Мурашова (записала Екатерина Мурашова)