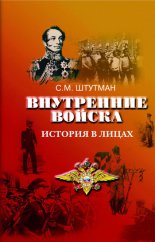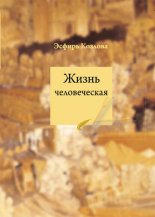Хромосома Христа, или Эликсир бессмертия Колотенко Владимир
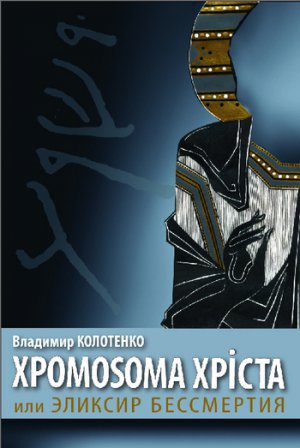
Небо над городом было иссечено разноцветными ватными полосами, которые оставляли за собой низко и стройно проносящиеся реактивные истребители, улицы были украшены красочными щитами и баннерами, флагами, гирляндами разноцветных шаров. Лица людей светились улыбками, нам приветственно махали руками с пестрыми блестящими на солнце шарами. Впечатление было такое, словно город встречал Аню. Это я заметил еще в аэропорту Орли и только сейчас произнес:
– Париж любит тебя.
Аня улыбнулась.
– А ты говоришь «поехали». Я могу твердо сказать, sans gene[17], что и я к нему не равнодушна. Как же я его брошу?
Нам в тот день не удалось проехать по Елисейским полям – шли танки. Военная техника перла в сизом дыму по всей ширине проспекта, лязгая и грохоча, и, казалось, что началась война. 14 июля – День взятия Бастилии, национальный праздник, и как принято в такие дни во всех цивилизованных странах, страна демонстрировала миру свое величие. Его было видно и в небе, и на земле, и на весело сверкавшей водной глади Сены, по которой хлопоча сновали катера и катерочки. Чтобы подъехать к дому, где жила Аня, нам пришлось пробираться узкими улочками, и когда она наконец припарковала свой «феррари», я спросил:
– Что ты задумала?
– Мы зайдем ко мне, немножко отдохнем, и потом я покажу тебе свой Париж. Как твои ноги, ты прихрамываешь?
Странно, но все это время у меня даже мысли не возникло позвонить Юле. Она тоже молчала, это было в ее стиле. А Аня больше о ней не спрашивала.
Глава 2
Когда мы вошли в ее квартиру, я сразу понял, что она живет одна.
– Слушай, столько роз!
Розами, белыми розами была просто забита прихожая. Затем розы обнаружились и в гостиной, и даже в ванной комнате.
– Я их просто люблю, – просто сказала Аня.
– Когда-то ты любила ромашки.
Я понимал, что она не могла покупать сама себе столько роз. А те, кто их дарил, знали ее вкус: только белые!
– Да, ромашки…
И множество книг. Книжными полками были уставлены все стены, книги, книги, засилие книг…
– Я не знал, что ты такая книжница.
– Я не помню, когда держала книжку в руках.
Пока Аня принимала душ, я бродил по огромной светлой квартире из комнаты в комнату, рассматривая фотографии на стенах, картины, маски и множество статуэток…
– Из твоих окон прекрасный вид, – сказал я, когда она вышла ко мне в белом халате.
– Это Сакре-Кер. Вечером от него невозможно отвести взгляд.
Затем мы пили вино и ели, и, недоев, без единого слова, словно заранее сговорившись, отправились в спальню, сдергивая с себя всякие, стесняющие наши мысли, одежды… Потом просто спали напропалую… Недолго, но глубоко – бух!.. А потом, спустя некоторое время, мы сели в машину и до самой глубокой ночи, она возила меня по городу, рассказывая историю за историей, показывая знаменитые места и площади, музеи и соборы, мосты и парки. Мы вспоминали прошлое.
– Нет-нет, – признался я, – у меня уже не тот юношеский запал, который был прежде. Когда-то идеи били из меня фонтаном, теперь же это жалкая струйка.
– А помнишь, как мы с тобой целовались у термостата? – спросила она при повороте на бульвар Сен-Жермен, – у меня тогда подгибались коленки.
– Ага, – сказал я.
– А вон там, – Аня кивнула в сторону, – магазинчик YMCA-Press, можем зайти. Там всякая всячина, Галич, Солженицын, русские французы. У Струве… Ты, правда, помнишь ту нашу ночь?
– Помню, – уверенно соврал я, – ту ночь, конечно…
Я силился вспомнить тот термостат и те поцелуи, но не мог. Когда начали сгущаться вечерние сумерки, мы оставили автомобиль на какой-то стоянке и пошли к Сене.
– Покатаемся? – предложила Аня, кивнув на проплывающий по реке, призывно сверкающий яркими огнями, речной трамвайчик.
Разве я мог отказаться? Здесь было не так шумно, свежесть реки пришла на смену дневной жаре. Мы купили билеты и вскоре уже сидели за столиком, прохлаждая себя шампанским и мороженым. По берегам еще можно было видеть запоздалых рыбаков, неотступно следящих за поплавками своих удочек и художников, собирающих свои мольберты, а на пляжах – неподвижно стоящих обнаженных парижан, подставляющих белые тела холодным лучам заходящего солнца.
– Это мост Мари, – сказала Аня, указывая на приближающийся к нам мост, – здесь принято целоваться. Ты готов?
Я посмотрел ей в глаза и пожал плечами. Я не понимал, зачем она это сказала. Но через секунду все стало ясно.
– Приготовились! Целуются все!
Эта команда, выкрикнутая гидом по-французски, прозвучала как только нос нашего bateaux-mouches («кораблика-мушки») оказался под мостом. Вдруг все пассажиры повскакивали с мест и стали друг друга спешно целовать. Я опешил. Возле меня столпились мужчины и женщины, старички и старушки, влюбленные и дети, и все старались чмокнуть меня, кто в щеку, кто в губы, я стоял и смотрел на улыбающуюся Аню, которая вдруг подошла, и вырвав меня из толпы, обвила мою шею своими прохладными руками, припав к моим губам своими, целуя меня долго и жарко, словно это был прощальный поцелуй влюбленных. И этот сладостный пьянящий поцелуй длился до тех пор, пока не раздались аплодисменты. Когда я открыл глаза, мост остался далеко позади, а Анины ладони еще лежали на моей шее.
– Ты загадал желание? – спросила она, чуть отстраняясь и глядя мне в глаза.
Аплодисменты стихли и пассажиры рассеялись, рассевшись за свои столики.
– Да, – сказал я, – и ты его знаешь.
Глава 3
Мы снова сидели в пластиковых креслах, я глазел по сторонам и приходил в себя. Этот страстный поцелуй несколько озадачил меня, и Аню это забавляло.
Вскоре над сверкающей бликами огней водой разлилась знакомая мелодия и чей-то тихий приглушенный с хрипотцей женский голос (а ля Каас) заглушил плеск волны за бортом и урчание двигателя. Аня, словно давно ожидавшая эту мелодию, поднялась и молча протянула мне руку, приглашая на танец. Этого я тоже не ожидал. Мимо проплывал как раз каменный парапет острова со знакомыми очертаниями расцвеченного прожекторами храма. В моей левой ладони совершенно безвольно и без всякого намека на какое-либо близкое расположение лежали Анины пальчики, а правой я едва ощущал ее теплую поясницу. Страстный поцелуй на виду у толпы ротозеев, шампанское, танцы на покачивающейся под ногами палубе… Я ведь точно знал, что это не земля уходит у меня из-под ног, нет, просто нашу «муху» слегка качает волна. Я испытывал, конечно, и наслаждение, но не переставал удивляться. Что все это значит? Значит ли это, что между нами… Нет-нет! Этого нельзя было допустить, думал я. Хотя… Мы ведь не чужие! Мне вдруг пришло в голову, что Аня испытывает меня. Ей, думал я, просто интересно узнать, что я из себя представляю теперь. Как мужчина. Может быть, она захотела мне отомстить? Но за что? Быть уверенным, что ты понимаешь женщину – значит обмануться собственной самонадеянностью. Нельзя сказать, что у меня голова шла кругом, но четкого ответа на свои вопросы я тогда сформулировать не смог. Теперь, когда прошло столько времени, и я знаю весь ход событий, кажется странным, что у меня тогда возникли подозрения насчет Аниных поступков. Никаких сногсшибательных поступков и не было, не было никакой игры. Аня просто жила, как привыкла жить без меня. Она изменилась – вот единственный факт, с которым мне пришлось согласиться. Но ведь столько лет прошло! С каждым бы произошли перемены. Но тогда обрести ясность мне так и не удалось.
– А помнишь, как мы с тобой, – произнесла она, поднимая глаза, – целую неделю жили в палатке?
– Еще бы! – снова соврал я.
Ее губы едва не касались моих, и мне ничего не оставалось, как вместо ответа, коротко и сладко поцеловать их.
– Еще, – прошептала она, не открывая глаз.
Затем мы пили какое-то безвкусное, но очень дорогое кислое белое вино, ели мясо, мясо перепела или куропатки, может быть, даже канареечное, мне было все равно, и даже пели, подпевали певице, которая по моему заказу исполнила на русском песню о поручике Галицине и что-то еще, все на ломаном русском. Аня улыбалась, а мои глаза едва различали ее силуэт. Мы ни разу не вернулись к моему рассказу. Аня ни о чем не спрашивала и я молчал. Потом я напился! Да я был пьян, как последний сапожник. Боже, какое это счастье быть пьяным, как сапожник!
– Вот мы и прошли с тобой по триумфальной дороге Франции, – произнесла Аня, – от Нотр-Дам до дворца Шайо.
– Да уж, – сказал я, – это было триумфальное шествие!
Время от времени невдалеке раздавались глухие гудки, а потом небо вдруг озарилось тысячами падающих звезд. Праздничный фейерверк. Луч прожектора Эйфелевой башни словно проснулся и стал шарить своим слепящим белым стволом то по небу, то по домам, по реке, а сама она, разодетая в ажурный наряд из мириад мигающих огней, как невеста в свадебное платье, мерцала и светилась, и, казалось, летала в веселом и праздничном вальсе.
– Что ты еще знаешь о наших?
Я пожал плечами.
– Ого!.. – только я и сказал.
Это «Ого!», видимо, следовало расценивать так: столько лет прошло! Много воды с тех пор утекло… Что я мог знать о наших? Ничего. И Аня не настаивала, чтобы я объяснялся: «Ого!» так «Ого!». Купола искусно подсвеченных соборов сверкали золотом. Невидимые ракеты с шипением и свистом взмывали ввысь и, когда наступала недолгая тишина, вдруг взрывались над головой рассыпающимися цветистыми шарами искр с характерными хлопками-пуканьями. Мы сидели рядом и, задрав головы любовались удивительным зрелищем.
– Ты, правда, приехал за мной? – повернувшись ко мне лицом, неожиданно спросила Аня.
Она положила свои теплые пальцы на мою левую руку и заглянула в глаза. Вопрос застал меня врасплох и привел в чувство. Меня словно окатили холодной водой. Но пока я собирался с мыслями, Аня задала свой следующий вопрос. Как потом я узнал, она в тот вечер боялась услышать мое «нет». Было бы еще хуже, если бы я стал уходить от ответа, отделавшись шуткой или какой-либо выдумкой. Дождаться моего уверенного «да» у нее не хватило духа.
– Скажи!..
Внезапная мысль о Юле придала мне мужества.
– Да! – сказал я.
– Аза не нашлась? – тихо спросила она.
Я молча помотал головой из стороны в сторону.
– У меня до сих пор есть ваша фотография, помнишь?
Я кивнул: помню. Я не только помнил, я ждал. Я все еще ждал от Азы какой-то весточки, я помнил ее слова проклятия в свой адрес. Я жил ожиданием чего-то невероятного, может быть, даже чудовищного. И дело заключалось вовсе не в Азе, а в том, кого мы вместе с ней произвели на свет Божий. Это и была пресловутая биологическая обратная связь, вездесущий biofeed back. Что если он до сих пор жив? Каков он, что с ним, как ему живется?.. Было и еще множество вопросов, на которые у меня не было ответов. Я молчал, а Аня подняла ресницы и, посмотрев мне в глаза, вдруг рассмеялась.
– А помнишь, что ты мне сказал на той вечеринке, когда мы праздновали то ли День медика, то ли…
– Я тогда тоже набрался…
– Что ты мне сказал?
– Ты была совсем ребенком.
Аня пристально посмотрела на меня.
– Я была взрослым ребенком.
– Да-да-да.
– Что ты мне тогда сказал?
Если бы я мог помнить!
– Что мы водрузим свой флаг на планете! – воскликнул я и поднял правую руку со сжатыми в кулак пальцами.
– Не ерничай, ты никогда этого не вспомнишь.
Я умолк, и мое молчание было знаком согласия.
Это было сказочное путешествие. Сказка длилась до 23.00, а мне казалось, что три часа пролетели мгновенно. Я готов был платить бешеные деньги, чтобы пароходик катал нас до утра, до зимы, когда морозы закуют Сену в лед, но Аня остановила меня.
– Зачем? Еще успеем.
Что я сказал ей на той вечеринке, так и осталось для меня тайной.
Глава 4
Затем мы брели по ночному Парижу, болтая и смеясь, в обнимочку или держась за руки, как школьники, целуясь и вполголоса распевая русские песни. С самой верхотуры Эйфелевой башни, ослепительно белым мечом кромсая на куски черный купол неба, летал белый луч мощного прожектора, словно в попытке разорвать путы ночи и приблизить людей к Небу. А сама башня, украшенная разноцветными мигающими лампочками казалась пульсирующей, воткнутой в небо иглой, фосфоресцирующей, как стройный рой светлячков.
– Мы всегда стараемся вернуть то, что вернуть уже нельзя, – задумчиво произнесла Аня. – Невозможно идти вперед и держаться за прошлое. Вот и ты бросился наутек, но прошлое поймало тебя за рукав: от меня не сбежишь!
Она крепко сжала мне руку и заглянула в глаза.
– Не сбежишь?
– Теперь – никогда! – сказал я. – Я за этим приехал.
– Зачем?..
Улицы были уже пусты, спать не хотелось, и мы не чувствовали никакой усталости. В каком-то уютном скверике нашлась одинокая, ожидающая нас скамейка, на которую мы, не сговариваясь, присели передохнуть и еще раз поцеловаться перед тем, как отправиться домой. Уже светало, и руки мои, конечно, ослушавшись меня, стали блуждать по ее спине в поисках каких-то застежек и тут же нашли упрямую, неподвластную пальцам молнию, которую Аня сама помогла расстегнуть, и вскоре и мы в это поверили – вдруг, мы оказались совсем голыми, как Адам и как Ева, голыми настолько, что ее нежная кожа казалась горячей на этой неуютной скамейке под раскидистым платаном, где ни один любопытный листик не шевельнулся, чтобы не спугнуть наши чувства, и нам не было холодно в этих парижских предрассветных сумерках до тех пор, пока нас не разбудили первые птицы. Мы спали, свернувшись в клубок, и было неясно, как этот клубок из двух любящих жарких тел мог держаться на этой неуклюжей остывшей скамейке. Мы спали «валетом», и я, как заботливый отец, отогревал своими ладонями и дыханием ее глянцевые мерзнущие голени и колени.
– Что это было? – просыпаясь сонно спросила Аня, кутая себя в мой пиджак, – просто ужас, какая-то жуть…
– Варфоломеевская ночь, – сказал я.
– Похоже, – буркнула она с удовольствием, не открывая глаз, – и если говорить sans phrases[18], ты зарезал меня.
«Разве ты не этого хотела?». Я только намеревался задать свой вопрос, но он мог совсем ее разбудить, и я промолчал. Это была ночь любви и воспоминаний. И хотя я читал эту книгу с закрытыми напрочь глазами, кожа пальцев и губ открывала мне те страницы, что когда-то были бегло прочитаны, как стишок из школьной программы, прочитаны и забыты, и вот моя кожа будила теперь воспоминания тех далеких дней, которые казались забытыми навсегда. И память моя проснулась. Я вспомнил и эти плечи, и эти колени, и эту атласную упругость кожи, и ту же россыпь, россыпь милых родинок вдоль белой линии белого живота, родинок, сбегающих маленькой стайкой одна за одной к пупку, точно божьих коровок, спешащих к роднику. Я вспомнил и этот родник, источник прежних моих наслаждений… Как я мог его забыть?
– А что это у тебя на плече? – спросил я, указав глазами на татуировку.
– Крестик, сказала Аня.
– Вот видишь, – сказал я, – ты уже тоже… Меченая Небом…
– Да…
Это был праздник, рай!
Уже когда стало светать, мы нашли нашу машину и покатили домой. И снова, еще не успела закрыться входная дверь, снова набросились друг на друга, сон пропал, и мы не слышали ни звона, случайно задетой моим локтем и разбившейся о паркет хрустальной вазы, ни хлещущей через край ванны теплой воды, не видели разбросанных по всей спальне наших одежд… Запах сгоревшего кофе привел Аню в чувство…
– Содом и Гоморра, – сказала она и помчалась в кухню.
– Гибель Помпеи! – согласился я.
Затем она кому-то звонила, я не прислушивался.
Потом мы отсыпались… Когда меня разбудил телефонный звонок, я лежал рядом с ней совсем голый. Будто от самой скамейки и до этой постели я топал по всему городу без клочка одежды. Я видел ее обнаженное плечо, шею, сбившиеся на бок роскошные рыжие волосы. Она спала на правом боку, но когда зазвонил телефон, тотчас проснулась и, не открывая глаз, стала ощупью искать трубку на стекле журнального столика.
– Да, – сказала она и стала слушать.
Мой телефон пиликнул еще несколько раз. Она по привычке взяла свою трубку и, естественно, не могла ничего услышать. Затем сообразила в чем дело.
– Это тебя.
Я смотрел на светлые шторы, по которым смеясь прыгали солнечные зайчики. Она повернулась на левый бок и, улыбнувшись сквозь дрему, открыла глаза.
– На, держи, это тебя, – повторила она, положив свой и подавая мне мой телефон. И с головой уползла под одеяло.
Снова звонил Жора.
– Ты купил мне подарок?
– Слушай! – сказал я и рассмеялся.
– Шутка, – сказал он, – ты надолго там обосновался? Обабился что ли? Здесь работы полно…
Он коротко сообщил о своей поездке в Японию и уже сегодня, в четверг, уточнил он, ждал меня в лаборатории. Как, впрочем, мы и договаривались.
– Тут тебя поджидает сюрприз. Наш миленький Вит… Жадный он у тебя!
– Я знаю, – сказал я, – он мне звонил. Он просит очередной миллион.
– Дай ему половину, – сказал Жора, – пусть подавится.
– Сам дай.
– Ладно, приезжай, разберемся.
– О'кеу, – поставил я точку в разговоре.
Мне не хотелось ничего объяснять, и я сказал, что перезвоню позже.
– У тебя такой тон, словно ты стоишь под венцом в храме Парижской Богоматери.
– Так и есть.
– Я рад за тебя, – сказал Жора, – очень рад. И пока пишет твой карандаш, ты должен, не покладая рук, трудиться, трудиться…
Жора был весел, видимо, у него появилась уверенность в том, что дела наши сдвинуться с мертвой точки.
Наконец мы выспались и теперь просто молча лежали рядом, глядя в потолок.
– Ты – чудо! – прошептала Аня, приподнимаясь на локоть, – знаешь, я… Что это у тебя?
Она глазами указала на мою голень, где красовался тот злополучный шрам от пули, настигшей меня в Валетте.
– А, так… ерунда, – сказал я, – Мир хотел ухватить меня за лодыжку.
Чтобы коснуться пальцами ее лица, мне достаточно было протянуть лишь руку. Аня улыбнулась, затем снова устроилась со мной рядом, прижавшись всем телом. Я обнял ее…
– Это было, как если бы ты построил свою Пирамиду? – спросила она.
– Что?
Я думал, она спросила о шраме, но тут же сообразил, что спрашивала она о прошедшей ночи.
– Как будто бы я на нее взошел, – поспешил я с ответом.
Аня закрыла глаза и вдруг, улыбаясь, взяла обеими руками край одеяла и укрылась с головой. А я встал, и теперь уже думая о том, что сказал Жора, направился в ванную.
– Этот Жора твой – разрушитель, – донеслось из-под одеяла.
– Да, – согласился я, – в этом ему нельзя отказать.
И вот что мне еще тогда пришло в голову: общение с Аней доставляло мне истинное наслаждение.
Юле я так и не позвонил.
Глава 5
Я не стал рассказывать Ане о том, что «этот Жора» на самом деле придумал устройство для разделения животных тканей на отдельные клетки и назвал его очень точно – дезинтегратор. Когда я потом рассказал ей об этом, она произнесла:
– Он разрушитель всего. Я знаю таких.
– Он создал не только прибор, но и способ, – стал было я на защиту Жориного устройства, – позволяющий разделять ткань…
– Не разделять, а разделывать.
Аня сделала паузу и затем добавила:
– Жизнь на куски. Я знаю таких.
Мне нечего было возразить на Анин выпад. Женская интуиция, как и женская логика – это такая удивительная штуковина, понять которую удается не каждому. Спор по этому поводу не имеет смысла.
Часам к семи вечера мы, наконец, привели себя в порядок. Ане нездоровилось. Видимо, ночь, проведенная на холодной скамейке, дала о себе знать, и я, врач, всеми силами и умением старался предупредить всякую возможность заболевания. Я ринулся на поиски хоть каких-нибудь лекарств, рылся в столиках, тумбочках, шкафчиках, пеналах и, ничего не найдя, решился на народные средства. Я провел сеанс массажа, напарил ей ноги, напоил горячим чаем с малиной, все как принято у людей, она хорошенько пропотела под пуховым одеялом, затем я ее купал в ванне, как ребенка, и вот мы уже собрались ужинать. Ей стало лучше, и она не переставала хвалить меня.
– Ты просто гений!
– Иногда выгодно быть чьим-то кумиром.
– В чем же тут выгода?
К этому времени я уже освоился в Аниной квартире. Когда я вдруг застывал на месте в поисках чего-нибудь нужного в данный момент, скажем, оливкового масла для приготовления гренок или кода в компьютере для беглого просмотра своего электронного почтового ящика, Аня тотчас подсказывала, как выйти из затруднительного положения. Я благодарил и с радостью принимал ее помощь. Нам нравилась эта игра в новую семью. По всему было видно, что это квартира одинокой женщины. Если я иногда случайно и набредал на мужские вещи, скажем, на огромный белый, как чаячий пух, пустующий и поникший на вешалке скучающий халат в ванной комнате, я просто не видел его. Я не замечал ни зубных щеток, ни подтяжек, забытых на спинке кресла, ни увесистой трубки темно-красного дерева с головой Мефистофеля, и ни разу не спросил Аню, не собирается ли она, в связи с приобретением такого количества мужских аксессуаров, изменить пол. Еще чего! С какой такой стати?! Постоянно хотелось есть, да, я жутко проголодался. Это был знак прекрасного расположения не только тела, но и духа. Наконец мы сели за стол, я взял бокал и, как пес, втянул в себя запах вина.
– Аня, – сказал я, – ты волшебная женщина! А я, дурак, этого не знал.
Она посмотрела мне в глаза так, как только она умеет это делать.
– Конечно, – сказала она, – волшебная. И ты, не дурак, этого не мог не знать.
Мы чокнулись и отпили по глотку. Она поставила свой бокал на стол и добавила:
– Ты всегда это знал.
Я смог подтвердить ее слова лишь кивком головы, поскольку рот был набит каким-то острым и ароматным салатом, щедро приправленным настоящим французским майонезом.
– Какая у нас на этот вечер программа? – спросил я, с удовольствием уплетая зажаристую яичницу с сочными кусками непрожаренного мяса.
– Разве тебе у меня не нравится?
– Как можно, что ты! Почему ты об этом спрашиваешь?
Мне так и не удалось позвонить Жоре в тот вечер. Не хотелось. Мне пришлось бы выдумывать какую-то историю, чтобы не говорить всю нашу с Аней правду, которая была прекрасной. Да, эта правда была славной, правда для двоих, и я не имел права ее оправдывать перед Жорой. Ни перед кем. А то, что в очередной раз затеял Вит, думал я, никуда от меня не денется.
Глава 6
Перед нами была очередная, я надеялся, ночь наслаждений, и я терялся в догадках: как мы ее проведем? Меня совсем не удивляло, что Аня в течение всего этого времени, когда мы были одни, ни разу не обмолвилась о своем решении относительно переезда в Америку. И я не торопил ее с ответом. Пусть все идет своим чередом. Мы сидели в уютной кухне, пили легкое перно или что-то красное от J.P.Chenet и вели мирную беседу.
– Du vin rouge, du vin rouge? – зачем-то дважды произнесла Аня, смакуя вино, – мне оно очень нравится. А тебе?
Прошедшая ночь снова сблизила нас, и теперь мы были еще более откровенны в своих высказываниях. А нам было что сказать друг другу. К сожалению, ей нездоровилось и мы решили остаться дома. Аня обещала со временем показать мне свой «Мулен Руж», познакомить с друзьями. Успеется. Они у меня славные, сказала она, и не дадут в обиду. Она произнесла это с гордостью, и я заметил в ее глазах блеск уверенности. Не всякая женщина может похвастать таким блеском. Вскоре разговор наш вернулся в старое русло. Ведь нет ничего приятнее, чем с радостью или сожалением вспоминать о том, что ушло навсегда. И вина оказалось мало. После третьей или четвертой рюмки коньяка – проверенное народное средство от гриппа и тоски по прошлому – начались укоры и признания.
– Я знала каждый твой шаг.
– Ты следила за мной?
– Ты переспал со всеми, а меня не видел в упор. Ты…
– Дык… – пробормотал я, защищаясь, – мы и с тобой, кажется, тоже…
– Ты только пробежался по мне…
– А помнишь, как мы с тобой зимой?..
– Я дам тебе почитать свой дневник. Он написан кровью.
Она снова отпила из рюмки, облизнула кончиком языка верхнюю губу и, медленно поставив рюмку на стол, уперлась в меня, как жерлами двустволки, черными зрачками.
– Я любила тебя, – наконец произнесла она так тихо, что ни одно из произнесенных слов не долетело до моего слуха. Я прочел их по губам, и они обездвижили меня, как железная спица обездвиживает лабораторную лягушку, пройдя через весь ее спинной мозг. Такие запоздалые признания кого угодно загонят в тупик. Я понимал, что какие бы прекрасные и мягкие слова я сейчас не извлек из кармана, они не могли бы вытащить меня из той далекой каменной ямы холодного бездушия и глухой безответности. Впервые в жизни раскаленный свинец непостижимого стыда переполнил мне рот, и я спрятался за ширму молчания. Почему? До сих пор не понимаю, в чем моя вина.
– Да, я любила тебя, – Аня собралась теперь с духом, – но ты запер меня и выбросил ключ. Ты не только меня – всех нас предал.
– Предал?!
– Ну да!
– У меня и в мыслях не было…
– Ты этого даже не заметил. Ты перешагнул через каждого из нас, сломанного и брошенного на дороге, как в погоне за славой перешагивают через… через…
Ей не хватало слов, и я сделал очередную попытку защитить свое доброе имя. Но Аня не дала себя перебить. Обвинения лились в мою сторону, как горячая смола из котла.
– Ты, как Алиса, загремевшая в Кроличью нору, – заключила она, – падаешь и растешь, и чем ниже ты падаешь, тем сильнее становишься. Правда, я не знаю пока, в чем твоя сила.
Мне пришла в голову какая-то расхожая в дни нашей молодости, дурацкая, похабная шутка, и я не смог удержаться.
– Наша сила, – кисло улыбнувшись, пробормотал я, – ну, ты знаешь в чем…
Это было жалкое подобие защиты от Аниных нападок, хотя я, повторяю, не чувствовал за собой никакой вины.
– Сила не только в том, чтобы защищать себя, но и в том, чтобы уметь расставаться с тем, что тебе наиболее дорого. Но ты просто сбежал от нас, предал…
Мне нечего было ей на это ответить. Я всегда считал, что предательство – последнее дело, и если тебя предали, нужно сжечь все мосты и жить дальше, не оглядываясь на прошлое. Ожидаемая ночь наслаждений превратилась в ночь душевных откровений. Мы не выясняли, как часто бывает после долгой разлуки, кто прав или кто виноват, мы просто говорили друг другу правду о нашем настоящем и прошлом. Вдруг ее вопрос:
– Что такое любовь? Ты, я знаю, все знаешь, скажи!..
Я поймал себя на мысли, что когда-то уже отвечал на этот вопрос.
– Это когда несмотря ни на что, – отбарабанил я.
Зная, что такие признания за рюмкой чаще всего прячут наши тайны, я, тем не менее, знал и то, что в Аниных словах не было ни йоты наигранности и тем более фальши. Никакой тайны не пряталось за ее словами, и ей незачем было вводить меня в заблуждение.
– Долгие три с половиной года я жила здесь в мире дешевых и дурных запахов, – продолжала Аня, – я такого насмотрелась, такое узнала…
Ни с того, ни с сего я вдруг засмеялся. Аня посмотрела на меня так, что я захлебнулся.
– Перестань, – сказала она, – твой смех пронизывает все мои жилы…
Она прервала свой рассказ, и в уголках ее глаз снова вызрели бусинки слез.
– Это правда. Когда глаза мои открыты – я до сих пор устаю от того, что вижу. Знаешь, как было непросто.
Я мог себе это только представить.
Это был мой промах. Но вскоре мы снова пили вино, и ночь была, как и прежде, прекрасной.
Пришел новый день.
– Мне кажется, – сказала Аня, – что ты теряешь голову.
– Это лучшее, что во мне есть.
То, что я испытывал, было для меня прекрасно и ново. При этом у меня и мысли не было, что я вовлечен в очередную любовную историю. Я и в самом деле терял голову.
Помня, конечно, о Юле.
И думая о том, что надо не забыть позвонить Людочке.
Глава 7