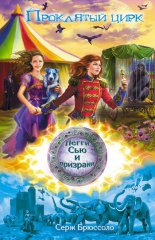Черная молния вечности (сборник) Котюков Лев
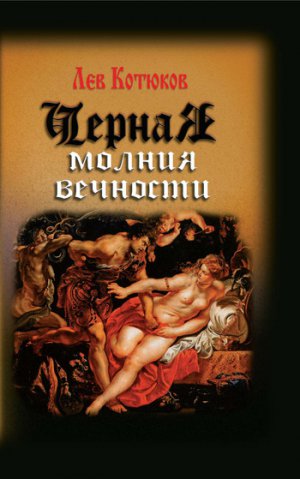
Незавтракавшему и неопохмеленному Толе только и оставалось пожелать приятного аппетита своему новоявленному цивилизованному работодателю. Но, однако, он скромно воздержался от сего пожелания и голодной рысью ринулся в благодетельный «Сов. пис.» Прямо с издательского порога швырнул на стол редактора подстрочники прибалта и гаркнул:
– Нет уж, лучше останусь с Кавказом и Востоком, чем с этими!..
Чего уж тут лукавить: восточные поэты не лезли за словом в карман – и, без сверки часов, в упад упаивали своих русских литрабов.
И ныне Кавказ по-прежнему с нами, под нами, над нами, а эти… А этих вроде и совсем нет, как, впрочем, нет и приказно выдуманной поэзии народов СССР. Умеет время скверно шутить не только над поэтами. Ох, как страшно порой шутит! Кроваво и безжалостно. И остается лишь сверять свои часы с песочными часами вечных незримых пустынь, дабы не исчезнуть в самом себе от чудовищных, сатанинских шуток нашего времени.
Ныне почти никто не помнит былых ведущих «русских» поэтов, разве что их уцелевшие переводчики. Ни кешоковых, ни межелайтисов… Но и нынешних ведущих поэтов России знать никто не знает, да и не особо тщится знать. И не нужны никому нынче ведущие, – и без поэтов люди наловчились идти, куда надо и не надо…
Советское время – не самое худшее в истории нашего отечества. Но один его грех поистине непростителен. Это внедрение в массовое сознание безоглядного доверия к печатному слову и пропаганде. «По радио сказали… В газете написали…» И всё! И никаких сомнений у большинства. А у меньшинства?! В лучшем случае – кукиш в кармане. А в худшем – свое лживое слово и своя пропаганда.
Но сдается, что эта инерция доверия даже не в сознании и подсознании, а в бессознательном. И это совсем невесело, ибо остается только верить, а не надеяться на лучшее. Что ж, пусть остается хотя бы это… И напрасно один поэт, а может, я сам, сказал: «Хорошо, когда нечего больше терять!..»
Я не случайно привел пример Передреева, жестоко угробившего свой талант на переводы. Но бесы пустого желудка неустанно витали над головами русских поэтов в советские годы. Сколько талантливых людей погрязло, безостатно сгинув, в переводческой поденщине! Сколько славных ребят без «железных ворот ГПУ» оказалось за бортом литературы и жизни, надорвавшись в неблагодарной и, увы, пустой, как непрожитое время, работе!
Нет, братцы, пить надо все-таки меньше!!! И бывшим переводчикам литературы народов СССР, и бывшим ведущим поэтам, и нынешним завидущим…
Устоявших, вышедших живыми из свинцовых вод литературного донорства, – единицы, таких матерых гигантов, как Владимир Цыбин и Юрий Кузнецов.
Но Юрий Кузнецов – это как бы Ельцин русской поэзии. И не каждому пьющему секретарю обкома дано быть пьющим президентом.
А Цыбин?! Цыбин, слава Богу, остался самим собой – и не томится бессонным беспокойством, что кто-то может занять его секретарское или президентское место в русской поэзии.
Юрий Кузнецов где-то обмолвился, что не был знаком с Рубцовым и видел его всего один раз (?!) на кухне общежития. Вроде бы Рубцов, принюхиваясь к чужой жарящейся картошке, строго спросил: «А почему вы меня не признаете?» На что кухарствующий Кузнецов глубокомысленно ответствовал:
– Двум гениям на одной кухне тесно!
Или что-то в этом духе.
И не предложил голодному Рубцову угоститься жаревом, что на него не похоже.
Может, оно так и было. Но как-то больше напоминает апокриф, сочиненный во славу себе, твердокаменному. Но талантливый апокриф. Однако свидетельствую, что неоднократно замечал Рубцова и Кузнецова в общих винопитиях. Но мало ли что мне могло примерещиться тогда – и пригрезиться нынче?..
Может быть, на старости лет и я вспомню, что вообще не знал Кузнецова, хотя и учился с ним в одном семинаре Литинститута, а впоследствии, в скитальческую пору, нагло проживал в его квартире, отвлекая хозяина от переводов поэзии народов СССР то сдачей пустой посуды, то еще каким-нибудь не менее достойным занятием.
Но отвлекусь от личных переживаний-воспоминаний. Не надо сильно трясти яблоню, на ветвях которой подвешены противотанковые гранаты. И слабо не надо трясти. И вообще не надо надеяться на все, сволочи, тьфу! случаи жизни, ибо сама жизнь не питает на нас надежд. И, наверное, абсолютно заслуженно.
Но у меня по сию пору в мозгах дятлоголово стучат слова вывески «Редакция литератур народов СССР»!!!.. Мощнейший по корявости звукоряд. Редакция литератур народов!.. Редакция народов литератур!.. Редакция СССР литератур народов!.. У!..
Но, надо признаться, все глуше и глуше сей бессмысленный стук и морок. Но еще различим, особенно в безденежье. И я искренне сочувствую многим своим коллегам, в одночасье потерявшим эту государственную кормушку, финансируемую за счет России.
Но не скорблю по поводу исчезновения с телеэкранов и из читательского сознания вышеупомянутых ведущих «русских» поэтов. Жаль, однако, что их место и время ловко заняли зубоскальные скетчисты типа Жванецкого, Задорнова, Горина да Арканова с Лионом Измайловым… Но это уже даже не литература народов СССР – и забудем о них ради краткости изложения, тем более, что небезызвестный Чингиз Айтматов пока еще не выбыл из ведущих «русских» писателей.
Поэтам национальных окраин жилось и печаталось в «беззакатные» советские годы несравненно привольней, чем русским литературным аборигенам.
В РСФСР по каким-то бредовым экономическим соображениям были ликвидированы областные издательства, объединены в зональные.
Их судьба оказалась печальней участи неперспективных деревень. Деревня еще как-то пыталась выжить – и даже, вопреки всему, выжила, а издательские структуры в областях уничтожились враз росчерком тупого интернационального пера. Впрочем, так ли уж тупого?.. Жаль – неведомы фамилии инициаторов той антирусской акции, небось не все еще перемерли, – и наверняка в каких-нибудь оппозиционных сборищах яростно шамкают за возрождение СССР.
Антииздательская акция удивительно синхронно совпала с хрущевскими гонениями на православную церковь. Помнится – в моем родном Орле прекратило свою работу издательство практически одномоментно со взрывом одного из главных городских храмов и переоборудованием кафедрального собора в… кукольный театр. Вот такая своеобразная идеологическая оттепель свалилась с Лысой горы не на лысую голову Хрущева, а на Россию. Зато горлопаны-шестидесятники могли свободно базарить за светлое будущее на столичных тусовках и брякать под гитару песенки Окуджавы про полночный троллейбус и комиссаров в пыльных шлемах.
А мне не забыть слёзы моей покойной бабушки у обугленных развалин храма – и свою юную тоску не забыть, причина коей мне в те годы была неведома.
У человека можно отнять даже веру. Можно отнять всё! Кроме смерти. Но смерть принадлежит Богу. У человека нельзя отнять ничего, но отчего демоны и бесы так стремятся завладеть человеком?!Давно бы пора предать анафеме словоблудного Никитку Хрущева. Предать анафеме по всем церковным канонам. Но не суди – и сам судим не будешь! – говорят мне. А я и не сужу. Я угрюмо удивляюсь, что с некоторых пор повсеместно исторгается из помойных глоток: «Является человек преступником или нет – может решить только суд. До суда никто не имеет права объявлять его злодеем! Будь он хоть Гиммлер, хоть Джек-потрошитель, хоть Чикатило!..»
Вот так-то! Следуя этому демократическому принципу, можно, ого-го! до чего дойти – и не возвратиться.
Есть Суд Божий! И церкви православной сам Бог повелел обрекать на проклятье злостных сокрушителей веры. И я никого не призываю к суду, а к исполнению воли Божьей. Но вместо анафемы отмечается 100-летие разорителя Никитки. И с какой помпой отмечается, что даже иерархи церкви замечаются на торжествах по случаю юбилея нравственного урода, жирнолицее лысоголовье коего можно с полным правом отнести к символам русского позора. С таким же успехом почему не отметить юбилей Берии или Кагановича?!..Каким-то чудом на исходе пресловутой хрущевской «оттепели» у Рубцова вышла скудная книжечка стихотворений в Архангельске, донельзя искромсанная безжалостными редакторами. Удивительно, но я ее ни разу не видел ни у автора, ни в библиотеках. А о разбое издательском слышал от Рубцова. Но как-то вяло он возмущался, скорее, дежурно, будто зная наперед, что обречен на признание и славу. Но не питало душу радостью это уверенное знание – и теперь ясно, почему. Эх, если бы знать!
А может, – наоборот?!
Но книга все-таки вышла, как в небытие канула, но Рубцова уже нельзя было изъять из русской поэзии.
Зычно гремели голоса шестидесятников над грязными сугробами пресловутой «оттепели».
Вознесенский требовал убрать Ленина с денег (видимо, уже тогда держа в уме доллары), Евтушенко призывал безоглядно любить Кубу и развивать тамошнюю сахарную промышленность. Рождественский отправлял письмо в стихах аж в 30-й век с надеждой на победу атеизма в мировом масштабе.
И удивительно: сия верноподданная публика и в России, и за ее пределами числилась чуть ли не в бунтарях и страдальцах!
И совсем кощунственно числилась в настоящих поэтах, имея к поэзии весьма далекое отношение.
Очень точно и остроумно их охарактеризовал Иосиф Бродский, когда в каком-то интервью у него спросили об отношении к стихотворчеству Евтушенко: «Это человек другой профессии!». – Но Евтушенко выступает против колхозов!.. – попытался кто-то защитить всепогодного рифмоплета. – В таком случае – я за колхозы! – ответствовал Бродский.
А Рубцов этой бесовской порой не внимал «призывам и звонам из кремлевских ворот», а смело и спокойно читал на всех своих выступлениях:Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..
О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти дойду до могилы…
Отчизна и воля – останься, мое Божество!
В тексте Божество было с малой буквы, но для Рубцова это слово было более, чем с большой.
Я уже упоминал разбойников – редакторов, которые зорко искореняли из литературы все православное. Но эти искоренители еще и норовили обобрать загнанных в подполье русских поэтов. Поистине сиротским оказался гонорар за первую книгу, сообразно с которым Рубцов строил свои житейские планы. Не ведаю, по какой причине и ради какой экономической целесообразности издательские жулики из Архангельска урезали его почти в два раза. Наверное, резонно решили: «Все равно пропьет!.. Уж лучше мы сами пропьем премиальные за экономию гонорарного фонда…» Где-то они теперь, эти экономные патриоты русской литературы? Небось, еще патриотствуют…
Просто грешно не вспомнить по сему поводу сомнительное высказывание Льва Толстого, что патриотизм есть последнее прибежище негодяев. Кстати, в массовый оборот сии слова классика пустил не кто иной, как Евтушенко, истолковывая их буквально. Впрочем, возможно и сам Толстой их иначе не толковал. Но не нам судить Толстого, и не евтушенкам радеть о чистоте чужих душ!..
И есть иное осмысление этого высказывания. Дескать, патриотизм настолько всеобъемлющ, что, подобно христианству, может принять в себя самого распоследнего негодяя. Как Савл стал Павлом, так и негодяй в лоне патриотизма вмиг преобразится в добродеятеля со всеми вытекающими благородными последствиями.
Но, угрюмо думается, все же негодяю более к лицу, или к харе, другое верное прибежище – тюрьма. Патриотизм с негодяями – это уже как-то не очень. Но с другой стороны – и без негодяев не очень. Они – неустанные движители русской жизни, а стало быть, и патриотизма. Да ежели на земле русской враз и повсеместно изведутся негодяи, то и патриотизм окажется без надобности.
Но это черте что получается! Так что, как ни крути, но прав великий Толстой: патриотизм – действительно прибежище. Сие ныне мы зрим невооруженным глазом – и в союзах писателей, и вне союзов, на самом высшем уровне, и остается только вздохнуть. Но можно обойтись и без тяжкого вздоха.
Скудные гонорары безысходно толкали многих из нас на переводческую стезю. Но в Литинституте зачастую русские писатели обращались к переводам «литератур народов СССР» совершенно бескорыстно. Мы переводили своих товарищей по курсу и семинару, и просто хороших собутыльников из республик.
Я, например, с удовольствием переводил стихи абхазца Виталия Амаршана. Он принадлежал к одному из древнейших княжеских родов Колхиды и очень обижался, когда я говорил, что он теперь не князь, а всего лишь трудящийся свободного Востока.Учились с нами прекрасные ребята из Белоруссии, Украины, Прибалтики, Дагестана. Светлая память безвременно ушедшим из жизни Грише Одарченко, Миколе Федюковичу, Евгену Крупеньке, Арво Метсу!..
Рубцов тоже дружил с ребятами из республик – и они его любили, не раз выручали в трудную минуту. Но от переводов, за редким исключением, уклонялся, но не уклонялся от обильных национальных застолий.
Но одного поэта, осетинца Хазби Дзаболова он выделил и перевел, кажется, пятнадцать его стихотворений. Въявь вижу грустное лицо Хазби, въявь вижу его тихую, печальную улыбку. У меня по случаю оказался том Бориса Пастернака из «Библиотеки поэта» с предисловием крамольного Андрея Синявского. Я тогда увлекался Пастернаком и по своей зелености восторгался вялым косноязычием типа: «Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку…»
Удивительно ловким человеком надо быть, чтобы одновременно выйти на подмостки и прислониться к дверному косяку.
Но тогда это казалось мне совершенством – и деликатнейший Хазби, видимо, желая разделить мои сопливые восторги, попросил почитать Пастернака. Я охотно согласился и был весьма огорчен, когда по возвращению книги, на вопрос: – Ну как? – милый Хазби лишь неопределенно развел руками.
Хазби Дзаболов трагически погиб в 1969-м на 37-м году жизни. Его судьба удивительно схожа с судьбой Рубцова.
Не потому ли Рубцов выделил его и щедро увековечил в русском слове? С полным правом могу отнести это к одному из примеров печального провидчества Рубцова, ибо больше он никого никогда не переводил, но от застолий национальных не уклонялся.
Как-то раз за гортанным интернациональным столом он вдруг встал и произнес пронзительный тост за Кавказ, без которого немыслимы ни Пушкин, ни Лермонтов, без которого как бы и нет русской литературы.
– Вах! Вах! – одобрительно зацокали выходцы из безвестных горных аулов.
– Добре! Добре! – почему-то на хохляцкий манер пробасил розовощекий выходец из Рязани.
А Рубцов напослед, видимо, вдохновленный всеобщим одобрением, неожиданно прорезавшимся командным морским голосом, громово провозгласил:
– За Кавказ!!! Ввиду важности тоста всех прошу встать!!! Сборище дружно громыхнуло стульями и вытянулось по стойке «смирно» со стаканами наперевес в ожидании сверхславословий.
Рубцов умело выдержал паузу и тихо, но веско добавил:
– Ввиду ответственности и важности тоста всех инородцев прошу выйти вон…
Думается, нет нужды описывать дальнейшее: треск ломаемой мебели, грохот бьющейся посуды, ругань и бестолковое рукоприкладство. Но удивительно – не затаили на Рубцова злобу собутыльники, причисленные им к инородцам, не заклеймили за великодержавный шовинизм, – и через день-другой поэт, как ни в чем не бывало, приглашался для украшения очередного кавказского пира.
Ребята из республик получали всевозможные дотации от своих столичных представительств и республиканских писательских союзов в отличие от своих русских сокашников. Я, например, за годы своего ученичества не получил ни на копейку подмоги от Орловского отделения Союза писателей России, хотя казалось бы. Ведь край Тургенева, Лескова, Бунина, Фета, Тютчева, Андреева, Пришвина и других гениев отечественной словесности. Но куда там! Даже жалкий приток гонораров из местных газеток прервался. «Учится в Москве, пущай там и печатается!.. Нашелся, понимаешь, талант!.. Тьфу!..» Вот так мы заботились, да и поныне заботимся о наших национальных дарованиях. И Рубцова не шибко привечала тогдашняя Вологодская писательская команда. И многих других русских ребят пинками ласкала малая и большая родина.
Но не только материально жилось легче студентам из республик. Редкий из них после каникул не возвращался без книги, изданной на родном языке, а иногда и в русских переводах. Для молодого русского стихотворца в те годы была мечтой недосягаемой собственная тоненькая книжка. И горько констатировать, что не один талант с этой мечтой ушел в мир иной, где, наверное, не нужны ни мечты, ни таланты.
Рубцов вопреки всему не соблазнился переводческой поденщиной. И если мне раньше думалось, что причиной тому его скитальчество и бытовая безалаберность, то теперь четко вижу – мудрость и трезвейший расчет. Скольких бы шедевров мы не досчитались, ежели б занялся он поэтическим донорством! Может быть, вообще остался бы рядовым талантом, а не обратился в ярчайшее явление отечественной словесности. Напрасно некоторые литературоведы сокрушаются, что якобы транжирил свой дар. Нет, трижды нет!!! Не транжирил и не разменивал, ибо осознанно отвечал за него перед Богом. И не случайно он жестко, но верно сказал:О чем писать? На то не наша воля!
Не осилили его демоны и бесы переводчества, как не осилили бесы голода и сытости.
Но, о, как многочисленны бесы и демоны! И как они унифицированный Ты их в дверь, а они в окно! Неисчислимы области демонов, бесчисленны их пути и лазейки в душу человеческую. И немногие способны выстоять, и единицы, подобно Рубцову, могут выдохнуть им в лицо:
До конца,
До тихого креста,
Пусть душа
Останется чиста!
Однажды с величайшими ухищрениями и унижениями мы проникли с Рубцовым в ЦДЛ, куда его было не велено пущать. Проникли в надежде встретить щедрейшего Владимира Соколова и угоститься за его счет пивком, а еще лучше «Старкой», которая была весьма популярна в писательских кругах в те годы.
К сожалению, Соколова мы в буфетах не обнаружили, но узрели одного сокашника-дагестанца. Он гордо и благоговейно восседал в кругу обочь тела самого Расула Гамзатова. Завидев нас, однокашник приветственно помахал рукой, даже потянулся за бутылкой, но враз сник под строгим взглядом тамады. Мы уныло развернулись и, не солоно похлебавши, пошли вон. За дверями писательского дворца Рубцов грустно сказал:
– Пусть уж лучше Расул Гамзатов…
– Что – Гамзатов? – недоуменно спросил я.
– Пусть уж лучше он будет первым русским поэтом.
– Чем кто?
– Чем эти!.. – буркнул он и неожиданно улыбнулся.
Светло, светло улыбнулся, будто впереди нас ждал не зимний голодный вечер в общежитии, а крепкий чай с пирогами и милыми дамами под оранжевым абажуром в теплой арбатской квартире.
Я тогда не стал допытываться, кто – «эти!». Но ясно, кого он имел в виду: «людей другой профессии», которых так точно обозначил и заклеймил Иосиф Бродский.
Америку открыл Колумб, а Россия сама собой открылась, оттого она и Россия. Россия – сиротский приют для русского человека. Даст Господь – и когда-нибудь сей приют обратится в дом родной. Когда-нибудь… Но это будет уже не Россия. А иностранцы в России?! А с них не убудет, они как говорится, и у себя дома – иностранцы.
Неужели когда-нибудь все будет спасено, как уничтожено, ибо знание, обратившееся в информацию, есть заблуждение, а не приближение к истине? Но жизнь продолжается, может быть, вопреки себе самой. И надо идти, если даже идти некуда. И бессмертие души человеческой обретается на земле, и бессмертная душа дороже целого мира.
Глава восьмая
Легко счесть годы, месяцы, дни настоящей жизни. Но не счесть, сколько пустопорожнего времени протекло, просочилось, провалилось сквозь душу! Прошло и сгинуло, тускло, тяжело, бестолково.
В томительные часы бессмысленных лекций по политэкономии социализма или спецкурса по роману «Цемент» Федора Гладкова (этот чертов «Цемент» был одним из вопросов моего билета на госэкзаменах. Надо же!..) одно утешало скуку души: сейчас смотаюсь в библиотеку – и!.. И враз отступит, отпустит душу цементно-экономический бред и морок.
А библиотека Литинститута была замечательной – и никто ее не разворовывал, кроме рассеянных студентов. Можно было спокойно, без оглядки выписать «Опавшие листья» запретного, неведомого Василия Розанова, или «Жемчуга» сверхзапретного, но известного Николая Гумилева. Тихо, без особого спроса, пылился на полке «Один день Ивана Денисовича». И никто не мешал за скучным чтением посредственной, но скандальной прозы грезить бесстрашно о грядущих «красных колесах» и еще черт знает о чем, ведомом и неведомом.
У околобиблиотечных людишек в ксероксах и перепечатках свободно переходили из рук в руки «Архипелаг Гулаг», «В круге первом» и даже гениальные «Колымские рассказы» забитого, забытого, обиженного судьбой и соратниками по перу Варлама Шаламова.
И читалось запретное ночами напролет, до красных кругов в глазах.
А в незримом – дьявольским образом обращались красные круги в кровавые колеса. И убыстряло, напрягало чудовищный ход всепожирающее, живое колесо Истории.
Ревел адский огонь в черных дырах сатанинских, и беспощадно, с дыхом железным, вращалось и вращалось Вселенское колесо.
Но в библиотечной тиши чудилась бесконечная недвижность, чудилось, что все давным-давно свершилось и прошло, что ничего никогда уже не будет и быть не может даже после конца света. И совсем уж глупо мечталось о собственных ненаписанных книгах, которые, подобно «Архипелагу Гулагу», тоже будут запретны. И хотелось в меру пострадать незнамо за что… В страдальчестве тайном великая, последняя любовь грезилась…
Но иные содумники юных лет страдали без утайки, гордились и дорожили своим открытым страдальчеством. Но не желали понять и признать, что не стоят выеденного яйца их натужные страсти, что время кровавого страдальчества принадлежит другим. Но личные пустые страсти упорно множились на несущественные общественные, нули множились на нули, мороча сознание иллюзией больших чисел, путая все здравые выкладки и расчеты. И несуществующее путалось с существующим. О, сколь многое путалось!.. И по сию пору путается – и в ногах, и в мозгах, и в незримой пустоте паучьей.
А библиотека Литинститута была замечательной, поклон ей благодарный. Но вот книг Владимира Набокова в ней, увы, не было. А без Набокова, как и без Шолохова, нельзя представить отечественную словесность 20-го века.
Оно, конечно, можно – и даже вполне возможно. Ведь обходятся иные наши борзописцы без «Тихого Дона» и без «Других берегов», да еще их творцов постыдно хают. И ничего – не обеднели духовно и утробно, и честно числятся в литературоведах, критиках, а Солженицын аж в пророках. И даже чего-то там сочиняют и учат-поучают в том же самом благословенном Литинституте имени Горького с несгибаемой глупостью и самоуверенностью, как и в старорежимные годы, но уже не при Союзе писателей СССР.
И вот как-то, не помню уж по какому поводу, в разговоре о Бунине, которого Рубцов очень ценил, возникла фамилия Набоков. Есть, дескать, в эмиграции русский писатель, превзошедший славой настоящего Нобелевского лауреата, но настолько ярый, злобный антисоветчик, что лучше помалкивать. И всеведущий товарищ без лица и фамилии многозначительно обвел рукой стены.
Стены общежития Литинститута имели уши – и очень, очень хорошие. Все это прекрасно знали, но особо не таились от сих «всеслышащих ушей», а в хмельном виде и подавно. И напрасно иные обитатели нынешней всепрослушиваемой России гордятся своей, завоеванной в битвах с коммунистическими хищниками, свободой. Свободой лживой и брехливой. И в давние стукаческие времена можно было говорить о чем угодно. Но не с каждым!..
И, в первую очередь, с пережившими всё и вся нонешними свободолюбивыми брехунами.
Меня почему-то развеселила столь необычная для советского звукоряда фамилия. Я хмыкнул и брякнул что-то вроде:
– Боков! На – Боков!.. – и совсем уж бездарно вспомнил и переиначил злую эпиграмму: – Ничего глубокого нет в стихах Набокова у Бокова!
Кое-кто хохотнул, а Рубцов молчал и отстраненно помаргивал. Имел он такую слабость в подпитии: моргает, моргает – и молчит, будто кого-то из себя выгоняет. Морг, морг ресницами, того гляди бабочки васильковые из глаз вылетят. Выпорхнут и тотчас сгорят налету. Проморгается, колко, неузнаваемо скользнет взглядом по смутным лицам, – и дыхнет из усталых, измученных глаз, и пронзит тебя до оторопи настороженное чужое нечеловеческое ожидание. До озноба, до немыслимого протрезвления пронзит чужая явь, грядущая, смертельная. И с ужасом отчетливо поймешь – нет передыху и нет конца этому страшному неземному ожиданию. И нет ему ответа и исхода ни при жизни, ни после смерти.
О, как умеют застращать, извести под корень надежду во времени демоны ожидания! И как приходит к человеку слабое понимание, что терпение и ожидание совершенно разные понятия, что ожидающий всю жизнь вечности остается во времени навсегда.
А Рубцов, проморгавшись, раздраженно, как на тусклый свет, буркнул:
– При чем здесь Боков? Набоков!.. Слышал!.. – и добавил совсем раздраженно: – Что тебе надо от Набокова?!
– Абсолютно ничего! – с ухмылкой ответствовал я.
– Ну и хорошо, что ничего… Вот и хорошо… – и круто переменил тему общего трепа, поскольку запасы спиртного на столе сгинули, как последние огни в ночном поле.
Теперь-то я понимаю, отчего он так резко оборвал меня. Естественно, не по причине досрочной убыли питья, хотя и этот факт имел место, а по причине всезнайства человека без лица и фамилии. Но, думаю, он не лукавил, когда обронил впоследствии, что ничего не читал из Набокова.
А слышал он о Набокове, мне думается, в годы проживания в Ленинграде от своего приятеля Эдика Шнейдемана. Шнейдеман принадлежал к подпольным литераторам, в этом кругу замкнуто вращался и безвестный в ту пору Иосиф Бродский. Много запретного ходило тогда в списках по рукам, но Набоков, видимо, не успел дойти до Рубцова.Волей-неволей возвращаюсь к унылой теме страданий, гонений, репрессий.
В те годы в Питере-Петрограде-Ленинграде царил жирнолицый песнопевец Александр Прокофьев, разменявший свое незаурядное дарование на службе ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ, а в поздние времена на торопливый, потный, вонючий российский холуяж. Он зорко «покровительствовал» молодым талантам и служил властям не за страх, а за совесть. Удивительно, но и он, подобно Твардовскому, «не заметил» восходящей звезды полей Николая Рубцова. А может, и действительно не заметил, поскольку обзирал поэтический небосклон через растущий бугор собственного брюха. Увы, но иным субъективным людям жирные животы застят не только подножный обзор.
Александр Прокофьев, а для соратников коротыш Сашка из железных ворот ГПУ, предпочел поиску новых имен в русской поэзии иную позорную тайную стезю, прославившись организацией и руководством бездарного судилища над Иосифом Бродским.
Но так ли уж бездарным?! Кто бы знал Бродского, не вспыхни над его кучерявой лысиной сухая гроза советского правосудия?!
Прокофьев верно и бесповоротно на гнусном судилище помог обрести мелкому диссиденту громкое литературное имя в Отечестве и, в первую очередь, за рубежом. И не будь лауреата Ленинской премии Прокофьева в прокурорах – как знать, стал бы Бродский Нобелевским лауреатом.А вот Набоков так и не был замечен Нобелевским комитетом, хотя, казалось бы. Видимо, недостаточно антисоветчен оказался, ибо тайные уколы в адрес коммунистического режима в его писаниях можно счесть на пальцах, в отличие от громокипящего, бескомпромиссного Бунина. И остается лишь удивляться, за что и про что столько лет он был запретен у себя на родине. Может, за тягомотную «Лолиту»?! Но Набоков и без «Лолиты» великолепен. Ведь издавали же Бунина без «Окаянных дней», – и не умалился резкий, великий талант. Писатель – раб своего таланта. И вовек нет ему свободы от своего дара Божьего, ибо высшая свобода есть рабство Божье. Но раб, понимающий, что он – раб, во сто крат вольней субъектов, числящих себя владельцами и распространителями так называемого свободомыслия.
Набоков был рабом своего яркого таланта. Но не дремали бесы и демоны, реяли вкруг незримого света – и бубнили, бубнили, бубнили, не ведая устали и хрипоты, на ухо гению:
«…Не раб, не раб, не раб!!! Хозяин, хозяин, хозяин!!! Никто никого не любит!!! Никто никого!!! И Бог никого не любит!!! И зло не есть безумие!!!..»
Невозможно представить, чтобы Набоков, подобно Рубцову сказал:О чем писать?! На то не наша воля!
Эх, как это проглядел Рубцова лисьеглазый Прокофьев?! Забавное бы состоялось судилище! Ведь было за что, в отличие от неопределенно-туманного, скучного Бродского с его непрозрачными намеками. Ну хотя бы за это:
Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлевских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.
Или:
Стукнул по карману – не звенит!
Стукнул по другому – не слыхать!
В коммунизм, в безоблачный зенит
Полетели мысли отдыхать.
И можно подытожить совсем аморальным, антиобщественным с явной манием величия:
Мне поставят памятник
На селе.
Буду я и каменный —
Навеселе.
Проглядели, черт возьми! А может, сбило с толку то, что Рубцов, не в пример злостно тунеядствующему Бродскому, работал в горячем цехе Кировского завода. Да он всю жизнь с малых лет работал, а не срывал «цветы удовольствия» и не порхал по райским, хмельным кущам певчей птахой, как ныне почему-то кое-кому кое-где кажется. Нет, не годилась его кандидатура в Нобелевские лауреаты, – и иной объект выбрали всевидящие демоны и бесы на сию роль. А жаль! Жаль, что Рубцов, как и Набоков, не пополнил ряды русских писателей под сенью Нобелевских лавр.
Грешен, но дорвавшись до Набокова в годы обморочного развала и катастроф, я поначалу недооценил писателя. Можно сказать, почти разочаровался. Уж больно много материальных вещей и вещичек перегружали его прозу. Какая-то сверхизбыточная любовь к предметам. И усталое, злое, бессмысленное презрение к человеку. И к самому себе в первую очередь. Да, да, именно к себе! Тайное, всепоглощающее, страшное презрение. Кто-то со мной не согласится, но я и не собираюсь ничего доказывать – и даже не советую перечитать повнимательней Набокова. Я не советчик и не антисоветчик! Я просто очень жалею Набокова.
Страшен человек, ненавидящий других, но во сто крат страшней человек, презирающий самого себя. Чтобы возлюбить ближнего и Господа, надо хоть чуть-чуть возлюбить самого себя, ибо самопрезрение есть смерть Господней любви в человеке.
Тяжко возлюбить человечество и порой невподъем просто человека. Но надо! Ну хотя бы за то, что человек создает материальные вещи, которые можно обращать любовью в нематериальные, то есть одухотворять любовью.
Одухотворение вещей есть малосильное стремление стать Богочеловеком. Нет, скорее Человекобогом. Но им Набоков, к счастью, не стал и не мог стать. И, может быть, за это презирал сам себя, а чтобы не было совсем скучно, обрекал на презрение весь мир Божий, лежащий во зле не по воле Божьей. И так ли все-таки безумно зло?! Ибо сказано: «Хочешь быть мудрым в мире сем, будь безумным!»Теперь-то я понимаю, что несправедливо придирался к писателю, был зашорен воспоминаниями и россказнями о его непомерной гордыне. Конечно, великолепный Набоков был фрондер. И позволял, именно позволял себе фрондерство до конца дней своих. Но с гордыней он был в более сложных и страшных отношениях, чем нам, негордым, представляется. А любовь к предметам томила его не из-за презрения к человеку, а из-за разлучения с отчей землей, с языком отчим, с унижением земли и слова русского.
И сдается мне, что цеплялся он за предметы, как за якоря земного притяжения, дабы не сгинуть в чернодырье обессловленной пустоты космополитизма. Но опущу ради краткости изложения свои скромные размышления о Набокове, я же ведь вспоминаю, как нам с Рубцовым не удалось в свое время прочитать Набокова.
И вообще не зря сказано: скромность украшает скромного человека.
А происходило наше непрочтение в 1966 году, или чуть позже. И Набоков был жив, здоров, исправно писал, и книги его исправно выходили на Западе, – и, наверное, весьма и весьма бы удивился, проведай, что в пыльной хрущобной Москве, в бедном общежитском застолье не всуе поминается его имя. А может, и порадовался бы без удивления – и, как знать, глядишь, и подвигся бы на посещение мрачной родины, а может, и на последнее возвращение.
И напрасно некий удачливый подражатель Набокова, нынешний литературный воротила, однажды уверял меня, что до массового растиражирования своих писательских опытов ведущими советскими издательствами не был знаком с прозой великого скитальца и даже был притесняем и гоним. Гоним, наверное, для массового издания в «Советском писателе» и «Лениздате» за непрочтение Набокова. Всем бы такое притеснение и гонение!
Да и совершенно не верится, что такой просвященный и породистый человек, как Андрей Битов, не имел доступа к запретным текстам. Если ж и у нас, сиволапых, имя Набокова было на слуху, то ему сам Бог повелел.
И можно было бы закончить на сем эпизод с воспоминаниями о непрочитанном Набокове, если бы не случайное прочтение грациозного эссе неувядаемой Беллы Ахмадулиной под небезынтересным заглавием «Робкий путь к Набокову».
Ох, как тяжко выдохнуть: поэт – это не женщина, а женщина – это не поэт!
Но, в порядке исключения, я к Ахмадулиной относился и отношусь очень хорошо, почти влюбленно. Но радуюсь, что она ко мне никак не относится, и надеюсь на свое дальнейшее пребывание в неизвестности для этой высокоутвержденной и высокопоставленной дамы.
Но уж больно резанула меня такая продыхновенная фразочка:
«…Новехонькая полночь явилась и миновала – и самое время оказаться в Париже шестьдесят пятого, по-моему, года. Ни за что не быть бы мне там, если бы не настойчивое поручительство Твардовского, всегда милостивого ко мне. (Знал, знал царедворный пан Твардовский, к кому надо быть милостивым!). Его спрашивали о „Новом мире“, Суркова – об арестованном Синявском и Даниэле, меня – о московской погоде и о Булате Окуджаве, Вознесенского окружал яркий успех.
…Синявский и Даниэль обретались – сказано где, Горбаневская еще не выходила с детьми к Лобному месту, я потягивала алое вино».Впечатляющая картина возникает, очень впечатляющая. Почему-то не упомянут отбывающий ссылку Иосиф Бродский, но, сами понимаете, – Париж, «яркий успех, алое вино».
М-да, лихо гоняли по заморским далям страдальцев-шестидесятников злобные коммунистические партвласти.
Далее поэтесса описывает встречу с писательницей русского зарубежья, эмигранткой первой волны Аллой Головиной. Ох, уж это цитирование! Как оно утомительно, да и неинтересно, в конце концов! Но продолжу с тяжким сердцем:
«„А вы, – неуверенно, боясь задеть меня, спросила Алла Сергеевна, – знаете ли вы Набокова, о Набокове? Ведь он, кажется, запрещен в России?“
Этот экзамен дался мне несколько легче: я уже имела начальные основания стать пронзенной бабочкой в коллекции обожающих жертв и гордо сносить избранническую участь. За это перед прощанием Алла Сергеевна подарила мне дорогую для нее „Весну в Фиальте“. Прежде я не читала этой книги, не держала ее в руках, пограничный досмотр мной не интересовался, и долго светила мне эта запретная фиалковская „Весна“ в суровых сумерках московских зим».
Счастливый человек Белла Ахмадулина! Почему-то не интересовался ею пограничный досмотр, – и запретный Набоков спокойно проследовал в СССР, дабы скрашивать угрюмые сумерки Москвы. Воистину счастливый человек Ахмадулина Белла! Хоть ей светило что-то…
Эх, жизнь наша непутевая! И почему саднит душу гениальное: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!» Но кому-то всё-таки светит и светит.
А вот другим и встарь, и ныне, ничего не дано, кроме света звезды полей. Других упорно отрубали от русской культуры, выдворяя из стен жалкого общежития Литинститута не в Париж, а в бездомные, смертельные морозные ночи России. И не какие-то мифические масоны-мусюны сие творили, а властолюбивые русаки со знаком ячества типа Твардовского, Суркова и Софронова с Прокофьевым.
По их благорасположению надувались мыльные пузыри славы Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы и прочих второстепенных литераторов. Это они стояли у истоков подмен, не страшась пламени адского в государственной мерзости атеизма и чужебесия.
Ахмадулина наверняка не ведала, чьей разменной картой она была в сей страшной игре – и бессознательно жила чужой игрой, как своей жизнью.
А впрочем?! Да нет, не ведала. И вообще – от красивой женщины не надо ничего требовать, кроме красоты. Даже талантливых стихов. Красивая женщина и без стихов есть истинная поэзия. И плюньте в лицо тупице, с пафосом изрекающему тысячелетнюю глупость:
«…Сократ мне друг, но истина дороже!»
Не может быть дороже истинного друга и человека никакая самая высокая истина. И бессмертно великое молчание Христа на безнадежный вопрос Пилата:
«Что есть истина?»О, полночные танцплощадки моей юности! О, щемящее, медленно-жгучее танго из таинственных глубин Останкинского парка! О, как неудержимо влекло туда из душного общежития!
В зеленую поющую тьму, в ревнивое световое кружение.
Вперед! Без оглядки! И ничего не жаль – ни разорванных рубах, ни разбитых губ!..
И ничего не страшно, и плевать на подлые ножи, и на свистки милицейские!
К чертям – весенние заботы студенческие! К чертям – черновики с неверными строчками!
Жизнь – это любовь и музыка! Вперед, в вечность! А время пусть подождет!
И въявь вижу грустную улыбку Рубцова. Он отстает от нас, сворачивает к пивной возле платформы Останкино – и, прежде чем исчезнуть в ее смрадных недрах, кричит что-то ободряющее вослед.
А с танцплощадки навстречу нам летит в теплую тьму мелодия и слова:«Под небом Парижа, под небом Парижа в вечерний час!..»
Увидеть Париж – и умереть! Какой красивый слоган. Увидели, но не умерли.
А Рубцову оставалось всего пять лет на всё про всё на этом свете. Но никто, кроме него, не ведал об этом. Но, быть может, сам Рубцов отказывался верить своим тяжким предчувствиям, ведь еще не было написано: «Я умру в крещенские морозы…».
Ведая неизбежное, он силился преодолеть свое яснознание, ибо оно владело им, но не принадлежало ему. Преодолеть прежде всего стихами. И не об этом ли замечательно и грустно он сказал:И всей душой, которую не жаль
Всю утопить в таинственном и милом,
Овладевает лунная печаль,
Как лунный свет овладевает миром.
А иногда, наперекор всему, браво, игриво и бесшабашно прогнозировал свое грядущее:
Стукнул по карману – не звенит!
Стукнул по другому – не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.
Одни увидели Париж – и не умерли, и весь свет исколесили и одурачили, а Рубцов погиб, стал знаменит, но так и не отдохнул ни в Ялте, ни в иных уютных местах в краткое время своего земного бытия перед полным слиянием с милосердной вечностью и немилосердным бессмертием.
О, Боже, Боже, почему душа иногда отказывается сама себе верить?! Почему я упорно не могу понять, что давным-давно нет на свете Николая Рубцова, что навеки утолились его страсти земные и жажда жизни земной, – и нет ему нужды ни в Ялте, ни в Набокове?..
Эх, почему бы в тот тихий, летний вечер не оказаться бы Белле Ахмадулиной в нашей шумной компании, в нашем молодом общежитском застолье!
Ей Богу, не разочаровалась бы! Враз, без сожаления, забыла бы и Париж, и «яркий успех» дурилы Вознесенского, и литгенералов-старперов, и чужое алое вино. Куда ему до наших родимых перцовки и вермута! А под гитару и песни Рубцова в нашем молодом кругу враз развеялись бы мелким дымом все горести и болести доверчивой, красивой женщины. Глядишь – и запретный Набоков, «Весна в Фиальте», аж из Парижа оказался бы у нас и был бы непременно прочитан.
Но если бы да кабы!.. Кому рога, а кому и гробы… И еще почему-то упорно лезет на ум совсем дурацкая присказка: «Нечего менять шило на мыло, коль стоишь по уши в дерьме».
Да мало ли что может блазниться утомленному сознанию в мороке сил враголюбивых…
Почему, например, не могли уговорить Набокова наши литературные полпреды на посещение СССР, да и на возвращение, в конце концов! Ведь он, по свидетельствам современников, неоднократно весьма благосклонно высказывался на сей счет.
Кто только не шастал в наше социалистическое отечество в шестидесятые и семидесятые годы, от Жана Поль Сартра до Жана Поль Бельмондо… И официальные власти из кожи вон лезли, ублажая заграничных гостей, дабы не слыть в глазах мировой общественности (ох, уж эта общественность!) кровавыми монстрами коммунизма. И многие эмигранты наезжали в СССР. Политика разрядки стояла во главе подгнивающего угла лагеря социализма.
Да, ежели б удалось залучить Набокова в Москву, то встретили бы его по высшему разряду, с коньяками и колоколами. Родовое имение Набоковых было бы за ночь реставрировано и обложено ковровыми дорожками. А уж издатели расстарались бы – и имели бы мы собрание сочинений Набокова на двадцать лет раньше. Наверняка и сам Леонид Ильич Брежнев не промахнулся б – нацепил бы Набокову на лацкан орденок «Дружбы народов» или, на худой случай, «Знак почета», и заодно себе под международный шумок очередную звездочку на маршальский мундир.Но пора, пора выбираться из бесплодной тщеты литературных фантазий и русских мечтаний. Но куда?! В окраинную пивнушку близ общежития Литинститута у платформы Останкино или сквозь зеленую тьму молодых растений на музыку и свет танцплощадки?
Но давным-давно, еще при жизни Рубцова, под зловещее кукование динамика «Ос-то-рож-но! Бере-гись по-ез-да!» снесено с лица околожелезнодорожной земли душевное прибежище пьющих поэтов и не поэтов, а из недр вечернего парка не музыка слышна, а рев и визг звериной дискотеки.
Но надо все-таки куда-то выбираться. Например, в никуда из ниоткуда. Или еще куда подальше, совсем далеко-далече от правды и поэзии. Нет, что вы ни пишите, что ни говорите, господа и госпожи хорошие и нехорошие, но пить надо все-таки меньше! И читавшим, и непрочитавшим Набокова!.. И близ железной дороги, и вдали от оной!. И в Москве, и в Париже – и даже в вагоне-ресторане поезда «Австралия – Сахалин»!..
И я ни о чем не мечтаю, кроме жизни, которой живу в данное мгновение, – и иной жизни не желаю. И все-таки немного жаль, что нам не удалось совместно с Рубцовым прочитать Набокова. Жаль упущенной возможности или невозможности. И себя жаль, и Набокова, и Рубцова, и Ахмадулину, в конце концов! Но, увы, всех живущих на свете сем не пережалеешь, но стремиться к невозможному никому не возбраняется.